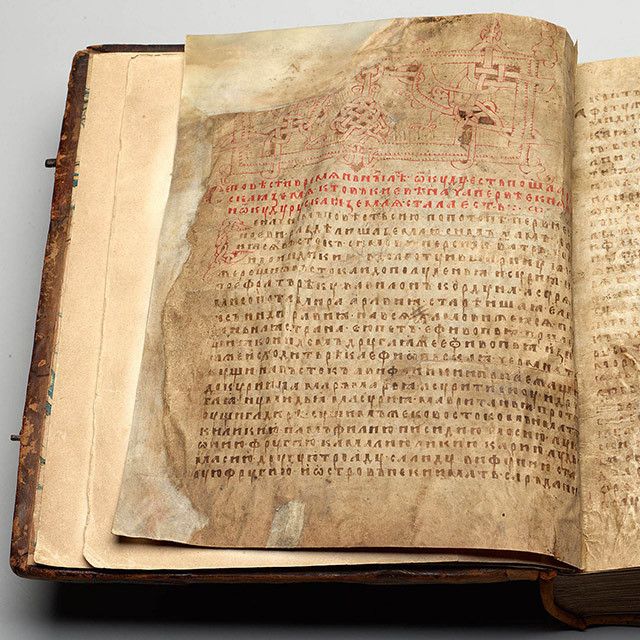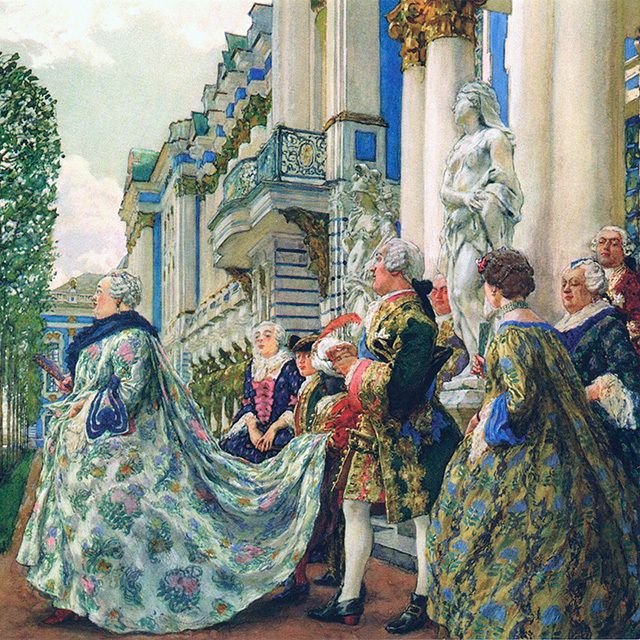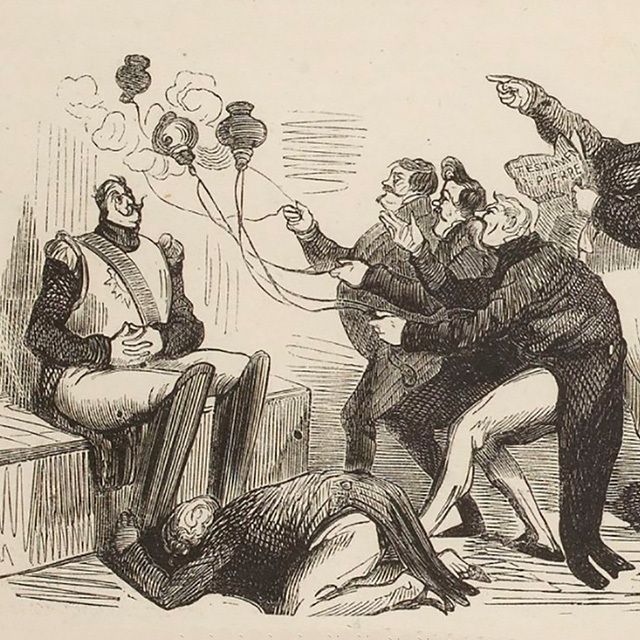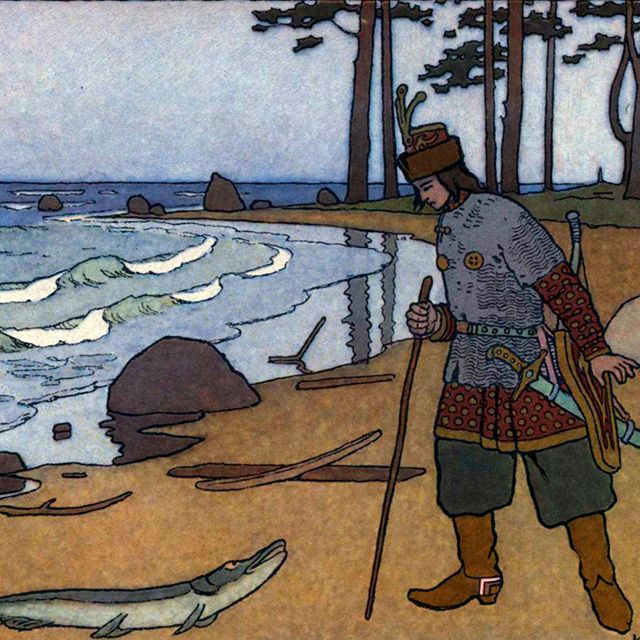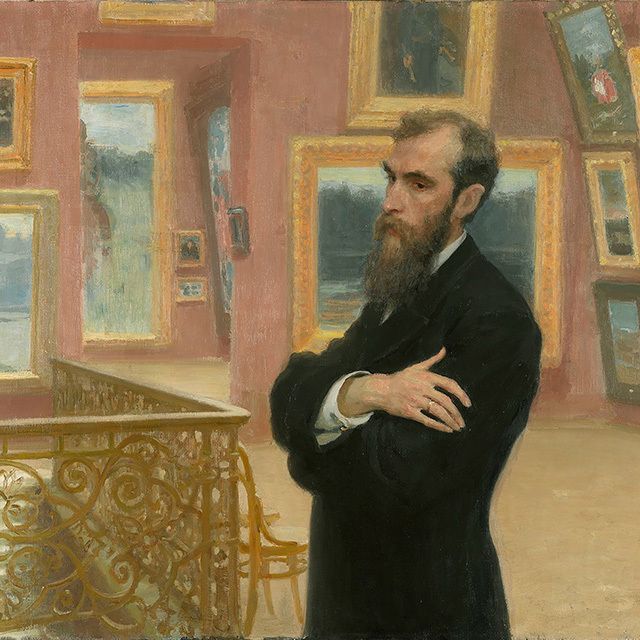Большой террор и советская литература
Осенью 1922 года, через пять лет после Октябрьского переворота, резко изменившего жизнь страны, из России в Европу поплыл пароход (а за ним — второй), битком набитый умнейшими людьми России. Их высылали насильно, под угрозой смертной казни. Новые хозяева страны во главе с Лениным увидели в мыслителях дореволюционной закалки опасных врагов, хотя, как пишут авторы книжки «Высылка вместо расстрела», «профессура не бегала с винтовками, не бросала бомбы и не стреляла из-за угла».
Но тут все ясно: большевики хотели получить возможность установить полный контроль над умами. Для этого и было необходимо удалить «из страны интеллектуальную элиту — тех людей, которые могли мыслить свободно, самостоятельно анализировать обстановку и высказывать свои идеи, а зачастую и критиковать существующий режим». Надо иметь в виду, что они имели тогда доступ к публике. На лекциях Бердяева люди стояли на деревянных лестницах и слушали.
Высылка граждан под странным для любой демократической страны предлогом (в сущности, его можно было так объявить: «Не сошлись во взглядах!» — и даже не политических взглядах, а в основном философских) недвусмысленно засвидетельствовала и перед страной, и практически перед всем миром: власть хочет оставить в стране под своим началом как можно меньше людей образованных и самостоятельно мыслящих и как можно больше тех, кто бездумно пойдет туда, куда она, эта власть, их поведет.
Вообще, надо помнить, что одно из худших насилий над человеком — это насильственное лишение его родины. Ленин считал нормальным насилие над человеком, в частности выдворение его за пределы родины. Он обещал управлять страной при помощи насилия (то есть диктатуры одного класса над всеми другими), не скрывал этого (надо отдать ему должное) и твердо пошел по этому пути.
Высылка впоследствии получила название «Философский пароход». Это стало некоей точкой отсчета: с нее в ХХ веке начался драматический раскол единой русской культуры. Многие из этих людей успешно преподавали на родине и надеялись и дальше учить российских студентов; другие успешно, скажем, лечили людей. Но им этого делать не дали. Значительная часть высланных впоследствии прославила свое имя. Но, увы, уже не в России, а в Европе или США.
Сама идея отправить на пароходе из страны людей, которые иначе мыслят, и ждать от такого действия ускорения строительства социализма, конечно, попахивала абсурдом. Не исключаю поэтому, что именно это стойкое впечатление абсурда подтолкнуло впоследствии художественную мысль Андрея Платонова, породив, возможно, одну из самых трагических в литературе советских лет повесть «Котлован» 1930 года.
Платонов, на мой взгляд, совсем не стремился написать нечто фантастическое, сюрреалистическое, гротескное. Он намеревался, ничего не сглаживая (как это делали другие писатели), в полном смысле слова буквально передать восприятие полуграмотными людьми, прекрасно знающими только свое крестьянское дело, немыслимой, не похожей ни на что известное до сих пор реальности. Такой реальности, где уничтожение людей становится бытом, — да еще и связывается прямым, но непостижимым образом с наступлением светлого будущего для уцелевших.
В повести беднота уже согласилась идти в колхоз, а «середняки» просят разрешения еще помедлить.
«— Дозволь, товарищ актив, еще малость средноте постоять, — попросили задние мужики, — может, мы обвыкнемся: нам главное дело привычка, а то мы все стерпим».
И вот активист дозволяет — пока не успели сколотить бревна в один блок.
«— А к чему же те
бревна-то ладят, товарищ активист? — спросил задний середняк.
— А это для ликвидации классов организуется плот, чтоб завтрашний день кулацкий сектор ехал по речке в море и далее…».
И вот крестьяне и так и сяк примеряют совершенно им непонятное, но то и дело звучащее в эти годы со всех сторон слово «ликвидация». Ведь было выражение «ликвидация кулачества как класса». Оно так же чуждо языковому сознанию крестьян, как слово «коллективизация». И только постепенно они осознают, что оно значит «смерть».
Плот доделан, и «по слову активиста кулаки согнулись и стали двигать плот в упор на речную долину». И вот один из активистов, Жачев, наблюдает «за кулачеством, чтобы обеспечить ему надежное отплытие в море по течению и сильнее успокоиться на том, что социализм будет». То есть для того, чтобы социализм получился, необходимо погубить, то есть сплавить по реке в открытое море, где они погибнут, некоторое количество людей — совсем недавно хорошо знакомых соседей.
Конечно, Платонов с потрясающей открытостью и адекватностью показал происходящее. За 1930–1931 годы на спецпоселение из родных домов было отправлено около 400 тысяч семей общей численностью около двух миллионов человек (среди них были и высланные в один день родные поэта Твардовского). Крестьянские семьи были многодетны, немалая часть детей погибала и по дороге, и в не приспособленных для жизни условиях. Это и изображает Платонов в повести, которая была напечатана более чем через полвека после ее создания.
«Ликвидировав кулаков вдаль, Жачев не успокоился… Он долго наблюдал, как систематически уплывал плот по снежной текущей реке… <…> Вот уже кулацкий речной эшелон начал заходить на повороте за береговой кустарник, и Жачев начал терять видимость классового врага.
— Эй, паразиты, прощай! — закричал Жачев по реке.
— Про-щай-ай! — отозвались уплывающие в море кулаки».
Заметим, «паразиты» — это не просто бранное слово, как можно было бы подумать. Это уже термин. Жачев цитирует строки «Интернационала»:
Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право,
Но паразиты — никогда!
Ленин, заметим, многих из отправленных им из России на «философском пароходе» знал лично, а с иными состоял в начале века в одной партии. И хочется мне понять, кричал ли он им в душе: «Эй, паразиты, прощай!»?
Описывать аресты и расстрелы, лавиной повалившие по ленинскому плану ускорения мировой революции с первых же послеоктябрьских дней, было негласно полностью запрещено на протяжении всего советского времени; прорывы появились в эпоху оттепели.
Именно по этой причине осталась ненапечатанной в течение 66 лет повесть Зазубрина «Щепка», написанная в 1923 году. Там описано с буквальной, видимо, точностью, как приговоренных к расстрелу по пять человек ведут в подвал, принуждают раздеться догола, повернуться лицом к стенке. Дальнейшие цитаты, как любят предупреждать, слабонервные могут не слушать.
«Больно стукнуло в уши. Белые сырые туши мяса рухнули на пол. Чекисты с дымящимися револьверами быстро отбежали назад и сейчас же щелкнули курками. У расстрелянных в судорогах дергались ноги. Тучный с звонким визгом вздохнул последний раз. Срубов [чекист, главный герой, который не выдержал такой работы и в конце повести впадает в безумие] подумал: „Есть душа или нет? Может быть, это душа с визгом выходит?“.
<…>
Двое в серых шинелях ловко надевали трупам на ноги петли, отволакивали их в темный загиб подвала. Двое таких же лопатами копали землю, забрасывали дымящиеся ручейки крови. Соломин, заткнув за пояс револьвер, сортировал белье расстрелянных. Старательно складывал кальсоны с кальсонами, рубашки с рубашками, верхнее платье отдельно».
И вот пятнадцать лет спустя таким же образом был расстрелян и сам автор повести, и автор предисловия к ней.
Известно, что рукопись читал Дзержинский. Она ему понравилась, но публикацию он определил как «несвоевременную» — в отличие от расстрелов, которые были «своевременны». И Дзержинский еще уверенно, настойчиво просил: дайте нашей ЧК право смертной казни, нам очень нужно.
И «Щепка», и «Котлован» предназначались авторами для печати, но не попали в нее своевременно. А как обстояло дело в литературе печатной, все-таки вошедшей в литературный процесс 1920–30-х годов?
Поэму «Страна Муравия» Твардовский пишет с намерением поддержать коллективизацию. Он истово верит в необходимость высылки родителей как кулаков. Он считает, выхода нет. И по предложению секретаря обкома — чтобы остаться на поверхности общественной жизни, не быть «подкулачником» (как его вовсю уже называют в смоленских газетах) и реализовать свой талант, в который он верит, что очень важно, — отказывается от них.
Любят говорить о том, как он отказался, но забывают о том, что, написав «Страну Муравию», он тут же, еще только отдав ее в печать, тут же поехал за родителями — вывозить их оттуда. До этого у него не было такой возможности. И он вывез их в Смоленск.
Но так как талант всегда сильнее любых политических убеждений, в поэме Твардовского, в описании процесса раскулачивания, появляются строфы, зачеркивающие, в сущности, политическое задание поэмы (оправдать коллективизацию):
— Их не били, не вязали,
Не пытали пытками,
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками.
А кто сам не шел из хаты,
Кто кидался в обмороки –
Милицейские ребята
Выводили под руки…
Надо ли говорить, что из первой публикации 1936 года цензура эти строфы выкинула? Вернуть их в печатный текст поэмы автору удалось только гораздо позже.
К концу первого цикла литературного процесса советского времени (по моей структуре этот цикл шел с 1917 по 1941 год) накопилось огромное количество вытесненного, замолчанного. Но то, что нельзя было описать, не исчезало вовсе из творческой работы подлинных литераторов, а давило на них. И проступало необычным, не сразу различимым образом. Литература второй половины
В повести Гайдара «Судьба барабанщика» 1938–1939 годов, одном из самых интересных, на мой взгляд, и ярких сочинений конца 30-х годов, сложно сплетались разные пласты художественной реальности. В повести рисуется один мир — вернее, туманная, плывущая проекция этого мира. А сквозь него проглядывает — или, скорее, подает неясные сигналы — другой.
Надо помнить, что повесть была задумана им, чтобы в
«И тут я понял, что этот народ едет веселиться в Парк культуры, где сегодня открывается блестящий карнавал».
И вот герой повести, подросток, едет туда на метро, платит за маску, встречает в парке знакомую и симпатичную ему девочку.
«Мы взбирались на цветущие холмы, спускались в зеленые овраги… <…> Не раз попадались нам навстречу добрые звери и злобные страшилы и чудовища. Маленький черный дракон, широко оскалив зубастую пасть, со свистом запустил мне еловой шишкой в спину. Но, погрозив кулаком, я громко пообещал набить ему морду, и с противным шипением он скрылся в кустах…».
Реальный мир, который нельзя изобразить буквально, просовывает свои невидимые руки меж картонных деревьев Парка культуры, среди веселых и страшных масок.
Тут нужно сказать несколько слов про важного персонажа повести — «дядю». «Дядя» потому и получается у Гайдара столь выразительным (пожалуй, это едва ли не самый выразительный персонаж в повести), что за ним — невыраженный, неизвестный псевдосчастливчикам из Парка культуры, но неподдельный мир. Не все читали повесть, поэтому я поясню: мальчик остается один в квартире, отец его в тюрьме, а мачеха уехала со своим приятелем. Однажды он застает там незнакомого человека — тот уверяет, что он брат его мачехи Валентины, и предлагает звать его дядей, но он совсем не имеет никакого к нему отношения, и там сложная история этого человека.
В рассказе «дяди» в поезде по дороге в Киев, куда он везет мальчика, вдруг проступают самые подлинные реалии скрытой от глаз современника жизни. Он рассказывает про некоего узника в лагере: «Узник же получал, как вы сами понимаете [хотя никто ничего этого не понимает!], всего шестьсот граммов, то есть полтора фунта». То есть «дядя» издевался над теми, кто еще не сидел и не знал того мира. Рассказано, как «по пути с дровозаготовок узник оттолкнул конвоира и, как пантера, ринулся в лес, преследуемый зловещим свистом пуль».
Затем в поле он «выдал себя за ответственного работника, приехавшего на посевную» и «скрылся, как вы уже догадываетесь, продолжать свое опасное дело на благо народа, страждущего под мрачным игом проклятого царизма». Он нарочно переводит дело в дооктябрьскую Россию.
«Слушатели расхохотались…
— Ведь ничего этого вовсе так не бывает [подает слабый голос один из слушателей]».
Но как бывает? Этого из слушателей в повести не знает никто.
Один из важных в создании этой двойственности фрагментов — описание станции Московского метрополитена, на которой оказывается герой повести по дороге в парк. На двойное прочтение этого описания настраивает первая же фраза: «Точно
«Поезда только что прошли в обе стороны, и на платформах никого не было. Из темных тоннелей дул прохладный ветерок. Далеко под землей тихо
что-то гудело и постукивало. Красный глаз светофора глядел на меня не мигая, тревожно».
Посмотрите, как, казалось бы, избыточно такое описание метро, — но не зря все это у Гайдара. Это тянет из весьма далеких тоннелей могильным холодом, преобразованным в прохладный ветерок. Это оттуда глядит тревожно красный глаз невидимой, но миллионами ощущаемой беды и гибели, о которой Гайдар не может сказать буквально. И вот тревожное ожидание разрушается:
«Вдруг пустынные платформы ожили, зашумели. Внезапно возникли люди. Они шли, торопились. Их было много, но становилось все больше — целые толпы, сотни…»
Явная избыточность описания толпы в метрополитене — но
В конце повести — перифраз фрагментов из книги о Беломорканале, уже запрещенной ко времени печатания «Судьбы барабанщика». Там человек говорит: «…Я взрывал землю, я много думал и крепко работал». Это цитата из «Судьбы барабанщика», но она буквально почти цитирует «Беломорканал»: «И вот меня выпустили…» — это говорит вернувшийся отец героя.
Так вот, эта книга о Беломорканале — писатели сели на пароход и поехали смотреть лагеря тех, кто строит Беломорканал. Жуткое довольно путешествие, конечно, во главе с чекистами. Потому что
Книга о Беломорканале состояла из очерков самых известных наших писателей. Очень тяжело видеть их подписи под этими очерками. Но эту книгу очень быстро запретили, потому что в ней оказались имена тех, кто в ближайшие же годы был арестован, расстрелян и так далее. Сначала Ежов расстрелял Ягоду, главу НКВД (и сам Ягода не мог упоминаться), потом расстреляли самого Ежова — Берия, пришедший на смену в 1938 году. А потом уже, после смерти Сталина, расстреляли и Берию. Но все они думали, что только они могут расстреливать других людей, а сами уцелеют. Это была большая ошибка.
Очень важно помнить, что многие представители тогдашней советской интеллигенции приветствовали террор и участвовали в его воспевании.
Герой повести читает книжку о мальчике-барабанщике, которого заподозрили в измене:
«Ярость и негодование охватили меня… „Это я… то есть это он, смелый, хороший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокий, всеми покинутый, с опасностью для жизни подавал тревожные сигналы“».
Так повесть проецируется на современность.
«…У меня заболела голова и пересохли губы… <…> Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Свет от огромного фонаря, что стоял у нас во дворе, против метростроевской шахты, бил мне прямо в глаза».
Даже вот эта фраза многим впоследствии должна была кое-что напомнить. Потому что это был способ допроса: чтобы свет обязательно бил в глаза. «Пошатываясь, я встал, подошел к крану, напился…» — нельзя не поставить перед собой вопрос, перечитывая сегодня: у кого это такая физическая разбитость, боль? Это подросток. Кому не дает спать свет, бьющий ночью прямо в глаза? На подростка проецируются беды взрослых людей, несомненно.
Взглянем на иллюстрации, которые встречаются герою в старом журнале «Нива».
«Какие-то проворные палачи кривыми короткими саблями рубили головы пленным китайцам. А те, как будто бы так и нужно было, притихли, стоя на коленях. И не видать, чтобы
кто-нибудь из них рванулся,что-нибудь палачам крикнул или хотя бы плюнул».
Невозможно не подумать: про какую же страну и какое время это говорится? Явно не про китайцев.
«Я вышел и в тамбуре остановился. <…> Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи
какая-то железка».
Все время эти сигналы. Рубят головы — правда, давно, на картинках, в Китае. Звучат вроде выстрелы, но вроде они и не выстрелы. А вот и еще
«…Во дворике промелькнуло лицо старухи. Волосы ее были растрепаны, и она
что-то кричала.
Тотчас же вслед за ней из кухни с топором в руке выбежал ее престарелый сын; лицо у него было мокрое и красное.
— Послушай! — запыхавшись и протягивая мне топор, крикнул он. — Не можешь ли ты отрубить ей голову?
— Нет, нет, не могу! — завопил я, отскакивая… — Я… я кричать буду!
— Но она же, дурак, курица!».
Вот тут и задумаешься: значит, это курица — но прозвучала тревожная нота.
«Я пробрался к себе и лег на кровать. <…> Чтобы отвлечься, я развернул и стал читать газету [Задумаемся: это мальчик отвлечься хочет — или же взрослый, замученный странной, тягостно-необъяснимой жизнью человек?]. Прочел передовицу. В Испании воевали, в Китае воевали. Тонули корабли, гибли под бомбами города. А кто топил и кто бросал бомбы, от этого все отказывались».
С одной стороны, вроде, не про нас. А с другой стороны, все же есть ощущение, что гибель ходит
«А вот, стоп!.. Я сжал и подвинул к глазам газету. А вот… ищут меня… „Разыскивается мальчик четырнадцати лет, Сергей Щербачов. Брюнет. На виске возле левого глаза родинка“.
<…>
„Разыскивается…“ Слово это звучало тихо и приглушенно. Но смысл его был грозен и опасен.
Вот они скользят по проводам, телеграммы: „Ищите! Ищите!.. Задержите!“ Вот они стоят перед начальником, спокойные, сдержанные агенты милиции. „Да, — говорят они… — Этот лживый барабанщик, которого давно уже вычеркнули из списков четвертого отряда [можно вспомнить сразу, как зачерняли в книгах имена арестованных — Бухарина и так далее], вероятно, будет плакать и оправдываться, что все вышлокак-то нечаянно. Но вы ему не верьте, потому что не только он сам такой, но его отец осужден тоже“».
Хотя отец осужден, по повести, за растрату (Гайдар не мог дать политическое обоснование), но все равно перед нами — как бы сын врага народа.
«Я швырнул зеркало и газету. Да, все именно так, и оправдываться было нечем».
Вот он, стараясь спастись, в парикмахерской стрижется наголо, чтобы перестать быть брюнетом. Виновен он только в том, что продал старьевщику мачехины вещи; отец же его, повторяю, осужден за растрату, а не по печально известной 58-й статье. Но задача Гайдара — передать, не выпадая из печати, душевное состояние детей «врагов народа» — их были миллионы, и он страшно им всем сочувствовал. Это дети, которые никоим образом не могли стать в те годы прямым предметом литературного изображения. Он находит косвенный путь, и ему это в высшей степени удается.
Вот герой повести слышит на улице, как
«— Мальчик, пойди-ка сюда!
Я обернулся. Почти рядом, на углу, возле рычага, который управляет огнями светофора, стоял милиционер и рукой в белой перчатке подзывал меня к себе… <…> Первым движением моим была попытка бежать. Но подошвы как бы влипли в горячий асфальт, и, пошатываясь, я ухватился за блестящие поручни перед витриной магазина.
„Нет, — с ужасом подумал я, — бежать поздно! Вот она и расплата!“
— Мальчик! — повторил милиционер. — Что же ты стал? Подходи быстрее.
Тогда медленно и прямо, глядя ему в глаза, я подошел».
И оказывается, у
«Он повторил это еще раз, и только тогда я его понял. Я не помню, как перешел улицу, надавил кнопку и тихо пошел было своей дорогой, но почувствовал, что идти не могу…».
Смело можно сказать, что никто в печатной литературе тех лет не передал с такой драматической силой этого самоощущения несчастных оставшихся в одиночестве подростков и гневного протеста (который мы увидим в дальнейших выкриках Сергея) взрослого автора против проделанного с этими подростками.
«…И круто свернул в первую попавшуюся подворотню.
Крупные слезы катились по моим горящим щекам, горло вздрагивало, и я крепко держался за водосточную трубу.
— Так будь же все проклято! — гневно вскричал я и ударил носком по серой каменной стене. — Будь ты проклята, — бормотал я, — такая жизнь, когда человек должен всего бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь! Я не хочу так! Я хочу жить, как живут все».
Напоследок — еще один роман тех лет, предназначавшийся автором для печати, но попавший в советскую печать лишь через четверть века после его смерти.
Булгаков дописывал роман «Мастер и Маргарита» в атмосфере Большого террора (термин этот ввел в обиход автор книги под этим названием, американский ученый Роберт Конквест), когда количество граждан страны, ежедневно арестуемых в качестве «врагов народа», превысило возможности человеческого воображения. Пройти мимо этого писатель масштаба Булгакова просто не мог. А описывать впрямую тоже было невозможно. Тогда Булгаков выбирает единственно возможную форму (не все это понимают, и некоторые его даже осуждают за это) — гротескно-ироническую — для изображения таинственных исчезновений жильцов квартиры № 50. Он показывает, как уводили людей в тюрьму.
Дурашливым тоном, а на самом деле играя с огнем, автор описывает, как, по рассказам жильцов, в ночь исчезновения последней жилицы, домработницы Анфисы, «будто бы в № 50 всю ночь слышались
Вот этот способ и стал главным для описания террора в романе. И сегодняшних подростков, влюбленных в роман, от души веселят реплики его персонажей:
«— А что это за шаги такие на лестнице?..
— А это нас арестовывать идут…»
Это говорит нечистая сила, и ей ничего не грозит. Но на самом деле описано, как шаги эти означали конец жизни для тех, кто их слышал.