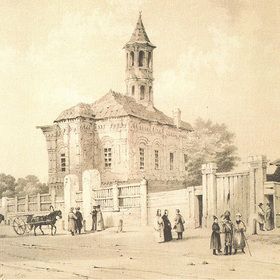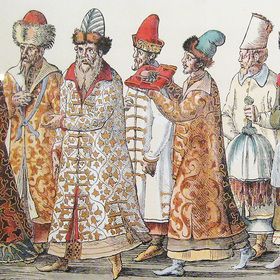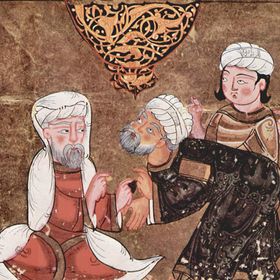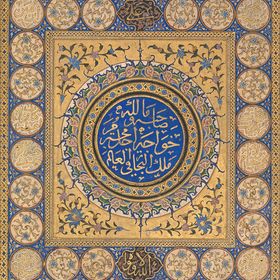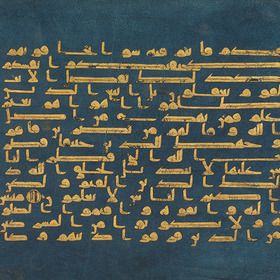Курс
Краткая история татар
- 5 лекций
- 3 материала
Пять очень коротких лекций об очень непростой истории татар, а еще огромный путеводитель по городам, где жили и живут татары, самые главные татарские застольные традиции и самые важные татарские слова
Курс был опубликован 11 апреля 2019 года
Этот курс доступен по подпискеПодписка — это доступ ко всем нашим курсам, подкастам и множеству других аудио об истории и культуре. Она стоит 399 ₽ в месяц или 2999 ₽ в год
Если у вас уже есть подписка, нажмите