Языки архитектуры XX века
- 6 лекций
- 4 материала
Лекции о том, как возникли и преображались архитектурные стили, которые нас окружают, а также путеводитель по этим стилям, музыкальная игра и тест, помогающий выбрать идеальный дом


Лекции о том, как возникли и преображались архитектурные стили, которые нас окружают, а также путеводитель по этим стилям, музыкальная игра и тест, помогающий выбрать идеальный дом
В современных архитектуре, дизайне и моде — почти во всем, что нас окружает сегодня, — большинство идей было придумано в первой половине и в середине XX века. Когда мы оцениваем дом, выбираем обои, или мебель, или даже вазочку, мы сталкиваемся иногда с далеким эхом этих поисков, а иногда с последовательным использованием одного из шести стилей, которым посвящен этот курс.
Само слово «стиль» могло бы потребовать отдельной дискуссии, но мы не будем очень строги. В каждой лекции мы поговорим о том, что вдохновляло архитекторов и дизайнеров, почему их идеи имели успех у публики и о чем нам сегодня говорят линии, объемы, цветовые решения, детали.





Вернемся более чем на 100 лет назад и отправимся в Париж, на Всемирную выставку 1900 года. Такие выставки проходили регулярно на протяжении всего XIX века в разных странах. На них выставляли передовые технологии и искусство, свои павильоны строили и государства, и отдельные компании и предприниматели. К парижской выставке 1900 года были построены грандиозные павильоны Гран-Пале и Пти-Пале, которые стоят и сейчас, а также многое другое, что не сохранилось, в том числе и большой глобус высотой с многоэтажный дом у подножия Эйфелевой башни.





Выставку посетили 50 миллионов человек, и кроме архитектуры и предметов быта они могли видеть выдающиеся достижения технологического прогресса: электрический поезд на поднятых на эстакаду железнодорожных путях, колесо обозрения высотой больше 100 метров, а также кинематограф. В павильонах кроме техники посетителей ждали и многочисленные предметы современного дизайна.
Темой выставки был «Взгляд на уходящий век», и архитекторы и кураторы с удовольствием предавались ностальгии. А ведь XIX век был полон событий и открытий — было что вспомнить! Главные здания были выполнены в актуальном тогда стиле бозар, составленном из фрагментов ренессанса, барокко и классицизма. При этом при строительстве зданий были использованы самые новые технологии, в первую очередь металлические конструкции, которые поддерживали высокие стеклянные своды этих дворцов. А российский павильон, спроектированный петербургским архитектором Робертом-Фридрихом Мельцером, вообще напоминал древнерусский кремль — на протяжении десятилетий наша страна представляла себя на международных выставках в образах русской старины, к удовольствию европейской публики и неудовольствию прогрессивной критики в России.




С предметами быта, выставленными в павильонах, происходило то же самое: многие современные вещи, от посуды до электрического лифта, от платья до кареты трамвая, тоже выглядели так, как если бы их сделали сто лет назад. Возникал странный эффект — в павильонах с исторической архитектурой были установлены суперсовременные машины, а вещи, произведенные на заводах и фабриках, выглядели так, как будто их сделали ремесленники.
Это странное соединение устремленности и в прошлое, и в будущее было характерно для всего XIX века. Комментируя еще выставку 1851 года, критик Готфрид Земпер заметил, что современная промышленность научилась массово производить многие предметы обихода, она помогает архитекторам возводить крупные здания, но остается скрыта от наших глаз эстетикой прошлых веков. Вещи, сделанные на заводах и фабриках, выглядят как предметы, произведенные вручную сто лет назад. Металлические конструкции скрываются под толстым слоем штукатурки, имитирующим классические колонны. Надо найти такой эстетический язык, который отвечает новым технологиям, писал Земпер, потому что у каждого времени должен быть свой язык.
С Земпером были согласны очень и очень многие. Английский критик, идеолог эстетического движения и вдохновитель группы «Искусства и ремесла» Джон Рёскин прямо говорил, что в архитектуре и ремесле есть правда и ложь. С его точки зрения, было просто аморально с помощью штукатурки имитировать мрамор и производить на мануфактуре мебель, которая подражает средневековым образцам. Правда, сам он как раз больше любил Средние века и готику.
Французский архитектор Виолле ле Дюк, который прославился как знаток готики и реставратор собора Парижской Богоматери, был одним из самых жестких критиков архитектуры, торжествовавшей на Всемирной выставке (правда, он умер за 20 лет до нее). Он называл здания в стиле бозар «бледными подделками, беспорядочными грудами реминисценций», упрекал архитекторов в том, что «избыток деталей скрывает бедность замысла, отсутствие идей». При этом, замечал он, получаются здания, неудобные для публики, даже плохо построенные: «здания, ничего не говорящие ни уму ни сердцу; огромные расходы, которые нас удивляют, но никогда никого не трогают» Э. Виолле ле Дюк. Беседы об архитектуре. Т. 1. М., 1937..
Требование найти в современности ее собственную гордость высказывали и многие другие: от декадента Бодлера до коммуниста Маркса. Но новых технологий самих по себе было недостаточно для создания нового художественного языка — нужны были и новые идеи. В середине XIX века их еще не было, а вот к концу они появились.
Общее настроение этой эпохи получило
Философы, психологи, проповедники вдохновлялись этой мрачноватой картиной, чтобы погружаться вглубь человеческой души и исследовать ее самые темные стороны и потаенные мотивы. Вот несколько примеров.
Одной из центральных стала идея вырождения: цивилизация, культура, подобно больному человеку, приходит к финалу, мир болен психически. Чезаре Ломброзо считал, что по особенностям строения лица и анатомии можно опознавать преступников. Но это было только частным применением его более общей идеи, что физическое и духовное развитие тесно связаны и что человеку вредны любые отклонения от нормы, будь то преступление или произведение искусства (одна из его книг так и называлась — «Гениальность и помешательство»). Его последователь Макс Нордау написал книгу «Вырождение», в которой пытался доказать, что современный образ жизни и современная культура неизбежно приводят человека на грань психического истощения. Причем проявлением этого становятся не только банальные преступления, но и политический экстремизм, декадентская поэзия, авангардная живопись и т. д.
На рубеже веков выходят из печати самые первые, перевернувшие представления о психике книги Фрейда. Их культурное влияние было значительным, что было связано с общим интересом образованной публики к естественным наукам. Публика в эту эпоху вообще жадно интересовалась темами изнанки души — скрытых желаний, сексуальных извращений, неконтролируемых и мощных сил, скрытых внутри нас.




В руках призрака надпись: «Лучше Месмера и Калиостро…»
Абсолютно повальным было увлечение спиритизмом — верой в возможность контакта с умершими. С вызовом духов с середины XIX века экспериментировали президенты и императоры (например, Александр II), и никакие протесты ученых (например, Дмитрия Менделеева) и осуждающие окрики со стороны церкви не помогали. Возник отдельный жанр спиритической фотографии — попытки запечатлеть духа с помощью новой технологии. В начале XX века в России насчитывалось 160 спиритических кружков, а тираж журнала «Спиритуалист» достиг значительной по тем временам цифры: 30 тысяч экземпляров. На фоне упадка интереса к традиционным религиозным институтам распространяется интерес к разным другим видам духовного и мистического опыта: теософии, антропософии, древним мифам и легендам.
С другой стороны, рост городов и развитие капитализма дали возможность для появления целого нового класса людей, который можно называть буржуазией или средним классом. Как ни называй, но его важные свойства — много свободного времени, неплохое образование, отсутствие замков, дворцов и титулов. Если в начале и середине XIX века первые поколения буржуа были сосредоточены на своей деловой активности и мечтали сравняться с аристократией, то к концу века их внуки уже вовсю интересовались современным искусством и искали возможность выразить себя. К их услугам были новые предметы роскоши и магазины-пассажи, новые виды искусства — фотография и кино, новые виды транспорта (вот-вот начнется автомобилизация). Научные и квазинаучные, философские и эзотерические идеи подогревали их интерес к миру, его тайнам и тайнам человеческой натуры. А вот чего у них пока не было — это эстетики, которая могла бы все это объединить и которая при этом была бы новой, не заимствованной у старой аристократии, у прошлых веков.
Окажемся снова в Париже в 1900 году. От парадоксального соединения старого и нового, о чем я уже говорил, были избавлены некоторые небольшие павильоны, и к ним устремлялась более искушенная публика. Среди них — L’Art nouveau Bing, или «Новое искусство Бинга». По сравнению с гигантскими центральными павильонами он просто крохотный, но именно здесь было самое передовое искусство и дизайн.

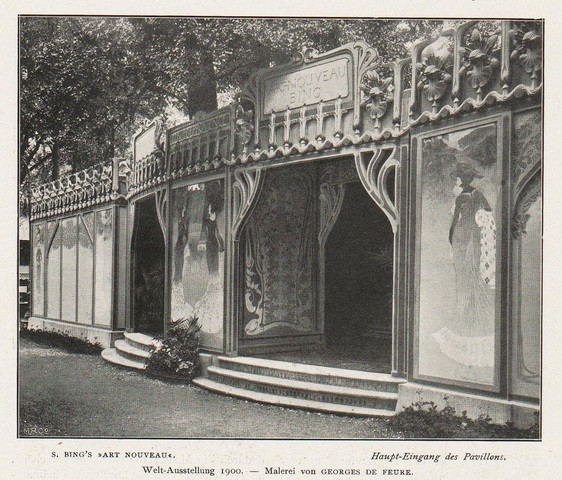




Владелец павильона — Зигфрид Бинг, представитель большой франко-немецкой коммерческой династии. Он торговал восточными товарами, японским искусством, фарфором, гравюрами.
Все это можно было увидеть и в павильоне Зигфрида Бинга на Всемирной выставке. Встречались похожие вещи и в других павильонах, однако именно название проекта Бинга, ар-нуво, стало именем нового стиля во Франции.
Увидеть «новое искусство» можно было не только на выставке, но и в городе. Вот, например, странные металлические решетки и павильоны, которые то тут, то там появляются на улицах Парижа. Своими плавными изгибами они как будто напоминают траву и даже покрашены в зеленый цвет. Иногда на кованых металлических лепестках вырастают плоды — круглые фонари. Такие же гибкие, извивающиеся буквы объясняют, что перед нами метрополитен.
Входы в метро, спроектированные архитектором Эктором Гимаром, — один из самых известных новых проектов Парижа в стиле ар-нуво. Что в нем было интересного?
Во-первых, эти объекты предназначены для масс — они украшают людные улицы Парижа, встречают пассажиров общественного транспорта, а в 1900 году, когда было открыто метро и установлены первые павильоны Гимара, им воспользовались больше 15 миллионов человек.
Во-вторых, речь идет о современных технологиях — не только само метро, но и павильоны из металла и стекла на бетонном основании были разработаны Гимаром так, чтобы быть максимально экономичными в производстве и установке (впрочем, компания — оператор метро все равно осталась недовольна).






Что Гимар предложил этим толпам прохожих и пассажиров с эстетической точки зрения? Легкий, изящный образ — и одновременно немного пугающий своей схожестью с живой природой. Неслучайно Сальвадор Дали позднее сказал, что станции вызывали ассоциации с погружением в подсознание. Но еще — если это растения, то мы погружаемся в подземное царство, где нас ждут то ли кроты и червяки, то ли просто ад.
Горожане приняли станции с восторгом и негодованием, как и все, что делается для широкой публики. И тем не менее по проектам Гимара было построено почти полторы сотни павильонов и небольших навесов и оград, больше 80 сохранились до наших дней. Сегодня, вместе с другими памятниками эпохи, павильоны Гимара составляют лицо нового стиля.
Гимару, конечно, не удалось бы получить такой интересный заказ, если бы он не был относительно хорошо известным архитектором. До метро он уже спроектировал павильон электричества для Всемирной выставки в Париже в 1889 году, а также несколько домов в самом буржуазном, XVI округе Парижа.
Но настоящий прорыв случился у него с проектом дома Кастель-Беранже, первого парижского здания в стиле ар-нуво. Это типичный доходный дом на 36 квартир. «Кастель» значит «замок», и Гимар действительно использует распространенный в середине XIX века среди архитекторов прием: современному зданию придаются черты исторического. Есть башни, бойницы, местами крупная кладка имитирует средневековую архитектуру.







Что отличает проект Гимара от предыдущих — к этим историческим параллелям он добавляет много новых деталей, начиная с главного подъезда: в низкой арке, между двумя коренастыми колоннами, как будто взятыми из подземелья романского храма, он вставил легкую кованую решетку с растительным мотивом. Растительность расползается дальше — по решеткам окон и балконов, каменным, металлическим и керамическим деталям.
Гимар подсмотрел эти приемы у другого отца-основателя ар-нуво — бельгийского архитектора Виктора Орта. Бельгия была своего рода перекрестком европейских культур, а Брюссель — городом открытым и космополитичным. Новая культура при этом подпитывалась старинными традициями ремесла и развивающейся металлургией. В итоге концентрация памятников ар-нуво в столице этой небольшой страны едва ли не выше, чем в более крупных европейских городах.
Архитектор Орта произвел на Гимара большое впечатление. В 1893 году он как раз закончил работу над особняком Тасселя, небольшим домом для одной семьи в Брюсселе. Орта значительно смелее и радикальнее своего французского коллеги: никаких исторических мотивов, он полностью отдается власти «нового искусства», превращая с помощью росписи, керамики, металлических деталей интерьер особняка в лирическую цветочную пьесу.





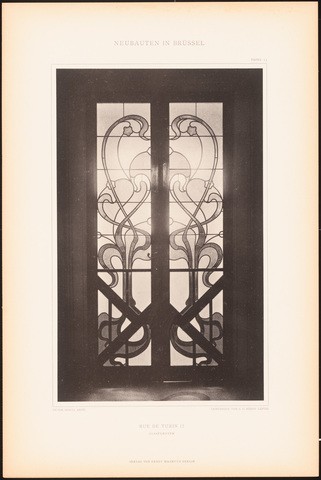
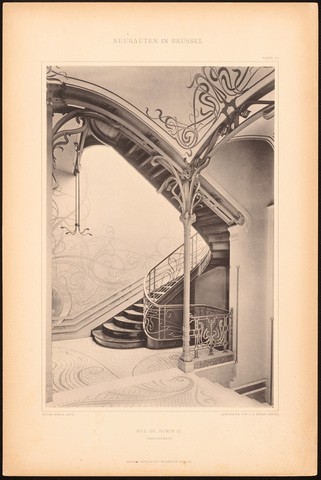
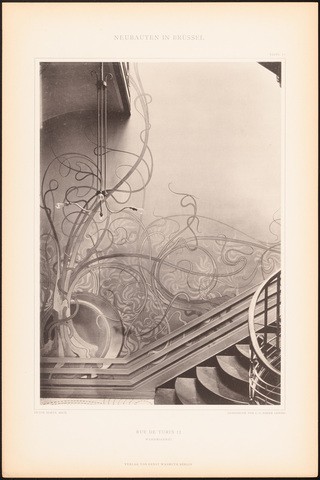
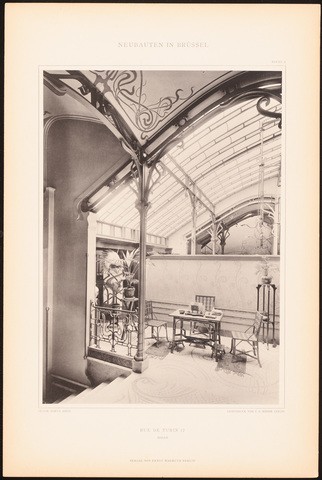
Но спрос на «новое искусство» со стороны богатых людей не мешал архитекторам мечтать о более справедливом обществе, в котором пропасть между классами не была бы такой большой. «Есть... сословие, чье сердце и руки не запятнаны алчностью к деньгам, заразившей нас всех, — я имею в виду народ», — говорил бельгийский архитектор Анри Ван де Вельде в 1894 году. «Художникам придется уяснить себе возникновение принципа новой этики. Он настолько могуч, что победит даже антипатию, которую мы питаем к машинам и механической работе!» — продолжает он А. Ван де Вельде. Очищение искусства // Мастера архитектуры об архитектуре..
Ван де Вельде отмечает здесь еще одну особенность нового стиля, которую мы уже видели в павильонах метро Гимара. С одной стороны, яркие образы, энергичные, напряженные, пружинистые линии соответствуют напряженному духу времени. А с другой стороны — упрощается форма, сводится к более простым элементам. А раз так, то ее проще сделать на заводе и не ошибиться, легко выпускать большими тиражами и не терять качество. Вот оно, решение проблемы, которая так заботила в середине XIX века Земпера и Рескина!
Ар-нуво называют последним большим стилем (хотя это звание оспаривают некоторые другие). Но это еще и первый стиль современности, первый стиль массовой культуры, массовой печати, фабричного производства. Это стиль, в котором стремление найти новый смысл искусства успешно соседствовало с открытостью к самым широким вкусам публики, религиозный символизм смешивался с психоанализом, художественный образ то ли подчинял себе технологию, то ли, наоборот, подстраивался под нее.
С другой стороны, или именно поэтому, ар-нуво претендовало на то, чтобы охватить все стороны жизни. Одной рукой можно было чертить небоскреб, а другой — обложку книги. План расположения комнат в доме и рисунок на его фасаде могли быть одинаково сложными задачами.
Высказывание Анри Ван де Вельде выдает еще одну особенность ар-нуво. Он представляет себе совместную работу множества архитекторов, работу по созданию нового стиля, основанного на некоторых принципах, которые придумываются, обсуждаются, тестируются. Иначе говоря, ар-нуво — это проект, первый проект такого масштаба. В работу над ним были вовлечены архитекторы всех континентов, которые объединялись в группы, издавали журналы и книги. И им активно помогали заказчики, которые гордились сотрудничеством с передовыми мастерами и часто разделяли все их идеалы, а кроме того — производители и продавцы материалов, мебели, тканей, ювелирных изделий.
Возьмем, например, уже упомянутый Кастель-Беранже. Многостраничный альбом рассказывал обо всех достоинствах здания, предлагая на первых страницах общие виды, а дальше — все детали и элементы, деревянные, каменные, металлические, а также обои, некоторую мебель, включая цветочные горшки. На обложке альбома были перечислены все поставщики и мастера — более трех десятков имен и названий компаний.

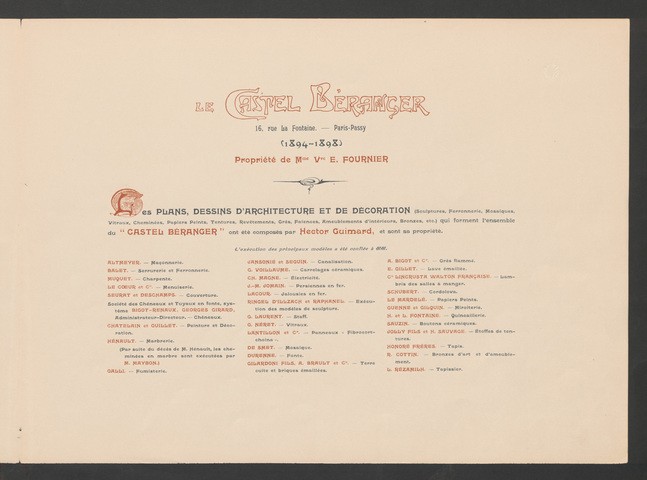










Другие издания были более идеологическими. Например, британский The Studio, который назывался также «Иллюстрированный журнал изящного и прикладного искусства». Он был придуман Чарльзом Холмом в 1893 году. Торговец шерстью и шелком, Холм объездил всю Европу, а также посещал Японию и США. Почувствовав, что наступают новые времена, он забросил бизнес и начал издавать журнал — сперва в Британии, потом по всему миру.
Другом Холма был Артур Ласенби Либерти, основатель магазина Liberty, в котором продавались модные ткани. Первенство компании в этой сфере было настолько заметным, что в Италии, например, стиль ар-нуво даже получил имя «либерти» — как во Франции он получил имя «ар-нуво» из-за названия магазина Зигфрида Бинга.
В Германии предпочитали термин «югендстиль» — «молодой стиль», а его глашатаями были журналы Jugend из Мюнхена и Pan из Берлина. Кстати, обратите внимание на название последнего — древнегреческий бог Пан с козлиными ногами был известен игривостью, веселым нравом, а также высокой сексуальной энергией.
В Вене художники и архитекторы собрались в группу, которая получила название «Сецессион», и так же обычно там именовали и стиль. Буквально «сецессион» значит «отделение», «обособление» — от старого искусства, от его менее прогрессивных художников. В этой группе были такие известные всем сегодня люди, как Густав Климт и архитектор Отто Вагнер. У Сецессиона был свой журнал — Ver sacrum, «Весна священная». Как и в знаменитом балете Дягилева и Стравинского, это название отсылало к буйным античным праздникам начала весны. Журнал, кстати, тоже спонсировал Зигфрид Бинг.
А в Испании ар-нуво оказалось связано с возросшим интересом к национальной культуре и истории, в том числе к готике. Каталонский вариант стиля смешал черты национальной средневековой архитектуры и логику ар-нуво. Самым ярким представителем этого движения стал Антонио Гауди.







Похожим образом ар-нуво развивалось и в России, хотя мы привыкли называть этот стиль модерном. Здесь тоже были популярны все те идеи, с которых мы начинали разговор, ведь в XIX веке Россия была полноценным участником общемирового процесса. Как и западных коллег, российских архитекторов и художников волновали поиски нового стиля для нового времени. Заметную часть второй половины XIX века российские архитекторы увлекались историзмом, и как один из его вариантов можно было бы рассматривать многочисленные вариации русского стиля. Но постепенно многие архитекторы переключились на более прогрессивные идеи.
Возьмем, к примеру, Федора Шехтеля. В 1883 году он участвует в организации народных гуляний, связанных с коронацией Александра III, но не как архитектор, а как сценограф — по его эскизам проходит процессия «Весна красна». Одновременно он, опять же как сценограф, сотрудничает с антрепренером Михаилом Лентовским и его театром в саду «Эрмитаж». Обратите внимание — народные гуляния, театр для образованных горожан, представителей среднего класса…










Шехтель начинал с подражательных исторических зданий — например, с одновременно неорусского и неоготического усадебного дома Сергея фон Дервиза в Рязанской губернии, с неоготического особняка Морозовой в Москве на Спиридоновке и с собственного дома в московском Ермолаевском переулке, о котором он писал своему другу Антону Павловичу Чехову, что это «избушка непотребной архитектуры, которую извозчики принимают то ли за кирку, то ли за синагогу» Цит. по: Л. А. Соколова. Московский модерн в лицах и судьбах. М., 2022.. В 1901 году Шехтель даже построил русский павильон в историческом стиле на Международной выставке в Глазго, где был один из центров европейского ар-нуво.





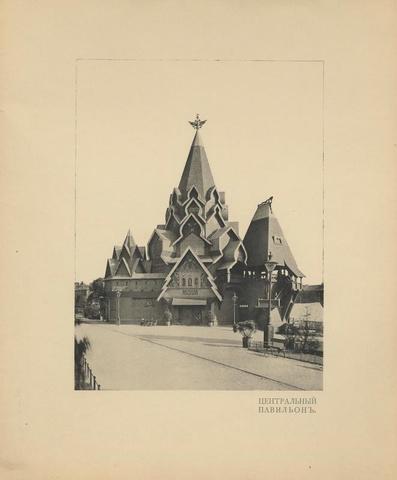


Но с начала

Московский модерн разнообразен и игрив — городское пространство позволяло сделать каждый дом отдельным объектом искусства. В Северной столице застройка значительно плотнее, поэтому петербургским архитекторам пришлось научиться работать только с фасадами. Зато интенсивная деловая жизнь, торговля и безостановочный рост Петербурга на протяжении нескольких десятилетий открывали широкие возможности. Там сложился вариант ар-нуво, который называют северным модерном. Он был распространен еще и в Скандинавских странах. Северный модерн строже французского и немецко-австрийского вариантов в том, что касалось общей логики фасада: архитекторы стремились к достаточно простой геометрии. Зато в вариантах отделок стен, в деталях, в многочисленных скульптурах прорывалось стремление модерна к глубинам культуры, часто — к северным сказаниям, скандинавским эпосам.
Век ар-нуво был недолог, хотя в XX столетии все менялось быстро. Но ар-нуво пало жертвой собственных достижений. К чему стремились архитекторы?











И что же получилось? Стиль — идеальный вирус, легко воспроизводится даже не очень талантливыми художниками, не требует глубоких знаний и основательной подготовки от публики, узнается в предмете любого масштаба, от особняка до броши. Массовый потребитель заинтересовался теми благами, которые ранее были доступны только богатым, и производители, реклама и магазины были рады пойти в этом навстречу. В стиле ар-нуво делались любые распространенные товары: дешевые украшения, упаковки для чая и зубного порошка, мебель, посуда… Неудивительно, что
«Самый гадкий образец декадентского стиля. Нет ни одной честной линии, ни одного прямого угла. Все испакощено похабными загогулинами, бездарными наглыми кривулями. Лестница, потолки, окна — всюду эта мерзкая пошлятина» Запись в дневнике от 16 августа 1932 года // К. И. Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1994..
Характеристика гневная и одновременно точная, ведь все главные элементы стиля автор Мойдодыра и тончайший критик, конечно же, уловил.
Сегодня к ар-нуво часто обращаются и дизайнеры интерьера, и архитекторы. В 1990-х в российских городах ар-нуво вообще был одним из самых популярных источников идей для новой архитектуры: легко узнается, вызывает приятные чувства и ассоциируется с искусством, с
Ар-деко — эпоха контрастов. С одной стороны, «ревущие двадцатые» с джазом, вечеринками, миллионерами; с другой стороны, шок Первой мировой войны и надвигающаяся Вторая. Роскошные клубы, пароходы, тянущиеся к облакам небоскребы — с одной стороны; революции в Европе, очереди за едой, безработица, Великая депрессия — с другой стороны. Противоречивость и контрастность отразились и в самом стиле: увлечение возможностями промышленного производства соседствовало с любовью к тонко сделанным деталям; сталь встречалась с золотом; любовь к современности — с заимствованиями узоров и мотивов из древних цивилизаций; нарочитая грубость форм — с очень тонкой проработкой деталей и элементов, с ремесленным трудом, который, наверное, уже не встречался потом в западной культуре.
И хотя эпоха ар-деко осталась далеко позади, нет, наверное, другого стиля, который был бы так любим дизайнерами: использовать его мотивы в обустройстве интерьера или проектировании предметов очень легко, а эмоциональный эффект остается неизменно сильным. Давайте разберемся, как удалось создать этот особый язык и почему он до сих пор востребован.
1922 год выдался насыщенным: подписан договор об образовании СССР, Османская империя распалась, Ирландия получила независимость от Великобритании, Муссолини пришел к власти в Италии, прошло первое заседание Международного суда в Гааге, первый ночной коммерческий авиарейс перевез пассажиров из Лондона в Париж, на экраны вышел хоррор «Носферату», основана тогда еще только радиокомпания BBC, Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона, а в Париже Жан Кокто поставил пьесу «Антигона» с декорациями Пабло Пикассо и костюмами Коко Шанель. А среди литературных событий нас интересует роман французского автора Виктора Маргерита «Холостячка». Скандал, вызванный этой книгой, трудно представить себе сегодня: автора лишили ордена Почетного легиона. Но книгу в течение следующих 10 лет перевели на 12 языков, включая русский, а также переделали в пьесу и уже до войны дважды экранизировали. В первый год было продано 300 тысяч экземпляров, а к концу десятилетия — больше миллиона.
Главная героиня романа — юная дама, наследница неплохого состояния, сколоченного ее отцом во время Первой мировой войны. Ее первый серьезный роман заканчивается неудачей, и она пускается во все тяжкие. Надо признать, что роман был довольно слабым в художественном отношении, но стал своеобразным документом эпохи, поскольку показывал особую культуру изнурительной экстатичности, то есть стремление довести до края и даже далее любое удовольствие или впечатление.
Вот как автор описывает вечерние развлечения героини:
«…кончая дневную работу, Моника посвящала свои вечера и часть ночи танцам. Одна и с подругами, с которыми мало-помалу сошлась теперь в театральной и артистической среде. Она постепенно избрала пять-шесть мест, где в известные часы предавалась опьяняющему кружению. Она стала одной из множества этих полуобморочных фигур, бесновавшихся в вихре шума и света, под звуки оркестра в ослепительном полуночном солнце. Она стала одним из этих жалких человеческих образов, раскачивающихся друг на друге в силу неудержимого инстинкта; маленькой волной необъятного людского моря, где прилив и отлив движется бессознательным ритмом любви».
Но Моника не только веселится: она открыла магазин дизайнерских аксессуаров и сама проектирует
В этом замечании был свой резон: во Франции на войне побывало почти все мужское население страны в возрасте от 20 до 50 лет, больше 1 миллиона солдат не вернулись с поля боя, оставив 1,5 миллиона вдов и сирот. Потери всех стран — участниц войны оцениваются почти в 10 миллионов человек. Не менее ужасным был сам опыт Первой мировой войны: новые технологии уничтожения людей и одновременно недели и месяцы, проведенные в бессмысленных маневрах или в окопах, — это заставляло пересмотреть все представления о ценности и смысле жизни.
Экономические последствия войны были не менее тяжелыми, но постепенно положение выправлялось. Успешнее всего в послевоенной ситуации развивались США, эта страна сделала большой рывок вперед. Но и европейские страны вскоре пришли в себя. Начался бурный рост — на сцену выходили новые производители, сколачивались новые состояния. Хотя, как обычно, речь идет о сравнительно небольшой прослойке людей, но их возможности и аппетиты росли очень заметно.
И одновременно радикально менялась политическая карта Европы. В нескольких странах, включая Россию и Германию, произошли революции. Во всех странах социалистические идеи и партии становились все влиятельнее, рабочее движение — все заметнее. И, с другой стороны, росли и правые партии, националистические и фашистские движения. Если предвоенную эпоху можно было описать как ожидание радикальных и катастрофических перемен и поиск новых идей и смыслов для будущего, то межвоенный период не принес ни успокоения, ни ясности: конфликты обострились и стали как будто неотъемлемым, постоянным качеством общественной и культурной жизни.
И одновременно Первая мировая война, кажется, заставила западный мир всерьез расширить круг своих эстетических интересов (кстати, и Вторая мировая тоже приведет к похожему результату, хотя не так быстро, — к появлению постмодернизма). Как будто эта катастрофа вынудила усомниться в основаниях современной западной цивилизации и обратиться ко всем возможным другим цивилизациям: Древнего Египта, ацтеков и майя, Африки, Дальнего Востока. Все это уже присутствовало в той или иной степени и раньше. Например, Египет стал источником многих эстетических находок уже после похода Наполеона. В середине XIX века были открыты отношения с Японией, и в результате японская живопись заполнила европейские салоны и вдохновила импрессионистов. Но в эпоху ар-деко спрос на эти темы вырос еще больше. Тут свою роль сыграли еще и массовая печать и путешествия, а также то, что линейность, графичность, геометричность оказались востребованы промышленностью.
Все противоречия и странности эпохи можно было увидеть, как всегда, в Париже, на очередной большой выставке в 1925 году. В этот раз — посвященной не технологиям, а на специализированной Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств. Спустя четыре десятилетия, в 1966 году, именно название выставки подсказало кураторам экспозиции, посвященной «ревущим двадцатым», термин «ар-деко» — и только тогда термин «ар-деко» стали использовать для обозначения части художественных поисков эпохи.



Выставку задумывали провести еще до войны, причем важным условием участия в ней было представлять проекты только в современном стиле, никакие исторические реминисценции не допускались. Из-за войны проект пришлось отложить, и вернуться к нему получилось только в середине 1920-х, но требование быть современным оставалось. Из-за этого США вообще отказались от идеи делать на выставке официальный павильон своей страны, решив, что у американских промышленников и дизайнеров нет достаточного количества примеров современного дизайна.
Хотя выставка была международной, французские дизайнеры и производители на ней заметно доминировали. Павильоны представляли отдельные регионы Франции, отрасли, компании, магазины. Их архитектурные решения были близки: уступчатые силуэты, геометризованные узоры, большие окна-витрины, металлические решетки. Это было сочетание, с одной стороны, ясных скульптурных форм, архитектурных силуэтов — логики, которая осталась еще от предыдущей эпохи ар-нуво. Только теперь они стали еще проще, геометричнее, технологичнее. А с другой стороны, к архитектуре добавлялись богато выполненные отдельные элементы, детали, орнаменты, хотя их рисунок тоже стал попроще, энергичнее, ярче. Как будто архитекторы и дизайнеры задались целью приблизить ар-нуво к народу и сделать его еще более технологичным, но чтобы не потерять внимание богатой публики, добавили роскоши в выборе материалов и ремесленного труда в отдельных элементах.
Самому большому упрощению подверглись архитектурные формы. Здания павильонов представляли собой соединенные простые фигуры — куб, параллелепипед, цилиндр. Входы, карнизы и окна уже не были такими чистыми: они украшались некоторыми узорами, но так, чтобы их смысл считывался издалека благодаря упрощению и контрасту цветов. Уже в павильонах посетителей встречали предметы мебели и объекты дизайна, в которых упрощенные силуэты сочетались с дорогими материалами и изощренными орнаментами — растительными и античными, восточными и отсылающими к достижениям прогресса. Наверное, поэтизация прогресса была одной из самых заметных черт нового стиля.


Воплощением этого соединения технологий, роскошного образа жизни, архитектуры и дизайна стали трансатлантические лайнеры, которые еще до войны начали превращаться в особый тип не столько транспорта, сколько образа жизни. Ими был очарован даже Ле Корбюзье, который представил на парижской выставке радикально упрощенный и функциональный павильон «Новый дух» и раскритиковал все прочие павильоны (кроме советского, архитектора Мельникова). Лайнеры же он называл символом «освобождения от проклятого раболепия перед прошлым» Le Corbusier. Toward an Architecture. New York, 2007., то есть от необходимости воспроизводить во всяком жилом пространстве образцы ушедших эпох. По размеру трансатлантические лайнеры были больше, чем любые многоквартирные дома того времени: в них помещалось до 3000 пассажиров, которые не только спали, но и ели, пили, танцевали, играли в казино, лечились и так далее. Небольшой город принимал форму компактного, эффективного и стремительного судна — это ли не образец для современной архитектуры, до которого она все никак не дотянется, утверждал Ле Корбюзье.







Но вот уровень роскоши, который был принят в этих городах на воде, он не одобрял. Особенно выделялись два корабля. Во-первых, «Нормандия» французской Compagnie générale transatlantique, которая была спущена на воду в 1932 году и пересекла океан за четыре с небольшим дня. А во-вторых, Queen Mary британской компании Cunard-White Star Line, которая начала курсировать между Великобританией и США чуть позже и побила рекорд скорости «Нормандии» (впрочем, они еще несколько раз передавали друг другу так называемую «Голубую ленту» — приз за скорость для трансатлантических лайнеров).
В отделке интерьеров обоих лайнеров использовались дорогие породы дерева, панели из которого дизайнеры разделяли пластинами из металла и стекла. В мебели — цветная кожа, шелк, блестящие детали. В светильниках — цветное стекло. В оформлении салонов и кают использовались специально заказанные для кораблей работы популярных художников, не самых авангардных, но и не чересчур консервативных: картины, скульптуры и барельефы.

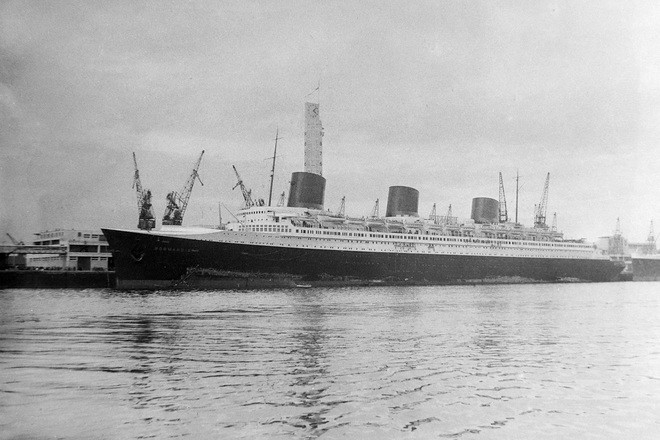




Но еще более заметным было другое соревнование — строителей небоскребов в Нью-Йорке. Как и корабли, небоскребы этого времени были чудом современных технологий и одновременно предметами роскоши и способом продемонстрировать успех компании-заказчика. Первые здания, которые считаются небоскребами, стали появляться в конце XIX века преимущественно в Чикаго и в Нью-Йорке. Их росту и распространенности способствовали технологические новинки. Это даже не столько собственно более прочные конструкции зданий, сколько лифты, сперва механические, затем электрические, а также искусственная вентиляция, необходимая в доме такого размера и с таким количеством людей.
Но ограничиться только этим девелоперы не могут: полученные квадратные метры надо красиво упаковать, подать публике и арендаторам офисов или покупателям квартир. Внутри все этажи одинаковы, а вот внешний облик и отдельные пространства (лобби, магазины) — именно здесь искусство архитекторов и дизайнеров оказывается востребованным. Следовать надо было любому из модных на сегодня стилей, поэтому часть небоскребов интерпретируют классические мотивы, другие заимствуют элементы у готических соборов, в третьих видно влияние ар-нуво.




Но два самых знаменитых — Крайслер-билдинг и Эмпайр-стейт-билдинг — это иконы ар-деко. Первым из них начали строить небоскреб для корпорации «Крайслер» архитектора Уильяма ван Алена. Высоко над городом возносится его пирамидальная шапка, увенчанная шпилем высотой в 55 метров (только благодаря этому шпилю зданию удалось обойти по высоте еще одного конкурента, небоскреб на Уолл-стрит, 40). Металлическая обшивка, напоминающая дизайн автомобилей «Крайслер», блестит на солнце. Мотивы, связанные с автомобильным дизайном, многократно повторяются — особенно бросаются в глаза головы птиц, которые установлены на высоте, как горгульи на готическом соборе, и крылья, — все это были элементы, вторящие логотипу автокомпании. В самых заметных частях здания в металле выполнены орнаментальные мотивы, и они же повторяются на фасаде из кирпича. В лобби и лифтах — деревянные панели, наборные панно из дерева и металлические детали.







Крайслеру удалось побыть чемпионом по высоте только 11 месяцев: в 1931 году был закончен Эмпайр-стейт-билдинг, обошедший конкурента больше чем на 50 метров. Архитекторы обоих зданий несколько раз возвращались к рабочим столам, узнав, что конкурент добавил еще десяток метров. Соревнование было нешуточным: несколько рабочих погибли из-за спешки на высоте. Но строительство закончилось уже в разгар Великой депрессии, так что здание лет десять простояло полупустым и заслужило прозвище Empty State Building — «Пустое государственное здание». У этого небоскреба поменьше ярких блестящих деталей, зато поверхность стены разнообразнее: есть рельефные выступающие части, которые тянутся во всю высоту, в простенках между окнами — вставки из камня с угловатым геометрическим орнаментом. Но самое большое впечатление должны производить подъезды, оформленные как порталы в





Крупные объекты складываются из небольших деталей, а силуэт здания легко переносится на дизайн афиши, комода с радиоприемником или чайника. Шаг в сторону объединения разных масштабов одной эстетикой уже сделали мастера ар-нуво. Прошло два десятилетия, и этот принцип становится
Можно начать даже с такой, казалось бы, незаметной вещи, как шрифт. В ар-деко появилось несколько легко узнаваемых шрифтов, которые мы и сегодня связываем с этой эпохой. Здесь тоже себя проявила любовь к контрастам и преувеличениям: сильно вытянутые буквы, как небоскребы, буквы, в которых толстые штрихи соединяются с тонкими — как тонкие неоновые трубки на фасадах домов, которые стали появляться в эти же годы. Мотивы из Древнего Египта, Японии и Китая, культур доколумбовой Америки глубоко проникали в графическую культуру: дизайнеры полюбили силуэтные композиции, орнаментальные обрамления. Если в ар-нуво любили плавные завитки, растительные мотивы, рисунок с тонкими линиями, то в ар-деко вкус изменился, стал как будто грубее или энергичнее: чаще использовали прямые и острые углы, вдохновлялись автомобилями, пароходами и самолетами, увлекались фотомонтажом, не боялись упрощать изображение до пятен и геометрических фигур.
Мебель ар-деко — одна из самых ярких страниц этой истории, и во многом благодаря торговле антиквариатом этого периода ар-деко стало таким популярным в современной культуре. Мебель на выставке 1925 года была представлена особенно хорошо — на сцене появились мебельные гарнитуры. Раньше архитекторы и дизайнеры практически всю жизнь делали свою мебель в
(а именно они как раз становились все более распространенным видом жилья даже у состоятельной публики).
Кроме того, от дизайнеров требовалось привести всю мебель к стандартным размерам, ведь теперь нельзя было измерить перед производством каждую комнату и заранее определить место для каждого шкафа и комода. Функциональность и вместимость мебели тоже должны были стать стандартными, ведь теперь нельзя было заранее узнать, сколько будет платьев у дамы или сколько будет посуды на кухне. На выставках и в журналах предлагались наборы мебели, которые составляли бы обстановку для разных образов жизни или для разных помещений: «Комната для джентльмена», «Современная столовая». Такого рода названия были более коммерчески выгодными, чем очень расплывчатые определения — «современный стиль», «новое искусство» — эпохи ар-нуво. Ведь современный стиль не может меняться каждый год, а рынок начинал требовать постоянного обновления ассортиментов магазинов, сближая дизайн и моду.










Из дизайнеров особенно выделяется Жак-Эмиль Рульманн, у которого на выставке 1925 года был даже свой павильон, и довольно крупный — «Дом коллекционера», размером с небольшой загородный особняк. Здесь как раз вся мебель была выполнена в одном стиле, и в то же время почти все предметы можно было бы перенести в другое место и воссоздать там задуманную дизайнером изысканную атмосферу, демонстрирующую утонченных вкусов владельца. Впрочем, на широкое распространение этих предметов мебели надежды не было: Рульманн делал одни из самых дорогих объектов на рынке — из эбенового дерева, палисандра, акульей кожи и слоновой кости. Повторять его подходы к форме и к самому набору объектов другим компаниям, которые производили предметы для широкого потребителя, нужно было уже из более простых материалов.





Другим законодателем и авторитетом в этой области стал Рене Лалик, ювелир и мастер в том, что касалось работы со стеклом, камнем и костью. Он стал знаменит уже до Первой мировой как мастер ар-нуво, но с наступлением новой эпохи не захотел терять завоеванных позиций и, напротив, только расширил свое влияние. Лалик тесно сотрудничал с производителями, и многие его работы инновационны не только по форме, но и с точки зрения технологий производства цветного стекла и тиражных предметов. Лалик и его ателье не только заполняли своими работами многочисленные галереи и магазины, но их часто приглашали оформлять общественные пространства — рестораны, гостиницы, а самыми масштабными проектами стали оформление лайнера «Нормандия» и интерьера церкви Святого Матфея на острове Джерси.

Наконец, несправедливо было бы не упомянуть самую известную в эту эпоху дизайнера-женщину, соратницу и соперницу Ле Корбюзье — ирландку Эйлин Грей. Ее история — это сюжет отдельного романа. Она родилась в Ирландии, в аристократической семье, училась в Лондоне в художественной школе и прославилась уже своими первыми парижскими проектами, в том числе квартирой для Жюльетт Леви — парижской светской львицы и владелицы модного дома. Ее квартиру Грей оформила в 1920-х годах. Эйлин Грей тоже работала с дорогими материалами, но металл и стекло как символы современности привлекали ее не меньше. Это сблизило ее с дизайнерами и архитекторами-модернистами, и спроектированная ею самой уже как архитектором модернистская вилла E-1027 неподалеку от Монако сегодня считается одним из памятников этой эпохи.








Отдельный разговор нужно посвятить моде. Инновации здесь коснулись всех аспектов отрасли. Даже манекены изменились: фигуры были упрощены, лицам придавали характер абстрактных масок — в духе модернистской скульптуры Константина Бранкузи и портретов Модильяни. На таких манекенах хорошо смотрелись платья, которые тогда становились популярными — с простыми прямыми силуэтами, но интересными сочетаниями тканей, цветов, с ломаными, асимметричными, слоистыми краями. Отдельно популярными стали адаптации мужской моды для женщин. Как писал Ивлин Во в «Мерзкой плоти» про одну из героинь: «Она одевается в строгом, мужском стиле, который придает такой шик многим американкам…» Свою роль играла эмансипация, которая предлагала женщинам все более активные роли: интеллектуальную работу, активные вечерние и ночные развлечения, спорт, управление автомобилем и так далее.
Принципы «роскошной простоты» продемонстрировала Коко Шанель, представив в 1926 году свое знаменитое «маленькое черное платье». Из всех модельеров в истории Шанель, вероятно, чаще всего становится героиней книг, фильмов, статей, и пересказывать их все здесь было бы странно. Но важно отметить, что ее деловые успехи непосредственно связаны с восстановлением экономики после Первой мировой войны и одновременно — с ее сотрудничеством с Сергеем Дягилевым и Игорем Стравинским, которым она помогла после революции на первых порах продержаться в эмиграции. В 1920–30-е годы она делала костюмы для постановок дягилевского театра, что было полезно для развития ее стиля и в то же время делало ее все более влиятельной фигурой в творческой и светской среде. Характерна для своего времени одна постановка дягилевской труппы, посвященная роскошной жизни, к которой Шанель имела отношение, — одноактный балет «Голубой поезд». Его герои — пассажиры поезда-экспресса, который идет от Кале через всю Францию к роскошным курортам Французской Ривьеры: Каннам, Ницце, Монте-Карло. Занавес для балета был выполнен по картине Пикассо, костюмы для путешественников, спортсменов и отдыхающих на пляже сделала Коко Шанель, а сюжет написал Жан Кокто.




Еще один модельер этой эпохи, Жанна Ланвен, получившая за успехи на поприще высокой моды орден Почетного легиона, прославилась своим фирменным «силуэтом Ланвен» — платьями, которые были достаточно прямыми и простыми в верхней части, но от пояса расширялись и становились пышнее. Это решение было одновременно и современным, и консервативным и поэтому пользовалось успехом у более широкой публики, что позволило ей выстроить крупный дом моды с женским, мужским, спортивным и детским направлениями.
Эльза Скиапарелли — третье имя, которое часто вспоминают в связи с этой эпохой, замечательный пример того, как пересекались интеллектуальные, художественные и творческие круги. Она была итальянской аристократкой, дочерью и племянницей ученых — историка, астронома и египтолога, — поэтессой. Она увлекалась символизмом и теософией и вышла замуж за шарлатана-экстрасенса, который сбежал от нее после рождения дочери. Но свою карьеру в моде Скиапарелли начинает с коллекций, которые посвящены успехам современной авиации.
А что же происходило в нашей стране? Если в искусстве модерна Россия вполне совпадала с ритмами культурной жизни Европы, то после Первой мировой и революции ситуация радикально изменилась. Гражданская война и экономический кризис, массовая эмиграция представителей среднего класса — все это сделало распространение ар-деко в СССР совершенно невозможным, по крайней мере в первой половине 1920-х.
Однако постепенно ситуация менялась. Некоторые культурные контакты между Россией и западным миром все-таки сохранялись. Деятелям культуры и тем, кто отвечал за промышленные и экономические связи, было разрешено путешествовать. СССР участвовал в выставке 1925 года авангардным павильоном Мельникова и экспозицией клуба Александра Родченко. Оба проекта должны были продемонстрировать специфическое направление архитектурной и дизайнерской мысли в СССР, связанное с новыми задачами власти и культуры — служить строительству коммунизма. Однако и модернистская архитектура Мельникова, и конструктивизм Родченко были удивительно близки европейскому контексту — установками на функциональность, технологичность, ясность и простоту образов. Супрематический фарфор Казимира Малевича и его учеников Николая Суетина и Ильи Чашника, который они делали на Государственном (бывшем Императорском) фарфоровом заводе, прекрасно смотрелся — тогда — в любом интерьере ар-деко, а сегодня — в западных музеях в соответствующих экспозициях.




В повседневную жизнь советских граждан ар-деко тоже так или иначе проникал. НЭП создал небольшую прослойку состоятельных граждан, которых интересовал в том числе и западный образ жизни. Хотя официальная пропаганда и искусство не щадили вещизм и мещанство нэпманов, но благодаря им современные мода и дизайн развивались и в СССР. И несмотря на все идеологические разногласия, эстетические ориентиры ар-деко легко угадываются в продукции того времени — от портсигаров и флаконов духов до мебели.
Стремление догнать и перегнать Запад и Америку в особенности привело к тому, что заимствования и копирование иностранных образцов распространились и на государственном уровне. Хотя у архитектуры 1930-х, у непостроенного Дворца Советов и построенных уже после войны московских высоток и павильонов ВДНХ совсем другие смыслы и история, но среди нью-йоркских небоскребов или европейских особняков можно найти им аналоги. Иногда к ар-деко относят и некоторые станции московского метро, где тоже часто используется металл, цветное стекло, есть архаические мотивы в архитектурных деталях.
Конец ар-деко, как и конец ар-нуво, был связан с мировой войной, но теперь уже Второй. Закат начался уже раньше: Великая депрессия и рост социальной напряженности, установление тоталитарных режимов в Европе, новый виток национализма — все это повышало градус государственной пропаганды, а значит, в архитектуре коммерчески ориентированный стиль ар-деко постепенно уступал место помпезным и агрессивным версиям неоклассики. Примеры можно было снова увидеть на выставке в Париже в 1937 году.
Противостояние СССР и Третьего рейха на выставке было оформлено расположенными друг напротив друга павильонами — одинаково стремящимися кверху зданиями-постаментами. Германский был ближе к неоклассике, на нем был установлен орел. У советского павильона архитектурная часть по проекту Бориса Иофана своими резкими уступами немного напоминала нью-йоркский небоскреб. А статуя Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» была выполнена вполне в духе социалистического реализма, опиравшегося на эталоны искусства XIX века. Реплику павильона и восстановленную скульптуру можно наблюдать сегодня у входа на ВДНХ. Но в стороне не оставались и другие. Например, дворец Шайо — комплекс, построенный к выставке французскими архитекторами — напоминает одновременно и нацистскую архитектуру Альберта Шпеера, и московскую Библиотеку имени Ленина Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха.






А в 1960-х ар-деко открывают снова. Успехи европейского и американского дизайна после Второй мировой заставляют обратиться к его истокам. В 1966 году в Музее декоративного искусства в Париже прошла выставка «25-е годы: ар-деко, Баухаус, де стейл, эспри нуво», обозначавшая четыре главных направления в дизайне того времени. Куратор выставки Ивон Брунхаммер тем самым установила паритет между более коммерческим ар-деко и иконами модернизма. О модернизме я подробнее расскажу в одной из следующих лекций, но пока что важно сказать, что устоявшееся мнение относило модернистские направления скорее к разряду высокого искусства. Теперь же Брунхаммер объявила все 1920-е годы зоной одной эстетической реальности, представленной в разных вариациях. Ар-деко с тех пор стабильно занимает одно из первых мест по продажам и на мировых аукционах, и на блошиных рынках. Что вполне объяснимо, ведь это не только красивые вещи, но и самые старые из эпохи массового производства, то есть в них есть идеальное для коллекционирования сочетание распространенности и элитарности.



Эстетика ар-деко прочно вошла в арсенал архитекторов и дизайнеров, стремящихся создать у потребителя ощущение избранности, хотя уже вряд ли к этому присоединяются провокационность, эпатаж и рискованное поведение.
Мы ждем от истории искусства и архитектуры, что она будет устроена как сериал. В одной серии герои женятся, в другой у них родился ребенок, сперва был ренессанс — а потом барокко, и никак не наоборот. Так нас учили в школе, так удобно и просто. На самом деле вернее будет представить себе историю искусства XX века как много сериалов, которые мы смотрим одновременно, переключая каналы. Иногда мы встречаем знакомые сюжеты, шутки из одного сценария используются сценаристами в другом, одни и те же актеры играют разных героев.
Из всех сюжетов в истории архитектуры модернизм, наверное, вызывает больше всего споров и разночтений. Начать можно с того, что модернизм — никакой не стиль. Мы используем этот термин, для того чтобы обозначить множество разных событий: это отдельные архитекторы, группы, движения, школы, проекты, тексты манифестов…
Когда говорят о начале модернизма, то одни указывают на время после Первой мировой войны, другие — на начало XX века, а третьи говорят о том, что корни модернизма надо искать еще дальше, в XIX веке.
Когда закончился модернизм?
Что же тогда мы вообще имеем в виду под модернизмом? Более или менее всех модернистов объединяет следующий набор убеждений.
Во-первых, уверенность в том, что мир необратимо и радикально меняется, что завтра будет совершенно непохоже на сегодня: экономически, политически, социально, культурно. При этом у модернистов разные представления о том, что именно меняется и какое будущее нас ждет: одни ждали новой большой войны, а другие — всеобщего мира и процветания. Но некоторые тенденции были достаточно хорошо заметны, и их никому не удавалось игнорировать: рост городов, развитие технологий, в том числе строительных, ускорение темпа жизни, демократизация, то есть вовлеченность масс в политическую и общественную жизнь.
Во-вторых, всем модернистам свойственно убеждение, что искусство и архитектура обязаны отреагировать на эти изменения, и даже больше того — художники и архитекторы должны направлять общество, двигать его вперед, быть в авангарде.
В-третьих, отсюда следует, что художники и архитекторы должны придумать, какими должны быть искусство и архитектура будущего. Ведь будущее еще не наступило, мы только на пороге радикальных перемен. Но если мы хотим оказаться там раньше всех остальных, быть лидерами, то должны сами придумать, что там будет впереди. А это значит, что нельзя ограничиться разработкой только своего стиля или темы: на такие масштабные задачи нужно отвечать целой системой, философией. Неслучайно «Черный квадрат» Малевича так часто пытаются сравнить с иконой — это не просто
Чтобы не запутаться, мы рассмотрим главные идеи архитектурного модернизма на примере трех проектов, появившихся примерно в одно время.
Посмотрим для начала на небольшой дом, который архитектор Ле Корбюзье вместе со своим кузеном и соавтором Пьером Жаннере построил для семьи Савуа к 1931 году в городке Пуасси в часе езды от Парижа. Заказчиками была семейная пара состоятельных и прогрессивных людей: Пьер был успешным страховщиком, его жена Евгения — женщиной активной и с деловой хваткой, заядлой автолюбительницей. Именно она в значительной степени руководила процессом строительства и вела все переговоры с архитекторами.





Дом был предназначен исключительно для отдыха, для пикников с друзьями. В доме была большая общая комната, терраса на крыше, три спальни — для хозяев, их сына и гостевая, кухня и комнаты для горничной и шофера (брат Пьера Савуа погиб в результате несчастного случая, связанного с автомобилем, и с тех пор Пьер не хотел водить машину сам). Все это можно найти более или менее в любом загородном доме в любой части света.
Но вилла семьи Савуа — в русском языке закрепилось не совсем верное наименование «вилла Савой» — уникальна, потому что лучше всего воплощает пять принципов современной архитектуры, к которым Ле Корбюзье пришел незадолго до того.
Вот эти принципы:
1. Дома следует поднимать над землей на колоннах: это освобождает место для сада, а также для машины, которая таким образом становится частью архитектурного замысла — два достижения цивилизации, современная архитектура и современный транспорт, объединяются.
2. Крыши надо делать плоскими и на крышах устраивать место для отдыха, для солнечных ванн и для растений. Так мы возвращаем природе то, что дом у нее забрал, заняв
3. Здание должно опираться не на прочные стены, а на систему колонн, которые пронизывают его снизу доверху. На колонны опираются горизонтальные перекрытия — с точки зрения структуры дом становится похож на этажерку. Тогда можно стены между комнатами ставить в любом месте, придавать им любую форму, ведь они больше не являются несущими.
Четвертый и пятый принципы тоже следуют из того, как Корбюзье переосмыслил структуру.
4. Не только внутренние стены, но и внешние теперь не являются несущими. Значит, можно делать большие окна, длинными лентами опоясывающие здание, впускающие как можно больше солнечного света.
5. По той же самой причине фасад может выглядеть как угодно.
Объект, который получился благодаря этим принципам, вилла Савой, выглядит как тонкий параллелепипед, зависший над зеленой лужайкой. Сквозь окна можно увидеть людей, находящихся внутри, в некоторых частях — даже весь дом насквозь. Самое большое помещение — на втором этаже, это гостиная. Она отделена от открытой террасы окнами во всю высоту стен. Если их раздвинуть, то почти весь второй этаж, комната и терраса, становятся одним пространством.
В процессе строительства между заказчиками и архитекторами возникали естественные трения, тем более что бюджет проекта был превышен, а дом получился неидеальным: в нем постоянно
После войны здание было в таком плохом состоянии, что его даже думали снести. Семья Савуа уже разрослась, да и не была такой же состоятельной, как до войны. Дом и участок город выкупил — без внимания хозяев вилла начинала превращаться в руину, и город планировал разместить там часть школы. Но ремонтировать здание так и не начали — получалось слишком дорого. Тогда за спасение виллы взялся сам Ле Корбюзье. Он представлял ее в книгах и статьях как важный для истории современной архитектуры памятник, который надо реставрировать. Эту идею поддержали критики и архитекторы по всему миру, а также министр культуры Андре Мальро. В результате вилла Савой получила статус памятника спустя всего 35 лет после ее строительства. Правда, отчасти это случилось и из-за того, что Ле Корбюзье погиб. Он утонул во время купания, и Франции надо было
В том же 1929 году, когда начиналось строительство виллы Савой, на Всемирной выставке в Барселоне коллега Ле Корбюзье, немецкий архитектор Мис ван дер Роэ, открывал свой проект — павильон Германии. Здание должно было продемонстрировать, что Германия совсем оправилась после Первой мировой войны и снова является одной из центральных западноевропейских держав в смысле экономики и инноваций. Лучшим способом это сделать было построить павильон из дорогих материалов, но в современном стиле.
Мис ван дер Роэ начинал свою архитектурную карьеру вместе с Ле Корбюзье — в мастерской немецкого архитектора Петера Беренса. Кстати, там же в это время работал и Вальтер Гропиус — будущий основатель Баухауса, немецкой школы дизайна и архитектуры, одного из главных центров модернизма в Европе. Беренс умело сочетал инновационность с традиционностью — он любил классические формы и материалы, прежде всего кирпич. Для своего главного заказчика, компании AEG, он построил в 1909 году гигантский турбинный завод, открытое внутри пространство без стен и опор, с большими окнами 15-метровой высоты. А перед Первой мировой войной по его проекту было построено мрачноватое здание немецкого посольства в Санкт-Петербурге, которое стоит прямо у Исаакиевского собора, — на этом проекте за стройку отвечал ученик Беренса Мис ван дер Роэ.

К концу 1920-х годов Мис ван дер Роэ уже был не просто архитектором, которого можно послать в другую страну смотреть за рабочими. К этому времени он построил несколько частных домов, постепенно перемещаясь от классических форм к более современным. В 1921 году он спроектировал несколько утопических стеклянных небоскребов интересных форм для Берлина. В 1926 году сделал мемориал, посвященный коммунистам Карлу Либкнехту и Розе Люксембург. Их убили в ходе столкновений, продолжавшихся в Германии после революции 1918 года. Этот мемориал — кирпичная стена с выступающими частями — уже вполне модернистский объект, который разговаривает на языке чистой геометрии.
С середины 1920-х Мис ван дер Роэ был тесно связан с ассоциацией немецких архитекторов, известной как Веркбунд — «Производственный союз», а с ее директором Лили Райх у него были не только творческие, но и романтические отношения. И наконец, в 1927 году Мис ван дер Роэ стал куратором такого проекта: под Штутгартом появился экспериментальный поселок Вайсенхоф, куда пригласили разных архитекторов придумывать экономичное и современное жилье. В том числе по одному или несколько домов там построили Ле Корбюзье, Вальтер Гропиус, а также Петер Беренс (на фоне своих бывших помощников он смотрелся довольно устаревшим).





И тем не менее именно барселонский павильон из этого периода творческой биографии Миса ван дер Роэ известен больше всего. Его можно назвать первым примером знаменитого принципа Миса ван дер Роэ — «Меньше значит больше». Что же он там сделал — кстати, вместе с Лили Райх, о которой часто забывают? И как понять это выражение? Павильон представлял собой небольшое строение. На прямоугольном участке архитектор поставил несколько вертикальных плоскостей, стен, и накрыл их общей крышей. Хотя большинство стен стоит свободно и не пересекается с другими, возникает ощущение нескольких пространств: побольше, поменьше, открытых, закрытых. Таким образом Мис ван дер Роэ воплотил идею свободной планировки зданий. В то время об этом размышлял и Ле Корбюзье, и американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт, и многие другие.
Пол и стены были облицованы большими плитами из дорогого камня: мрамора, оникса, травертина, а часть стен сделаны полностью стеклянными. С двух сторон к павильону примыкали прямоугольные пруды, в которых красиво отражались эти каменные стены. В одном из прудов была установлена небольшая скульптура Георга Кольбе под названием «Утро» — изображение девушки, напоминающее изящные античные памятники. В нескольких местах стояли придуманные Мисом и Лили Райх кресла на основе из мягких металлических полос с кожаными подушками — они получили имя Barcelona. Сейчас оригинальные кресла можно найти в музеях, а их реплики — в магазинах.







Особенно интересны колонны, которые изобрел Мис ван дер Роэ специально для этого проекта. Редко стоящие стены, которые нигде не создают замкнутого контура, не могли бы выдержать крышу, ее надо было поддержать
Эти колонны идеально отражают принцип «Меньше значит больше»: чем меньше материала, тем сложнее делать, тем больше надо придумывать, больше вкладывать изобретательности, таланта. И результат тоже будет производить впечатление не количеством, а изяществом, незаметным на первый взгляд качеством. Впрочем, есть и другое мнение — что на самом деле колонны не были так уж необходимы с точки зрения конструкции, а Мис ван дер Роэ поставил их только для красоты и ритма, для ощущения устойчивости композиции.
В 1933 году в Германии к власти пришел Гитлер, который считал всю современную культуру угрозой для арийской идеологии. Баухаус, которым тогда руководил Мис ван дер Роэ, был закрыт — точнее, Мис сам принял решение о роспуске школы и вскоре уехал в США. Барселонский павильон к этому моменту уже давно был разрушен, ведь он изначально строился как временный. И тем не менее он вошел в учебники архитектуры, а Мис ван дер Роэ добился невероятного успеха в США. Диктатура Франко пала в 1975 году, и группа испанских архитекторов начала работу над восстановлением павильона по фотографиям и чертежам, даже провела небольшие археологические раскопки, чтобы установить точно, где и как был расположен фундамент. Сегодня павильон стоит на старом месте и привлекает студентов-архитекторов со всего мира.
Наш третий пример архитектуры модернизма находится в Москве, он был построен примерно в это же время. Это не загородная вилла, не выставочный павильон из дорогих материалов, а многоквартирный дом, который должен был стать прообразом коллективного жилья будущего.
Советские архитекторы стремились найти новый подход к жилью. И для этого были сформированы исследовательские группы, делались экспериментальные проекты, которые часто оставались на бумаге, а иногда строились; выпускались журналы. Перед всем сообществом советских архитекторов стояла непростая задача: как построить много жилья и сделать это максимально дешево. Решений было много, некоторые из них были диаметрально противоположными. Например, в районе метро «Сокол» в Москве в начале
Архитекторы-конструктивисты сделали ставку на многоквартирный дом и искали решение в балансе экономических, строительных и гигиенических параметров.
Во-первых, требовалось найти минимальный размер жилой ячейки, то есть квартиры, в которой человеку удобно, где он получает достаточно места для сна и работы, и добиться того, чтобы туда попадало максимальное количество света. Архитекторы предложили совсем убрать из квартиры или уменьшить функции, которые человек может разделить с другими. Пусть будет меньше кухня, а чтобы поесть, можно ходить в столовую. Пусть человек стирает одежду не в своей ванной, а относит в прачечную.
Сегодня это звучит экстремально, но в то время казалось решением одновременно нескольких проблем. Общая фабрика-кухня позволяет не только убрать кухню из квартиры, но и централизованно кормить рабочих более качественной пищей. Заодно между ними возникают дружеские отношения, формируется новое сообщество. А чем полезна прачечная? До появления стиральных машин стирка в квартире приводила к большой сырости и плесени. Стиркой занимались женщины, которые за эту работу не получали денег, то есть подвергались еще более жесткой эксплуатации, чем слуги до революции. Общая прачечная решает сразу много проблем: возникает более здоровая атмосфера и в квартире, и в семье.
Во-вторых, чем больше квартир-ячеек в доме, тем меньше материала тратится на каждую из них. Это с одной стороны, потому что с другой — тем больше придется строить коридоров и лестниц, теряя таким образом площадь, которую можно было бы использовать для жилья (лифты уже придуманы, но очень дороги и для массового жилья, о котором мечтают советские архитекторы, не подходят). Кроме того, не хочется превращать многоквартирный дом в муравейник, где никто никого не знает: дом должен способствовать развитию социалистического общества, в котором все товарищи.
Дома, где функции обобществлены и все живут одним коллективом, называли домами-коммунами. Но идеальных домов-коммун, в





Дом строился для архитекторов и инженеров, которые были готовы на своей шкуре проверить, как может быть устроена жизнь в менее комфортных пространствах, а это в идеальном доме-коммуне было бы неизбежно. Здание разделили на два корпуса: для семейных, с квартирами на две-три комнаты, и для холостых. Во дворе поместили еще один небольшой корпус, в котором должны были находиться коммунальные функции — например, клуб-столовая, прачечная и спортзал.
Как были устроены жилые корпуса? В обоих корпусах квартиры были двухъярусными, а на верхних этажах — даже трехъярусными. Такой тип жилой ячейки был разработан в Стройкоме под руководством Гинзбурга и использовался в доме Наркомфина. Это называется «жилая ячейка типа F». Две такие ячейки, расположенные одна над другой, занимали три этажа с одним общим коридором. Из него можно было войти в верхний этаж одних квартир и в нижний этаж других. В квартирах и в галереях, которые их объединяют, сделаны большие панорамные окна. Отсутствие лишних коридоров позволило сделать во всех квартирах окна на обе стороны и обеспечить сквозное проветривание.
В этом проекте архитекторы следовали, насколько им позволяли технологии и бюджеты, четырем из пяти принципов Ле Корбюзье. Железобетонный каркас давал возможность сделать в квартирах большие окна и более легкие стены — они были из кирпича или камышита, то есть камыша, закрытого бетоном. При этом внутри квартир стен почти нет, все пространство открыто. Инновационные фибролит и ксилолит — древесно-опилочные плиты — использовались во внутренних стенах и на полу. На плоских крышах корпусов, между которыми можно было пройти по мостику, планировалось сделать места для солнечных ванн и детскую игровую площадку. А вот ставить дом на ножки, как это было сделано с домом Наркомфина, не стали.
Самые интересные сегодня — это квартиры в корпусе для холостяков. Они были площадью не более 36 квадратных метров, состояли из спальни и большой гостиной-мастерской (ведь все жильцы имели отношение к проектированию). Предполагалось, что питаться жильцы будут по большей части в столовой, так что тут не было полноценных кухонь. В небольшом закутке по специальному проекту архитектора Соломона Лисагора были встроены кухни-шкафы, компактности которых позавидует любой современный шведский дизайнер.
Естественно, что с домом связана масса историй — забавных и не очень. Здесь жили некоторые из самых известных и талантливых архитекторов эпохи. Например, один из самых молодых и ярких конструктивистов Иван Леонидов, имя которого знают сегодня архитекторы по всему миру. В годы постройки дома он уже был не в чести: идеологические оппоненты конструктивистов выбрали именно его, чтобы критиковать авангардное движение. Шла кампания против «леонидовщины». Но архитектором очень интересовались за рубежом. Рассказывают, что сам Ле Корбюзье, который в этот момент занимался строительством дома Центросоюза в Москве, захотел посетить мастерскую знаменитого Леонидова. Но у него не было ни мастерской, ни даже квартиры — так что советское руководство в срочном порядке дало ему квартиру в доме «Показательное строительство».


Снова спросим себя, что общего между этими проектами? Все три проекта
Но в наших зданиях —
Каждое из этих зданий может восприниматься независимо от любого окружения. Это геометрически правильные объекты, форма которых никак не связана с контекстом, а только с тем, что у них происходит внутри. В прежние времена архитекторы чуть больше заботились о том, как сделать свои проекты похожими на соседние.
В каждом из этих проектов используются новые технологии. Они немного разные, но есть и то, что их объединяет. Это независимость структуры здания от конструкции. В прошлом была необходимость делать все или почти все стены несущими, иначе здание не могло стоять. Это значило, что большой зал, или высокий потолок, или коридор с одинаковыми комнатами, или
Как мы уже говорили в самом начале, в каждом из этих проектов заложено много амбиций: новое устройство жизни, новые принципы архитектуры, архитектор, который придумывает и воплощает эти правила и создает новый мир. И в то же время эти принципы и правила — результат не только творческой интуиции, озарения или вдохновения. Философия этих архитекторов описана, к философии прикладываются расчеты, схемы и чертежи — бери и следуй новым правилам, развивай или критикуй.
Последнее обстоятельство особенно важно. Каким бы привлекательным ни было ар-нуво, каким бы успехом ни пользовалось ар-деко — им не удалось пережить той эпохи, в которой они возникли. Если сегодня мы и обращаемся к ним, то из-за ностальгии, из желания вернуться в прошлое. Архитекторам-модернистам удалось создать целую систему, гибкую, но отвечающую запросам времени, постоянно развивающуюся. Ее можно было преподавать, сперва в созданных самими модернистами школах — Баухаусе в Германии, Вхутемасе в СССР. Когда Баухаус разгромили, то Гропиус и Мис ван дер Роэ переехали в США и перенесли новые подходы туда. А в СССР даже переориентация на классику в середине 1930-х не помешала новым методам спрятаться внутри профессии, чтобы потом, с очередным изменением курса власти во второй половине 1950-х, снова расцвести.
Модернизм оказался не только доктриной, которую легко преподавать, — он хорошо отвечал нуждам как капитализма, так и социализма. Архитекторы-модернисты верили в возможности технологий: железобетона, металла, новых материалов, верили в эффективность стандартизации и разрабатывали системы универсальных размеров всех элементов, от металлической конструкции, которая держит весь дом, до кухонного шкафчика. Это оказалось очень на руку и на Западе, и на Востоке и после Второй мировой войны помогло проектировать и строить торговые центры, офисные небоскребы, больницы и, главное, много нового жилья. Если между войнами речь шла об отдельных экспериментах и поисках,


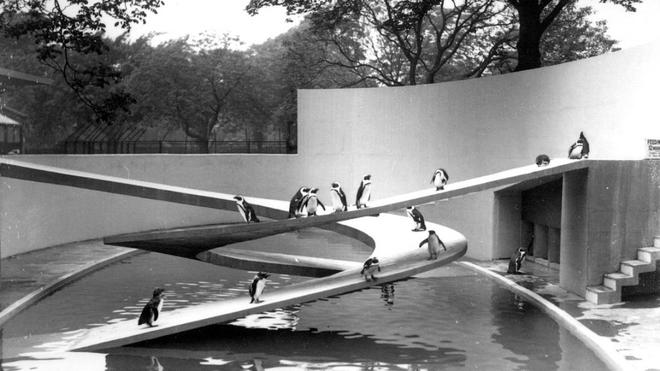

Крупными центрами модернизма стали не только Франция, Германия и СССР, но и Нидерланды, где благодаря движению «Стиль» и Амстердамской архитектурной школе модернизм начал развиваться уже до войны, а после нее стал еще интереснее и сильнее. В Великобритании модернизм появился отчасти благодаря Бертольду Любеткину, эмигранту из России, который начал тесно сотрудничать с инженером Ове Арупом. Сегодня Arup — это одна из самых крупных в мире архитектурно-инженерных компаний, с 15 тысячами сотрудников и представительствами в 35 странах. Вот такой бизнес с помощью модернизма удалось построить! Архитекторам-модернистам удалось удержаться в Италии, единственной из стран с тоталитарным режимом, — потому что Муссолини на заре своей политической карьеры водил дружбу с радикальными художниками и поэтами. После войны новые поколения итальянских архитекторов опирались на достижения архитекторов
Так же легко модернизм распространялся и в развивающихся странах. Одни из них хотели примкнуть к соцлагерю, другие следовали в фарватере США. И в том и в другом случае именно модернистскую архитектуру им было проще всего перенять от обеих супердержав. Аэропорты, деловые комплексы, инфраструктура — мы находим очень похожую архитектуру на всех континентах. В некоторых местах соединение модернизма и местных традиций дало интересные результаты, которые, в свою очередь, повлияли на весь мир: так случилось, например, в Латинской Америке и в Японии.
Модернистская архитектура не существовала в вакууме. С самого начала она была связана с изобразительным искусством, в первую очередь с абстрактным, а также графическим и предметным дизайном: художники-абстракционисты Василий Кандинский и Пауль Клее преподавали в Баухаусе, Пит Мондриан был товарищем нидерландского архитектора Геррита Ритвельда. В СССР о конструктивизме, который можно считать одним из множества вариантов модернизма, первыми стали говорить художник Владимир Татлин, фотограф Александр Родченко и графический дизайнер Алексей Ган.
Что же касается дизайна, то мебель Баухауса, Ле Корбюзье, журналы и текстиль советского авангарда повлияли на развитие визуальной культуры и предметного мира не меньше, чем архитектура. Архитекторы-модернисты сами часто занимались мебелью. Как мы уже обсуждали, для некоторых проектов мебель надо было делать специально, потому что предметов, вписывающихся в новые экономичные пространства, тогда не производили. В других случаях старая мебель не вписывалась в новые пространства концептуально. Она была слишком тяжелой, плотной, часто использовала элементы архитектурного языка прошлого. Требовалось же
Один из первых таких предметов сделал дизайнер и архитектор Марсель Бройер в 1926 году. Это кресло на основе из металлической трубки — по легенде, Бройер вдохновлялся технологией производства велосипедов. На этой основе натянута ткань или кожа. Сегодня этот предмет мебели хорошо известен под именем «Василий», якобы в честь Кандинского. Настоящее название кресла было более технологичным — B3, а имя художника уже после войны дали коммерсанты: Бройер и Кандинский и в самом деле были хорошо знакомы по Баухаусу.


Другим направлением работы дизайнеров-модернистов были поиски максимально эффективного и технологичного способа производить мебель и пользоваться ею. Хорошим примером здесь может быть так называемая «Франкфуртская кухня» — проект архитектора Маргарете Шютте-Лихоцки. В 1926 году она разработала для квартала нового жилья специальный кухонный гарнитур, который должен был сделать работу хозяйки по дому максимально эффективной. Архитектор пересчитала все движения, которая делает хозяйка, и вывела оптимальное время для их выполнения. Гарнитур позволял совершать минимальное количество движений и, главное, меньше ходить по кухне, а значит — меньше уставать.

Успешно и очень быстро модернисты вырвались и в другой масштаб: градостроительный. Радикальные преобразования старых и строительство новых городов начались после Второй мировой войны, но многие смелые идеи архитекторы выдвинули уже в межвоенный период, причем это касалось и СССР, и Европы, и США. Здесь снова был первым Ле Корбюзье, который в середине


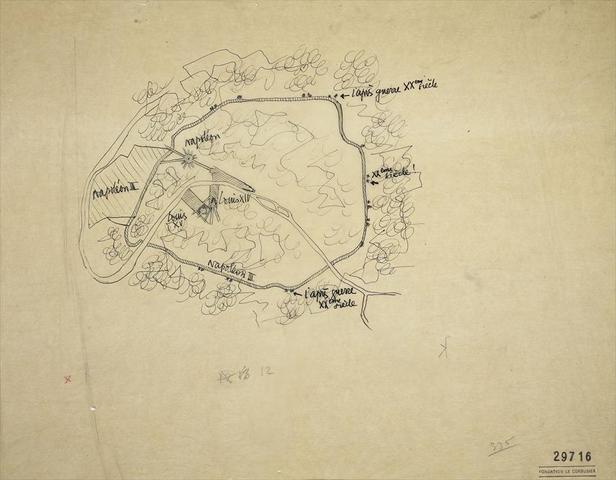
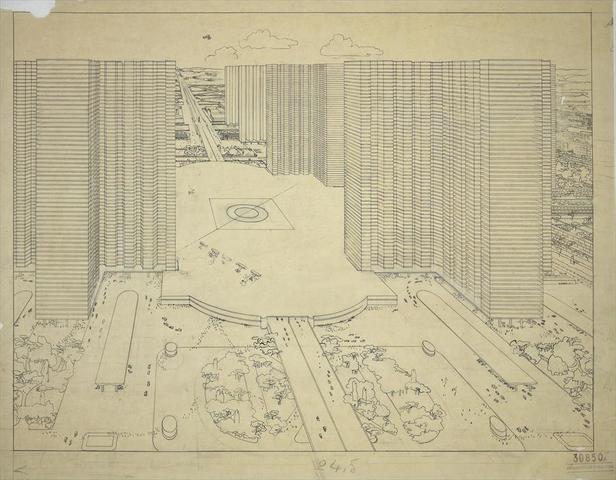
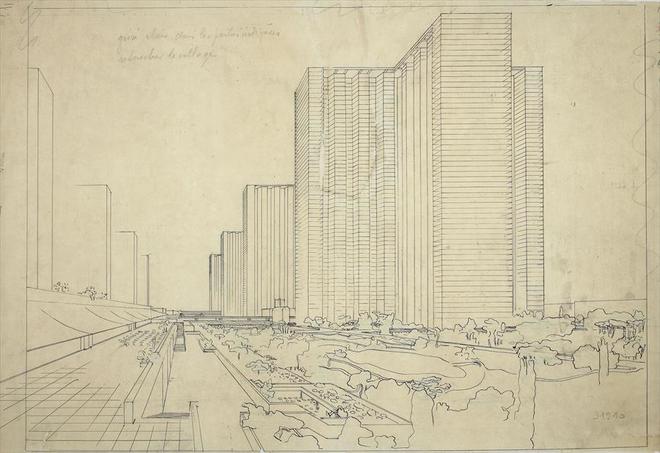

Модернизм больше, чем
Именно эти амбиции и стали объектом критики уже
И главное, несмотря на всю критику, ошибки и сложности, модернистам во многом удалось сформулировать принципы того предметного мира, в котором мы живем и сейчас. На этих принципах — максимальной функциональности, технологичности и простоты формы — теперь построено производство всех вещей и зданий, вне зависимости от масштаба и назначения: от стульев до небоскребов, от музеев до автомобильных мостов.
В 1967 году на экраны вышел фильм французского режиссера и комика Жака Тати «Время развлечений». Сюжет фильма — если так можно выразиться, потому что сюжета как такового нет — простой. Главный герой, немного неуклюжий господин Юло, которого играет сам Тати, ходит по современному Парижу. Пытается познакомиться с туристкой из Америки, заглядывает на выставку современной бытовой техники, в
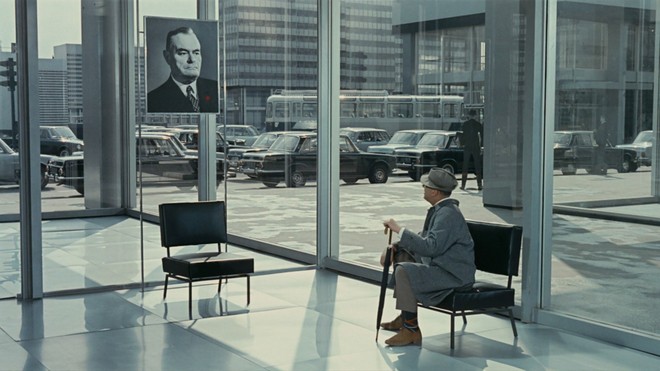




Но почти половину фильма занимает сцена в ресторане, которая делает эту критику еще более глубокой. Это настоящий шедевр. Сюжета как такового нет, но каждую секунду на экране происходит
Хаос постепенно нарастает. Ресторан тоже представляет собой типичное модернистское пространство, но роскошное: с большим количеством стекла, дерева, мрамора, современных материалов — пластик, неоновые лампы… Но строить его заканчивают прямо перед появлением гостей. И выясняется, что построили его плохо: в нем все отваливается, постепенно перестает работать; лампочки выключаются, мраморные плиты отлетают. По залу бегают директор ресторана и архитектор, которые должны все время
В этой сцене прекрасно отражена вся критика модернизма: не в том смысле, что он плохо построен, а в том, что скучен и не имеет отношения к жизни. Жизнь имеет обыкновение идти своим чередом даже тогда, когда архитектура не помогает, а мешает. «Меньше значит больше» («Less is more»), — говорил Мис ван дер Роэ, который как раз в это время, в середине 1960-х, строил одни из самых крупных своих небоскребов. «Меньше значит скучнее» («Less is a bore»), — возразил американский архитектор Роберт Вентури, о книге которого мы поговорим очень скоро.
Первая мировая война вызвала у многих европейских архитекторов, да и не только у них, ощущение, что общество нуждается в скорейших и радикальных реформах. И архитектура может сыграть важнейшую роль: дать всем, кто нуждается, более здоровые условия для жизни и работы. Вторая мировая война привела к глубокому разочарованию в возможностях радикальных перемен. Напротив, убежденность модернистов в том, что они знают, как все должно быть устроено, их вера в технологию стала ассоциироваться с тоталитарными режимами, которые способны ради больших идей приносить в жертву миллионы, организуя общество и ресурсы с помощью технологий.
При этом парадоксальным образом с концом войны и победой над Третьим рейхом и его союзниками объем участия государства в архитектуре и градостроительстве не уменьшился, а только возрос. Жилищный кризис, который был достаточно острым до войны во всех развитых странах, после войны стал еще острее — из-за разрушений и социальных перемен, которые привели к перемещению миллионов людей из деревень в города в поисках более счастливой доли. За время войны все государства выстроили бюрократические и фискальные, налоговые инструменты, дававшие им гораздо больше власти, чем прежде. Строительство и развитие рынка недвижимости рассматривались как способы восстанавливать не только разрушенные города, но и экономику в целом. В результате первые послевоенные десятилетия были отмечены невиданным ранее размахом государственного строительства: жилья, дорог, мостов, инфраструктуры. Модернистская архитектура — технологичная, стандартизированная, экономичная — оказалась очень к месту. И не всем архитекторам понравилось, во что превратились идеи о переустройстве мира в руках бюрократов и технократов по обе стороны железного занавеса.
Заметить, что архитекторы не вполне довольны, можно было по дискуссиям на Международном конгрессе современной архитектуры (CIAM). Эту организацию еще в конце 1920-х создал Ле Корбюзье и его коллеги, архитекторы-урбанисты. Конгресс регулярно собирался, чтобы обсудить разные проблемы современной архитектуры. На первых порах в его работе участвовали и советские архитекторы.
Одним из важнейших направлений работы конгресса была разработка теории градостроительства, которая отвечала бы современности. В 1933 году на встрече в Афинах (а точнее, на пароходе, который следовал из Марселя в греческую столицу) архитекторы приняли «Афинскую хартию» — градостроительную программу, сформулированную на основе продолжительного исследования планировки и застройки разных городов мира. Среди принципов хартии можно упомянуть предпочтение отдельно стоящим домам, которые открыты солнцу и свежему воздуху, а не собраны в тесные кварталы с узкими переулками. А также предложение четко разделять город на отдельные функциональные зоны — деловые, жилые, рабочие, — чтобы в каждой обеспечить максимально комфортные и здоровые условия. В «Афинской хартии» старые районы городов описывались весьма критически: тесные, грязные, темные, болезненные.


Хартия была опубликована только в начале 1940-х годов, когда уже шла война. Активное строительство в согласии с теми принципами, которые были в ней изложены, началось как раз после 1945 года. Громадные районы социального жилья на основе технологии панельного домостроения возникли во Франции. В Финляндии были построены спальные районы, в которых в зеленом ландшафте стояли отдельные жилые здания. В СССР вдохновились обоими примерами — хотя были и свои разработки, но одна из самых популярных моделей хрущевок была сделана на основе технологии, купленной во Франции. А финский опыт повлиял на развитие идеи микрорайона. В советских городах этой эпохи идея разделения города на отдельные функциональные зоны просматривается очень хорошо: крупные промышленные районы, такие же крупные жилые, в них больницы, клубы, школы четко рассчитывались по количеству людей.


Но уже к середине 1950-х годов в CIAM наметился раскол. Архитекторы- модернисты столкнулись с новыми для себя задачами и не могли прийти к единому мнению о том, как действовать. С одной стороны, их приглашали работать в странах, далеких от Европы: в Африке, Латинской Америке, Индии. Совсем другие климатические условия, чем в Европе, другой культурный и исторический бэкграунд заставляли задуматься о том, насколько модернистская доктрина была готова решить все мировые проблемы.
С другой стороны, требовалось
Молодые архитекторы, входившие в конгресс, начинали предлагать смелые идеи и критиковать старших. На один из конгрессов Ле Корбюзье — все еще лидер и один из самых известных архитекторов современности — просто не явился, а прислал письмо, объясняющее, что напряжение между поколениями делает работу конгресса малопродуктивной и пора дать молодым дорогу. Но когда подготовку одного из следующих конгрессов и правда поручили группе молодежи, то они выдвинули настолько радикальные идеи, что в итоге в 1959 году конгресс самораспустился. Открывалось пространство для новых парадигм.
Спустя еще 10 лет по случайному совпадению почти одновременно, в 1966 году, свет увидели две книги. Одна из них принадлежала итальянскому архитектору Альдо Росси, другая — его американскому коллеге, Роберту Вентури. Обоим архитекторам было около сорока, что по меркам профессии совсем немного. У обоих была не такая богатая практика, но они совмещали работу с преподаванием и исследованиями истории архитектуры.
Книга Роберта Вентури называлась «Сложности и противоречия в архитектуре» и была издана Музеем современного искусства MoMA в Нью-Йорке. Это тот самый музей, который в 1932 году организовал выставку «Интернациональный стиль» с проектами Ле Корбюзье, Гропиуса и Миса ван дер Роэ. Грант на работу над книгой Вентури получил от Фонда поддержки исследований в сфере искусства Грэма, в совете которого одно время заседал Мис ван дер Роэ. Но сама книга посвящена критике модернизма. И буквально на первых страницах Вентури критикует тезис «Меньше значит больше», который принадлежит Мису ван дер Роэ. Он говорит о том, что ему нравится сложная, неоднозначная, противоречивая архитектура, такая же, как поэзия, в которой мы совсем не ценим «простоту». «Меньше значит скучнее», — прямо заявляет Вентури. Кроме этого, в подтверждение своих слов он приводит два интересных размышления. Во-первых, говорит он, архитекторы-модернисты настаивают на том, что они «открыли» новые архитектурные законы: например, о связи пространства внутри здания с тем, как оно выглядит снаружи, связи структуры и фасада. Но и в классической архитектуре эта связь имелась, говорит Вентури и показывает это на многих примерах, просто она была устроена иначе — и интереснее. Во-вторых, продолжает он критиковать старшее поколение, модернисты утверждают, что в их зданиях нет ничего лишнего и все логично. Но, разбирая некоторые проекты модернистов, он показывает, что они зависят от многих условностей культуры, от экономики, от произвола и вкуса автора-художника не меньше, чем традиционная архитектура.
Важно отметить, что Вентури не упрекает модернистов в том, что у них плохая архитектура: он с удовольствием отмечает красоту построек Миса ван дер Роэ, финского модерниста Алвара Аалто, Ле Корбюзье, обнаруживая парадоксальные параллели между ними и архитектурой эпохи маньеризма и барокко.
А вот в начале 1970-х Вентури и его супруга и коллега по проектированию и преподаванию Дениз Скотт-Браун более решительно указывают на новые эстетические ориентиры. Вместе со студентами они отправляются в исследовательскую поездку в Лас-Вегас и по ее итогам выпускают еще одну книгу: «Уроки Лас-Вегаса».
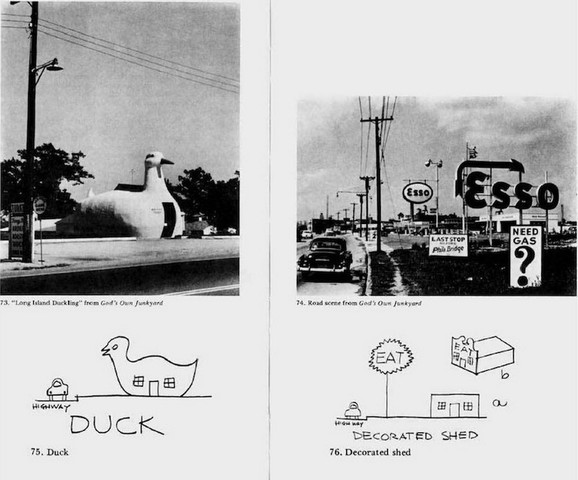

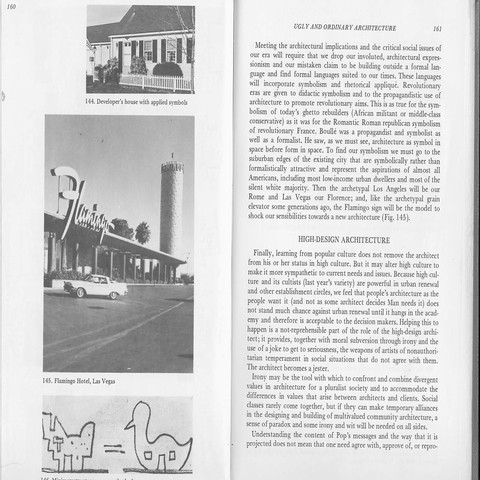
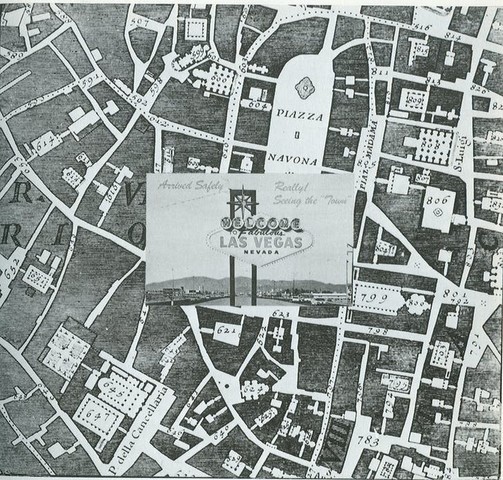
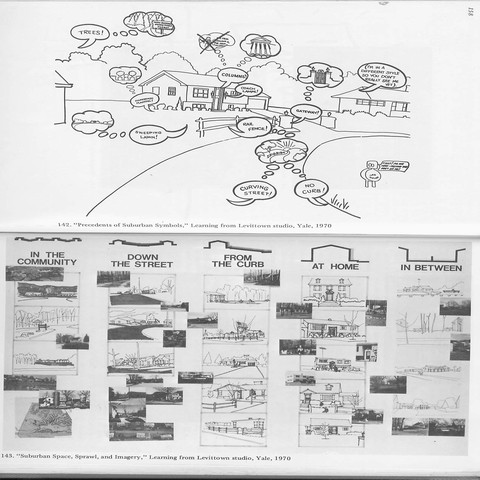
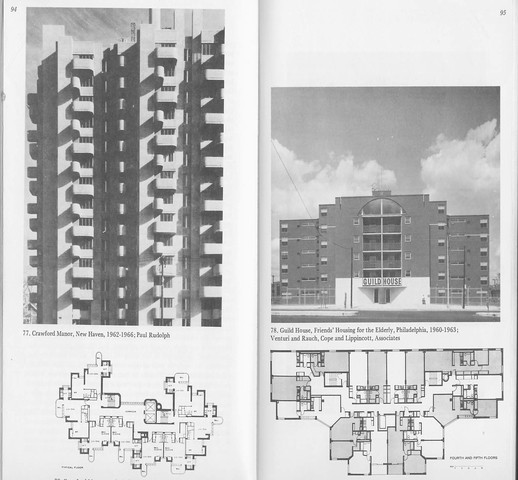

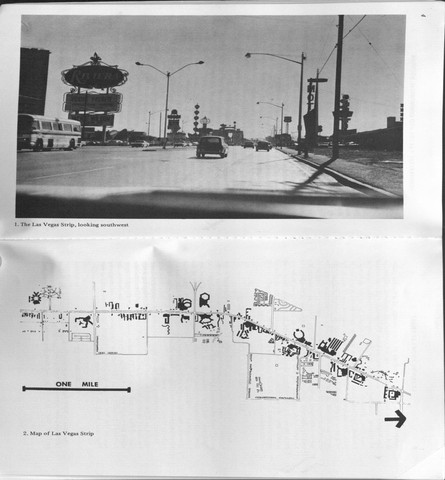
Лас-Вегас — город, который был построен в пустыне Невады практически с нуля. Это город казино, который к тому же очень зависим (как и многие части США) от автомобильного движения и соответствующей инфраструктуры. В результате возникла коллекция архитектуры, которая ориентирована на то, чтобы производить очень быстрое впечатление на человека, будь то турист, который ищет место для игры, или тот же турист, который мчит по трассе и должен не пропустить мотель, заправку или магазин с мелочовкой. В этой архитектуре — чудной, странной, часто непрофессиональной, кричащей — Вентури и Скотт-Браун ищут вдохновение: «Архитекторы... разучились смотреть вокруг без осуждения — ведь исповедуемый ими ортодоксальный модернизм по определению прогрессивен, если не революционен, утопичен и проникнут духом пуризма; он не удовлетворяется существующим состоянием», — пишут они в своей книге.
Одна из самых интересных особенностей книги — использование разных способов исследования Лас-Вегаса, а точнее, одной главной улицы, которой посвящена эта работа — Лас-Вегас-Стрип. Фотографии, зарисовки, коллажи из названий казино и магазинов, разные способы классификации объектов, раскадровки поездки по улице, анализ съемок местности с самолета, карты и прочее — все это создает эффект стереоскопического взгляда на проблему. Архитектор XIX века следовал академическим канонам в изображении архитектуры, правилам, которые были изобретены еще в Высоком Возрождении и с тех пор совершенствовались. Архитектор-модернист изобретал новые графические ходы, чтобы показать, какой логике следует его проект, какой алгоритм он использует. Вентури и Скотт-Браун совмещают все возможные способы передачи визуальной информации, чтобы показать, что нет одного языка, на котором надо было бы говорить об архитектуре. Что в каждом языке и даже в очень плохом архитектурном вкусе скрыто много «забытого символизма» — так гласит подзаголовок книги, — символизма, о котором надо вспомнить.





Тем временем в Италии над своей книгой «Архитектура города» работал Альдо Росси. В отличие от Вентури, он сфокусировался на городе, а не на отдельных зданиях. Но он приходит к похожим выводам: на всех уровнях — от формы города в целом, его сетки улиц, размеров кварталов до формы отдельного здания — мы имеем дело с отпечатками человеческой культуры, истории, памяти во всем ее многообразии. В начале книги он пишет:
«...Мне на ум приходит Палаццо делла Раджоне (здание городского суда) в Падуе. ...Более всего поражает множество функций, которые способен выполнять такой дворец, и то, что эти функции, можно сказать, совершенно не зависят от его формы, однако же именно эту форму мы рассматриваем и запоминаем, и именно она, в свою очередь, участвует в структурировании города».
Начиная разговор о функциях дворца в Падуе, Альдо Росси, как и Вентури, тоже критикует модернистов, утверждающих, что функции здания или района города должны определять его форму, как форма самолета определяется аэродинамическими требованиями. Если бы это было исключительно так, говорит Росси, то в городе не было бы ни истории, ни разнообразия, ни сложности. Как показывает Росси, обращаясь к самым разным городам и самым разным теориям города, от античных до современных, это не так: города и здания хранят в себе следы сложных политических, социальных и эстетических систем.
.jpg)
Одновременно, обращает он внимание читателя, когда мы взаимодействуем с памятниками архитектуры (даже не самыми великими, а просто достаточно характерными), то мы восхищаемся ими, хотя можем ничего не знать об их сложной истории. Сама форма обладает способностью впечатлять нас и передавать нам идеи, которые заложены архитекторами во время их строительства. Допустим, венецианская площадь Сан-Марко сохранится нетронутой в совершенно ином городе, каким, может быть, станет Венеция будущего. Тогда она будет производить на нас ничуть не меньшее впечатление и мы точно так же будем ощущать свою причастность к истории Венеции, как если бы ничего не изменялось на протяжении веков. Тем самым Альдо Росси, как и Вентури, обращается к теме символизма архитектурной формы, хотя использует для этого не такой шокирующий для читателя материал, как казино и мотели Лас-Вегаса.
Архитектура модернизма обладает некоторыми качествами, которые делают ее легко узнаваемой в любой стране. Простая геометрия, любовь к демонстрации конструкции и материалов, стремление к тому, чтобы здание отвечало своим задачам максимально прямо, — часто это и принимают за исчерпывающее описание модернизма, хотя исключений из этой схемы предостаточно, да и за самой схемой скрываются философии и споры, которые могут сделать даже похожие внешне вещи противоположными по смыслу.
Но с постмодернизмом ситуация другая: его версии многообразны, как поэзия, с которой сравнивал архитектуру Роберт Вентури. И — как история конкретного города — постмодернизмы обладают своими характерами. Как и поэзию или кинематограф, постмодернизм можно различать по уровню сложности, по тому, какой отклик и у какой аудитории здание должно вызвать. Здесь есть очень простые ходы, которым тем не менее не откажешь в действенности.


Интересный пример показал архитектор Филип Джонсон, который пропагандировал архитектуру модернизма и бок о бок работал с Мисом ван дер Роэ: в 1958 году Мис построил один из первых своих крупных проектов в США, небоскреб Сигрем-билдинг на Манхэттене, изящный черный параллелепипед из стекла и металла, а Филип Джонсон сделал на первом этаже небоскреба ресторан Four Seasons, отчасти напоминающий ресторан из фильма Жака Тати. Но в начале 1980-х Филип Джонсон сам проектирует небоскреб для корпорации AT&T — в двух шагах от Сигрем-билдинг. В этом здании, которое иногда называют первым постмодернистским небоскребом, много от довоенных высоток в стиле ар-деко. Конструкции прикрывает фасад из камня, на уровне улицы при входе горожан встречает арка высотой 35 метров, которую сравнивали со входом в церковь Сант-Андреа в Мантуе архитектора Леона Баттисты Альберти XV века. Но особенно бросалось в глаза завершение здания. Классические небоскребы архитекторы любили завершать пирамидальными композициями со шпилями, иногда имитирующими старинную европейскую архитектуру. Модернисты предпочитали плоские крыши, технологичные и подчеркивающие геометрическую ясность. Небоскреб AT&T Филипа Джонсона завершается крупным треугольным фрагментом высотой в несколько этажей, в центре которого вырезан круг. Получившаяся композиция напоминает так называемые разорванные фронтоны, любимый декоративный элемент эпохи барокко, который позднее перекочевал в дизайн мебели. Поэтому небоскреб сразу стали сравнивать с комодом фирмы Чиппендейла — мебельного мастера XVIII века.




Здание вызвало много споров. Архитектора обвиняли в том, что это китч, шутка дурного вкуса — тем более дурного, что речь идет не о
Это «веселое» направление постмодернизма хорошо известно многим по использованию архитекторами классических форм в странных сочетаниях с современными, с измененными пропорциями или масштабами. Японский архитектор Кэнго Кума спроектировал в 1990 году в Токио здание шоурума и лаборатории для компании Mazda в виде гигантской древнеримской руины: в центре находится колонна с ионической капителью высотой с 10-этажный дом, в ней атриум и лифт; справа и слева от колонны — части здания, которые были бы обычными современными стеклянными и бетонными корпусами, если бы их не закрывали панели, имитирующие тоже увеличенную во много раз каменную кладку и арки классического здания.




Но есть и другой постмодернизм. Он тоже способен вызывать улыбку или недоумение, но уже только у зрителя, который подготовлен к прочтению произведения. Первым примером такой архитектуры стал дом, спроектированный самим Робертом Вентури еще в начале 1960-х, одновременно с тем как он работал над книгой «Сложности и противоречия...». Это небольшой загородный дом, который был построен для овдовевшей матери архитектора, и все в этом доме странно. Вентури, как сказали бы сейчас, делает ремикс из фрагментов загородных домов разных типов. Здесь есть двускатная крыша, как в традиционном доме, и труба, но есть и ленточное окно, как у виллы Савой (правда, не во всю длину фасада, а только в кухне). Над входом в дом можно увидеть светлую полоску — это бетонная перемычка над дверным проемом, которую любили делать видимой архитекторы-модернисты, подчеркивая тем самым технологичность здания. Поверх этой полоски видна тонкая рельефная дуга, как будто это след циркуля. Каждый архитектор, конечно, сразу вспомнит о полукруглом фронтоне, который любили архитекторы Возрождения и барокко.
Если присматриваться дальше, то все окажется не совсем тем, чем представляется. Двускатная крыша скрывает не чердак, а полноценный этаж. В том, что казалось кирпичной трубой, прорезано окно, в котором видна лестница с первого на второй этаж. Сюрпризов еще множество. Но обычному прохожему дом покажется разве что странным или забавным, а чтобы прочитать все шутки, потребуется специальное образование — или книжка-путеводитель.


А вот самым известным проектом Альдо Росси стало кладбище Сан-Катальдо в городе Модена в Италии. Город небольшой, но активное развитие и рост населения после войны привели к тому, что старое кладбище переполнилось. В 1971 году был объявлен архитектурный конкурс, который выиграл проект Росси и Джанни Брагьери. Кладбище становится отражением идеи города, о которой Росси писал в своей книге, где формы и функции существуют в тесном переплетении с историей, в диалоге итальянского архитектора с предшественниками.
Среди этих предшественников — французский архитектор XVIII века Этьен-Луи Булле, один из представителей направления, известного как «говорящая архитектура». Булле считал, что архитектурный язык должен обрести качества поэтического, в котором смысл слова и его форма (количество слогов, ударения, звучность букв) соединяются, чтобы создать нужный эффект. Такого же сочетания формы здания и его смысла (но не следует путать смысл с функцией) хотел добиться Булле, а вслед за ним — Росси.







В центре кладбища стоит крупный куб красного цвета с равномерно расположенными квадратными отверстиями. Он кажется необычайно тяжелым, устойчивым и вызывает в памяти образ надгробия и одновременно — благодаря квадратным отверстиям — колумбария. Оказавшись внутри, мы понимаем, что это и есть колумбарий. Устойчивый куб пустой внутри, лишь четыре стены, покрытые лестницами, галереями и рядами не таких больших квадратных ниш для урн с прахом. А те ниши, которые мы видели снаружи, оказываются окнами. Как в модернистской архитектуре, внешний вид здания совпадает с его содержанием, но эта связь не только структурная, но и поэтическая, связь ритмов квадратных решеток снаружи и внутри, напоминающая о том, что любая жизнь заканчивается небольшой нишей в стене.
Но бывали у постмодернистов эксперименты и более масштабные, и более противоречивые. Испанский архитектор Рикардо Бофилл, совсем недавно умерший, прославился своими жилыми комплексами. Каждый из них — крупное и интересное сооружение, всегда с новой идеей. Во Франции он построил в начале 1980-х жилой комплекс «Пространства Абраксаса» — возможно, одни из самых странных домов в истории.
Французы были одними из первых, кто начал проектировать и строить крупные комплексы социального жилья сразу после войны. Они получили название grands ensembles, «большие ансамбли», — звучит торжественно, но выглядело не очень. Бофилл решил это изменить. «Пространства Абраксаса» состоят из трех корпусов: один — десятиэтажный в форме полукруглой подковы — получил название «Театр»; другой — 18 этажей в форме буквы П, его зовут «Дворец». Они стоят друг напротив друга и создают закрытый двор. В центре двора стоит еще один корпус — башня, которая называется «Арка».









Все три здания жилые, в них около 600 квартир разных размеров (это примерно как две панельные многоэтажки). Но Бофилл придал этой архитектуре неожиданно торжественные формы, связанные с классикой. Все элементы представляют собой интерпретации колонн, портиков, антаблементов. Все эти формы укрупнены, так что колонна оказывается на самом деле эркером, лоджиями квартир, антаблемент занимает несколько этажей в высоту. Но много и просто декоративных элементов, рельефов, подчеркнутых цветом — торжественно-пурпурным или белым.
Основной цвет — серый, для которого Бофилл специально придумывал смесь бетона, которая делает стену похожей на известняк, из которого строились французские замки и дворцы. С технологиями в проекте вообще отдельная история: чтобы построить такое большое здание с такими интересными деталями, Бофиллу пришлось изобрести специальный конструктор из бетонных панелей. Бофилл говорил, что вдохновением для него послужила архитектура XVIII века — но она выполнена по технологиям панельного домостроения XX века.
Судьба этого потрясающего комплекса оказалась сложной. Как и многое другое социальное жилье, «Пространства Абраксаса» столкнулись с тем, что поддержание их в надлежащем состоянии — это задача, которая ложится на плечи государства, а не жильцов. Чем сложнее архитектура, тем труднее ее содержать. Фантастические формы привлекли режиссеров фильмов-антиутопий. Состояние комплекса тоже стремительно приближалось к антиутопии, даже шли разговоры о сносе — но жильцы решительно воспротивились, что, вероятно, говорит об успехе. Однако вопросы о соотношении затрат и результата остаются.
Отношение к постмодернизму в Советском Союзе было двояким. Новости о постмодернистских экспериментах из-за рубежа перепечатывались в советских архитектурных журналах иногда с сочувствием, когда можно было сказать, что западные архитекторы борются с однообразием и унылостью массовой застройки, а иногда с осуждением, если эксперименты были слишком смелыми, — тогда говорилось, что западный архитектор вынужден угождать вкусам буржуазной публики, которая уже не знает, как себя развлечь.
Одновременно критика массовой типовой застройки советских городов становилась все острее. Все помнят, как посмеялся над одинаковостью домов в Москве и Ленинграде Эльдар Рязанов в «Иронии судьбы». Но это только небольшой эпизод, который сохранился благодаря популярности фильма. А между тем и профессиональная пресса, и газеты и журналы для широкой аудитории публиковали критические заметки о том, каким монотонным и безликим становится городской пейзаж и что с этим надо
Хотя использовать термин «постмодернизм» в отношении советской архитектуры было де-факто запрещено, но эксперименты в этом направлении имели место. Особенно свободно чувствовали себя архитекторы, когда работали с театральными зданиями и зданиями для детей: тут позволялась необычайная игривость и множественные отступления от канонов. А если театральная и детская темы совмещались, как в Музыкальном театре имени Натальи Сац или в Театре зверей имени Дурова, то здание превращалось в праздник деталей, символов, разнообразных каменных метафор. Здание театра Натальи Сац в Москве в 1979 году построили архитекторы Александр Великанов и Владилен Красильников, а Театр Дурова был спроектирован Григорием Саевичем в 1980-м.



Но были в советской архитектуре и более глубокомысленные постмодернистские опыты — например, небольшая аптека в Орехово-Борисово по проекту архитекторов Евгения Асса и Александра Ларина, построенная в 1973 году. Аптека выглядела как небольшое отдельно стоящее здание, одно из тысяч подобных зданий, которые ставились в новопостроенных микрорайонах. Но фасад аптеки был выполнен в форме большого красного креста. Это было высказывание одновременно в духе казино и мотелей Лас-Вегаса и в модернистском духе, ведь лас-вегасское казино делали похожим на египетскую пирамиду или Тадж-Махал, хотя внутри было казино, а здесь в здании, форма которого была символом медицинской помощи, действительно находилась аптека. И одновременно белое здание, часть которого была выполнена в форме красного креста, напоминало супрематическую живопись и скульптуру Малевича — искусство, о котором в СССР в 1970-х годах еще надо было говорить вполголоса. К сожалению, в отличие от театров, которые неплохо сохранились до наших дней, аптека стала магазином и была основательно перестроена.
После всего, что мы уже знаем об ар-нуво и ар-деко, вряд ли вас сильно удивит тот факт, что постмодернистский дизайн пользовался необычайным успехом. За время, прошедшее с 1920-х годов, когда дизайнеры начали всерьез экспериментировать с массовым производством, была выстроена большая индустрия. Своим размахом она была обязана стандартизации размеров и линий производства и материалам, которые начали тоже производить массово и дешево: металлы, пластики и ткани. А также потребителям, уже привыкшим к типовым продуктам.
Пятидесятые и шестидесятые годы были временем модернизма в дизайне, эпохой, которая получила название mid-century modern. Тогда европейский модернизм, перенесенный в США, совместился с возможностями растущего рынка. Но в 1970-х внимание к себе приковали итальянские дизайнеры.






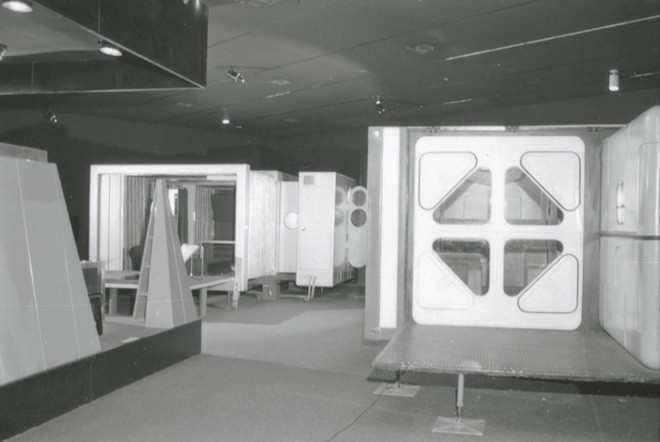
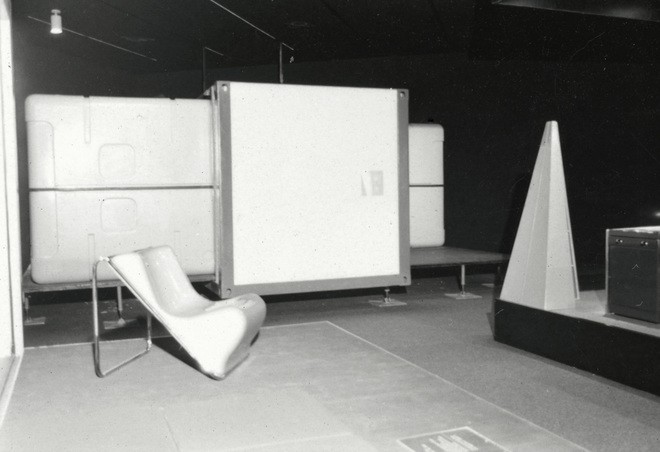

Новое явление опять заметили в Музее современного искусства MoMA: в 1972 году там прошла выставка «Италия: новый домашний ландшафт». В глаза бросалась любовь к пластику, к исследованию его возможностей создавать плавные округлые формы, окрашиваться в яркие цвета, менять плотность и прозрачность от солнечного или электрического света и так далее. Если первые эксперименты с ним еще следуют логике модернизма — современная мебель должна быть функциональной и экономичной, — то постепенно дизайнеры входят во вкус. Вот лампа, которая выглядит как увеличенная пилюля: продолговатая, с округлыми завершениями и двухцветная. Вот кресло ярко-красного цвета из полиуретана, резиноподобного материала. Его автор Гаэтано Пеше дал ему имя Donna, а форму кресла чаще всего связывают с формами доисторических фигурок Венеры. К креслу на веревочке привязан крупный шар из того же материала — как символ ядра, которое
Но больше всего удивляла мебель Этторе Соттсасса. Это комоды, которым придаются простые монументальные формы. Вертикальные параллелепипеды на постаментах по пропорциям напоминают небоскребы. Но они обклеены ярким пластиковым ламинатом: на красном постаменте стоит шкаф в красную полоску, яркий желтый — на постаменте в коричневую полоску и так далее. В 1980-х Соттсасс собрал вокруг себя компанию дизайнеров помоложе, и они основали группу «Мемфис», где игра с веселыми цветами и дурашливыми формами достигла своего пика.



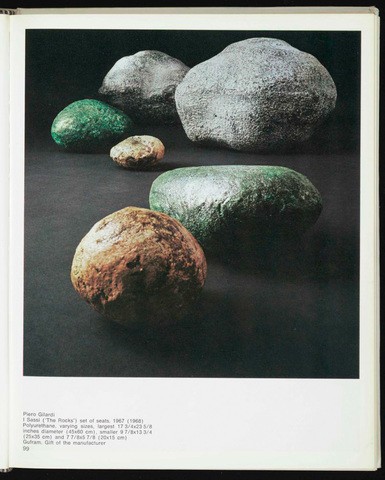
Игра, веселье, дурашливость — это самые заметные качества постмодернизма, хотя они принадлежат далеко не всякому проекту. Осуждать такой постмодернизм начали сразу — и изнутри профессии, и снаружи. Многим высоколобым критикам, воспитанным на модернизме с его чистыми формами, постмодернизм казался предательством достижений архитектурного прогресса. За что боролись архитекторы перед войной? За разумное переустройство городов, за аскетичное, но доступное жилье, за формы, которые отражают современный уровень развития технологий. А что предлагают постмодернисты? Игру с формами и символами, дорогостоящие шутки, которые могут себе позволить только корпорации или богатые владельцы особняков.
Изнутри профессии постмодернистов ругали и тогда, когда они якобы потакали вкусам публики, которая радуется ярким цветам и простым образам, и тогда, когда они создавали слишком заумные шарады и ребусы, понятные только своим. Сама Дениз Скотт-Браун предлагала провести границу между постмодернизмом и тем, что стали сокращенно называть «PoMo». Постмодернизм, писала она уже в 2010-х годах, был продолжением модернизма: «...мы считаем функционализм главным достижением современной архитектуры», — говорила она. Но добавляла: «Сегодня мы должны расширить понятие функционализма... включив в него силы природы и общества» Д. Скотт-Браун. Наш постмодернизм // Проект International. № 32. 2012.
Перевод Анны Броновицкой.. Иначе говоря, если классические модернисты интересовались только материальными, базовыми функциями, то постмодернисты — еще и символическими, эстетическими, психологическими и так далее. Но архитекторы PoMo стали ориентироваться на коммерцию, отказались думать о социальных проблемах, и это закончилось «эстетическим провалом».
Но с такой характеристикой постмодернизма были согласны не все. Другой видный теоретик, критик Чарльз Дженкс, одним из первых в 1977 году описал постмодернизм как явление со стороны. Он сделал это в книге «Язык архитектуры постмодернизма», настолько популярной, что на русский ее перевели в 1985 году. Он много раз отмечал, что постмодернизм был не просто эстетической игрой, но во многом политической программой, направленной на создание более гибкого и демократичного языка архитектуры. Он критиковал модернизм за утопические амбиции, следование жестким доктринам, однообразие языка и в результате — за неуместные, неудачные и далекие от публики проекты. А постмодернизм Дженксу казался более гибким. Он говорил, что если модернист следует всегда одной программе, то постмодернизм принимает решение о каждом проекте, ориентируясь на конкретные обстоятельства. Дженкс использовал для этого латинское выражение ad hoc, то есть по «особому случаю», специально для этой ситуации, и даже произвел из него термин «адхокизм». Постмодернистская архитектура готова подстраиваться под нужды заказчика, сообщества, под местный архитектурный язык и культуру.
Сегодня такой яркий и удалой архитектурный постмодернизм, каким он был в 1970–80-х годах, большая редкость. Да и в интерьере постмодернизм в чистом виде тоже встречается не так часто: слишком много эмоций, ярких цветов, причудливых форм. Жить в таком тяжело. Проще иметь пару постмодернистских предметов, например одно кресло или даже

Действительно ли модернизм был так плох? Нужно ли было исправлять его именно постмодернизмом? И действительно ли так велика разница между ними, или же это правда две стадии одного общего проекта современной архитектуры — пусть противоречивого, с конфликтами и дискуссиями между участниками? В пользу последнего говорит то, что, как и модернизм, постмодернизм начинался с попытки переосмыслить состояние архитектуры и ее отношения с историей и современностью.
Интересно, однако, что модернисты начинали с коротких текстов, журналов, брошюр и быстро переходили к проектированию зданий, которые воплощали бы их идеи. Идея возникала у них в первую очередь, а здание становилось иллюстрацией, проверкой. Поэтому они были не против идти на компромиссы, создавать не вполне эффективно работающие здания — лишь бы идея получила свое подтверждение. В конце концов, она придумывалась на будущее, которое еще не настало. Постмодернисты (те, что начинали процесс переосмысления) не стремились как можно скорее
Это говорит о том, как меняется профессия архитектора в XX веке. Вне зависимости от эстетических ориентиров и споров в ней все более заметную роль играет теория, философия, критическое исследование истории, даже очень недавней. Развитие этой стороны профессии уже нельзя представить себе без особой инфраструктуры, напоминающей инфраструктуру современного искусства или даже науки: это университеты, музеи и культурные центры, фонды поддержки искусства и исследований.
И одновременно, хотя модернисты желали изменить мир и были готовы предложить ему свои идеи, именно у постмодернистов получилось стать звездами, близкими к художникам или кинорежиссерам. Еще бы: каждый раз, когда на улицах городов появлялась
«Минимализм», «минималистичный» — в архитектуре и дизайне это одни из самых популярных слов. Что имеется в виду? Простая геометрия пространств? Отсутствие мебели? Белые стены? Как со многими популярными темами, в минимализме есть, с одной стороны, то, что полюбили заказчики и интерьерные журналы, а с другой — то, что было предметом размышлений архитекторов и дизайнеров, чему были посвящены дискуссии, поиски и эксперименты.
Минимализм — это результат дискуссии, возникшей между архитекторами-модернистами, о том, как провести границу между искусством и коммерцией в архитектуре. В изобразительном искусстве, в кино и много где еще эта граница проводится так: то, что только доставляет удовольствие, но не заставляет задуматься, не требует душевного напряжения, — то коммерческий продукт, в форме картины или скульптуры, фильма или музыки. Но как быть с архитектурой? Архитектура отличается от других видов искусства тем, что она используется некоторым образом: мы в ней спим, едим, работаем, общаемся. Удовольствие тоже имеет значение. Но еще можно изучать разницу между зданиями, которые архитектор построил максимально функциональными, и такими зданиями, в которых архитектором руководило и еще
Если архитектор делает ровно то, что нужно людям — я понимаю, что это звучит парадоксально, — то в чем искусство? Во-первых, это мог бы делать тогда кто угодно или, например, компьютер. Во-вторых, все дома были бы одинаковыми.
А вскоре после Второй мировой войны архитекторы обнаружили, что модернизм стал весьма популярен. Во многом именно благодаря экономичности и функциональности — это было ближе и рынку, и многим государствам. Можно также сказать, что он стал модным, то есть с его помощью можно было продемонстрировать, что вы современная компания, раз у вас такой небоскреб из стекла и металла, что в вашем магазине современные продукты, что вы сам современный человек, раз живете в модернистском особняке.




Как же вернуть в архитектуру искусство и при этом оставаться модернистом? Один из ответов на этот вопрос дал снова Ле Корбюзье. До войны он прославился белыми параллелепипедами своих вилл, в 1955 году вдруг делает церковь во французском городке Роншан. Это объект очень сложной формы, которую часто сравнивают с морской раковиной или с шапками католических монахинь. Вместо ровных рядов окон он прорезает этот сложный объем хаотически расположенными отверстиями разной формы — внутри солнечные зайчики создают ощущение, похожее на то, что возникает в старинном соборе. Наконец, бетонная поверхность отнюдь не гладкая: Корбюзье использует то, что получило название béton brut — шероховатая поверхность, на которой иногда видны следы опалубки, деревянных щитов, в которые заливается бетон. Скульптурность, грубый бетон — это реакция Ле Корбюзье, а вслед за ним и многих других архитекторов на широкое распространение модернизма.
А архитектура минимализма — это другая реакция. Она сформировалась под влиянием трех сил. Первая — развитие современного искусства. Вторая — новые идеи о модернизме, которые предложили архитекторы, находившиеся немного на отдалении от главной архитектурной сцены — в Японии и Северной Европе. Третья — развитие американской и западноевропейской архитектурной мысли. И мы последовательно посмотрим на все три, начиная с искусства.
Архитектура и изобразительное искусство всегда были тесно связаны друг с другом. Но с минимализмом особая история — ведь само слово «минимализм», или minimal art, в первую очередь используют по отношению к искусству.
Переместимся в послевоенную Америку. В искусстве это было время господства абстрактного экспрессионизма, а самым ярким представителем этого направления можно считать Джексона Поллока. Для абстракционистов довоенного времени важно было освободить живописную форму от диктата сюжета. В своей книге «Точка и линия на плоскости», которая была опубликована на немецком языке в 1926 году, Василий Кандинский говорит о том, что линии и точки могут быть выражением разных эмоций и состояний. Но Поллок делает шаг вперед: линии и точки зависят напрямую от его собственного состояния, потому что он не пишет картины как обычный художник, а разбрызгивает краску на холсте. Эту технику стали называть дриппингом («капаньем»), а также «живописью действия». Поллок брал большие полотна — пять на два метра, например, — и покрывал их плотной сетью мазков разной толщины, нанесенных с разной силой: иногда он издалека взмахивал кистью, иногда бил ей по холсту. Его работы стали необычайно популярны. За картины художника соревновались галереи и музеи, он представлял США на Венецианской биеннале в 1950 году — вместе с двумя другими американскими художниками, Виллемом де Кунингом и Аршилом Горки. Они тоже были абстрактными экспрессионистам, работавшими в разных техниках, каждый со своим узнаваемым почерком и палитрой. Абстрактный экспрессионизм становился не только востребованным в художественном мире, но превращался в своего рода открытку, которую США отправляет старушке Европе: привет, теперь центр современного искусства находится здесь, здесь мы даем художнику полную свободу.


Реакцией на эти события в искусстве и стал минимализм. В абстрактном экспрессионизме в центре внимания оказывается харизматичный художник, темперамент, авторский стиль — все, что делает произведение искусства уникальным, романтизирует его. А это способствовало превращению искусства в фетиш, товар и даже в инструмент пропаганды. Минималисты хотели противопоставить этому голую правду объекта и формы. Если в картине Джексона Поллока зрителю предлагалось увидеть отражение романтической фигуры гения, то художники-минималисты провозгласили принцип «вы видите то, что вы видите» — то есть отношения между объектом искусства и воспринимающим должны исчерпываться формой объекта.
В 1965 году философ Ричард Уоллхейм опубликовал эссе «Минимальное искусство».
А тезис «вы видите то, что видите» принадлежал художнику Фрэнку Стелле, который дебютировал на выставке в MoMA в 1959 году серией под названием «Черные картины». Это очень крупные полотна, два-три метра в высоту и ширину, черные, с тонкими белыми полосами непрокрашенного холста. Стелла вообще был мастером загадочных афоризмов, вот еще один: «По отношению к картине существуют лишь две проблемы. Одна — выяснить, что такое картина, вторая — выяснить, как сделать картину». Иначе говоря, Стелла имел в виду примерно то же, что и Уоллхейм: как сделать не больше, чем нужно для произведения искусства, а необходимый минимум? И как понять, какой минимум необходим?

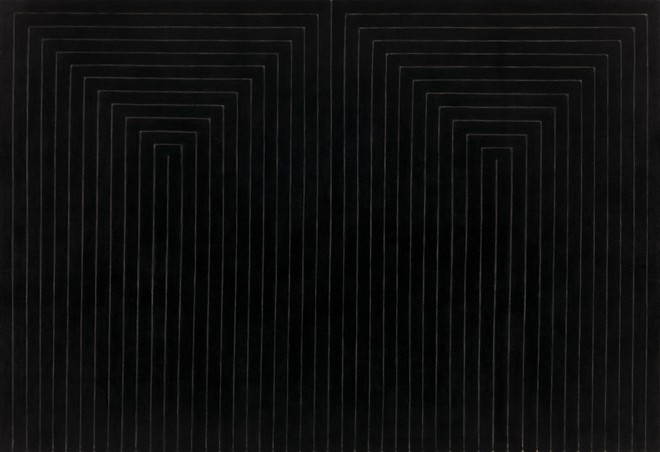
В 1966 году в Музее еврейской культуры в Нью-Йорке прошла выставка «Первичные структуры: молодые американские и британские скульпторы». Она представляла минимализм как уже сложившееся движение, которое нельзя было игнорировать или считать случайным ответвлением абстрактного экспрессионизма. На ней были работы 42 авторов, по большей части — абстрактные геометрические композиции крупного размера. Критики не сразу подобрали название для этого искусства: ABC art — то есть базовое искусство, reductive art — упрощающее искусство. Одна из статей называлась «Молодые мастера преуменьшения», и среди предшественников движения в ней фигурировали супрематизм Малевича, конструктивизм и башня Татлина.

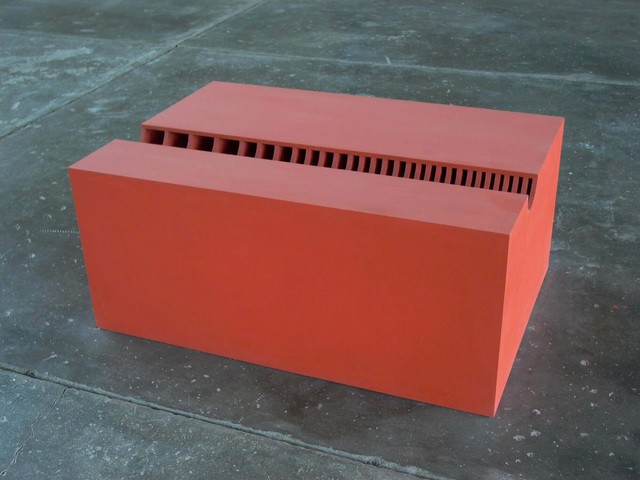
Во время дискуссии в музее один из художников-минималистов Марк ди Суверо сказал про другого, Дональда Джадда: «Мой друг Дональд Джадд не может считаться художником, потому что он ничего не производит», подразумевая, что художник все-таки должен делать
В конце 1960-х Джадд купил пятиэтажный дом в нью-йоркском Сохо и обустроил там мастерскую для работы с крупноразмерными объектами. Он стал одним из первых художников, которые постепенно превратили этот полузаброшенный район в центр интеллектуальной и творческой жизни.


Donald Judd’s New York home and studio
Другой заметной фигурой минимализма стал еще один художник, представленный на той выставке, — Сол Левитт. Как и Джадд, он тоже любит большие объемные структуры, но предпочитает кубы белого цвета, часто без заполнения, только грани. Его работы в
Примерно в это же время минимальной формой заинтересовались и некоторые музыканты. Тут она выражалась в небольшом количестве инструментов, в незначительном развитии мелодии (или развитии, которое занимает значительное время). Минимальная форма могла предполагать довольно внушительные размеры произведений: Ла Монте Янг написал фортепианную пьесу, которая длится четыре часа, Джон Кейдж уговорил музыкантов играть пьесу Эрика Сати 18 часов подряд. Часто именно многократное повторение одного элемента-паттерна считают специфическим признаком минимализма, отсылкой к ритуальной музыке и практикам медитации. Все эти практики фокусируют внимание на границах музыки как искусства. Такие простые вещи, как длительность музыкального произведения, мелодия, композиция, предлагается переосмыслить.
Но символом минимализма стала пьеса Джона Кейджа «4’33». В этом произведении музыканты не извлекают ни одного звука из своих инструментов. Часто говорит, что это пьеса о тишине. На самом же деле время музыкального произведения — 4 минуты 33 секунды — заполняется звуками окружающего мира: даже у самой подготовленной публики классических концертов не получается просидеть это время без покашливаний, ерзания и скрипа стульев.
Параллельно с процессами, которые происходили в американском изобразительном искусстве, похожее происходило в японской архитектуре. Японцы познакомились с модернизмом еще до войны, но потом всплеск национализма привел к тому, что связи с европейской школой были оборваны. Теперь же японские архитекторы снова смогли поехать на Запад, а западные архитекторы — в Японию. Очень быстро возник особый сплав модернизма с японским чувством прекрасного: чистые линии, много свободного пространства, графичность — все это было в японской культуре с древних времен и отчасти было связано с традиционными методами строительства из дерева и специальной бумаги, натянутой на деревянные рамы.
В 1955 году японский архитектор Кэндзо Тангэ построил мемориальный музей в Хиросиме. Этот музей представляет собой бетонный вытянутый параллелепипед на ножках. Это кажется повторением идей Ле Корбюзье и других западных архитекторов, только еще более радикальным. Поэтому это не просто памятник страшной трагедии, но и символ возвращения или обращения Японии к Западу, то есть выбор архитектурного языка носит здесь весьма политический смысл.


Но Кэндзо Тангэ этим не ограничивается. В 1953 году — музей в Хиросиме еще не был завершен — он присутствовал на церемонии реконструкции храма в Исэ, главного святилища религии синто, которое по традиции перестраивается каждые 20 лет точно в такой же форме. Вдохновленный увиденным, он издал книгу, посвященную храму, в которой отметил, что древняя архитектура отвечает современным принципам: ясность конструктивного решения, открытость всех материалов, чистота формы, свобода от лишних элементов. В храме все это соответствует технологии и традициям строительства из дерева, но современному архитектору надо следовать этим принципам и в работе с современными материалами — бетоном, металлом и так далее. Книга была опубликована в издательстве Массачусетского технологического института, где находится одна из самых сильных архитектурных школ США, да и всего мира.


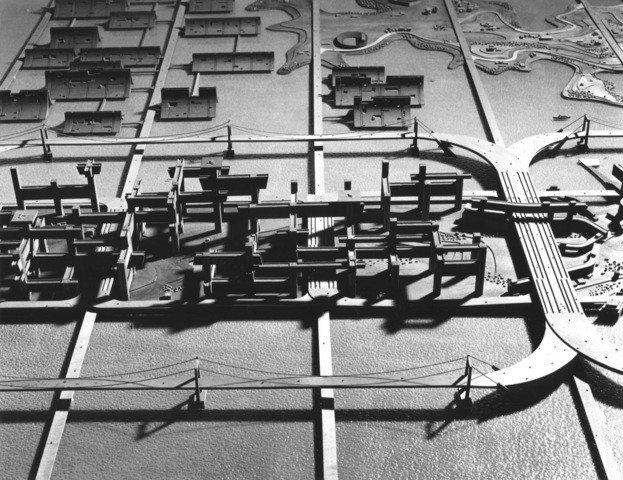
В японской архитектуре с тех пор бывало всякое. Собственный дом Кэндзо Тангэ, к сожалению уже разрушенный, во многом напоминал его железобетонный мемориал мира, но был гораздо меньше и выполнен из дерева. Но еще Кэндзо, например, известен как автор утопического плана развития столицы страны, в котором город перемещался на воды Токийского залива. С тех пор к переосмыслению модернизма японские архитекторы возвращаются каждое поколение, а благодаря возникшему на Западе интересу к японской и восточной философии жизни японские архитекторы очень быстро заняли лидирующие позиции на мировой сцене. Посмотрим на самую престижную архитектурную премию — Притцкеровскую, которую начали вручать в






Среди самых известных сегодня японских архитекторов — бюро SANAA Кадзуё Сэдзимы и Рюэ Нисидзавы. Они получили Притцкеровскую премию в 2010 году. В Нью-Йорке по их проекту построен Новый музей. Его можно было бы проще всего описать так: представьте себе несколько коробок из-под торта, идеально белых, разного размера, поставленных друг на друга. Коробки слегка сдвинуты относительно друг друга, а в целом получается башня высотой с 16-этажный дом. Интерьер музея, как водится, тоже идеально белый и чистый. Здесь к минимализму добавляется немного постмодернистской — или метамодернистской — иронии, ведь известно, как кураторы современного искусства полюбили так называемую белую коробку — простые чистые пространства, не мешающие восприятию искусства. Здесь SANAA составили целую башню из белых коробок, но в шутку или всерьез — непонятно.


Японская архитектура и представления о жизни, отчасти мифологизированные, оказались очень популярными в США в 1950-х годах. Тогда среди интеллектуалов распространилось увлечение философией дзен, основанной на том, что истинная природа вещей может быть постигнута не через рассуждение, а через созерцание. Интерес к дзену возник благодаря лекциям и книгам японского профессора Дайсэцу Судзуки, который переехал в США. Тогда с восточными идеями плотно познакомились музыкант Джон Кейдж, психоаналитик Карл Юнг, социолог Эрих Фромм, поэт Аллен Гинзберг, писатель Джек Керуак, художник Роберт Раушенберг. Это сделало японскую культуру важной в Америке — и заставило американских архитекторов обратить более пристальное внимание на то, что происходило у японских коллег.
Еще одним местом, в котором модернизм переосмыслили и добавили к нему новые идеи, создав свой вариант минимализма, стала Северная Европа. В начале XX века главными интересами местных архитекторов были неоклассика и модерн, национальный романтизм. Надо иметь в виду, что в течение продолжительного времени Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия не были в центре европейских культурных трансформаций: новые идеи достигали северных окраин Европы не сразу. А когда достигали, то получили сознательно упрощенную, скромную интерпретацию. С одной стороны, это было связано с доминирующей протестантской идеологией, в которой не приветствовались роскошь и богатство Италии, Франции и немецких княжеств, откуда приходили архитектурные идеи барокко и классицизма. Не только Церковь, но и королевская власть, аристократия вели себя совсем иначе. С другой стороны, можно сослаться и на многие факторы, так сказать, среды. Например, отсутствие яркого солнечного света делает довольно бессмысленной архитектуру со скульптурными формами, такими, которые далеко выдаются за плоскость фасада, — эффекты светотени, которыми так богато барокко, без солнца просто не работают.
В XIX веке скандинавские страны, как и многие другие, испытывают всплеск интереса к национальной культуре, языкам, мифам, легендам. Эклектика, историзм и ар-нуво прекрасно подходили для работы с этими сюжетами: возникали всевозможные вариации замковой архитектуры, поэмы в камне о красоте гор и лесов, прекрасные декорации для «Пера Гюнта» Эдварда Грига. Этот архитектурный стиль получил название национального романтизма. Альтернативой этим поэтическим, но в больших количествах утомительным изысканиям стала строгая неоклассическая архитектура, например, шведского архитектора Гуннара Асплунда. Это направление принято обозначать как нордический, или североевропейский, классицизм.






Когда же в 1930-х годах до Скандинавии дошли волны модернистского движения, то местные архитекторы очень обрадовались. Эта архитектура, построенная на простой геометрии, прекрасно сочеталась с протестантской идеологией, с природой, а еще давала возможность почувствовать себя частью общеевропейской сцены. Скандинавские архитекторы очень быстро стали не только заметными представителями модернистской архитектуры, но и добавили к ней кое-что новое.
До сих пор главной фигурой здесь считается финский модернист Алвар Аалто, автор многих построек в Финляндии, в Выборге, где сохранилась его замечательная библиотека, есть его архитектура и в Германии, и в США. Кроме того, Аалто был и замечательным дизайнером мебели и предметов. Но сейчас нас интересует его вилла Майреа в Финляндии.




Во многих отношениях это «обычная» модернистская вилла, хотя ничего обычного в ней нет, конечно, ведь речь идет о конце 1930-х годов, когда все это было в новинку. На лесной лужайке стоит двухэтажное здание и небольшой отдельный корпус библиотеки-студии. Между ними поместился двор с бассейном. Один из фасадов виллы — строгий, белый с прямоугольными окошками — контрастирует с лесным окружением. Особенное впечатление производит главное пространство виллы — это прихожая, которая перетекает в большую гостиную с окнами почти во всю высоту стен, которая, в свою очередь перетекает в столовую. Благодаря опорам-колоннам Аалто удается обойтись без стен. Это очень по-модернистски. Аалто хотя и не сразу увлекся модернизмом, но когда познакомился с его принципами, быстро их освоил.
Но к ним он добавляет кое-что еще. Другой фасад виллы — с большим количеством деревянных элементов и плавными закруглениями углов. Он как будто подстраивается под лес, маскируется под него. В интерьерах виллы тоже много дерева. В уже упомянутой гостиной — деревянный потолок, набранный из тонких дощечек. Черные металлические колонны, которые поддерживают перекрытия вместо стен, Аалто закрывает деревом — березовой фанерой или ротангом. Лестница на второй этаж поддерживается тонкими деревянными стержнями.
Дерево Аалто использует тоже как модернист — это гладкие поверхности, прямые линии, тонкая фанера и так далее. Иначе говоря, он не фетишизирует этот материал и не заигрывает с традициями, а использует его как современный архитектор. Но на фоне чистоты и аскетичности этой архитектуры в целом дерево начинает восприниматься чуть ли не как роскошь сродни золоту и бархату, как особая щедрость. Это и стало отличительной чертой скандинавского минимализма: функциональность, простота и одновременно — немного щедрости и роскоши в том, что вместо бетона и пластика используется дерево.





Со временем возможности использования дерева как современного строительного материала только росли. Благодаря компьютеру и станкам с лазерной резкой можно производить из дерева элементы разных форм и размеров. Норвежское бюро Snøhetta спроектировало в горах в Норвегии павильон для туристов. Это небольшой параллелепипед, пространство размером с гостиную комнату. В сторону гор эта коробочка открывается сплошным остеклением. А вдоль противоположной стены архитекторы установили рельефную деревянную композицию с плавными сложными формами как будто из пластика или бетона. Сами архитекторы говорят о ней как о скалах или льдинах, которые обточили ветер и вода. Но сделан этот элемент из крупных деревянных брусьев обычного квадратного сечения, которые были обточены на кораблестроительных станках так, чтобы сложиться в гладкую, почти бесшовную поверхность.
Разговор о японских и скандинавских архитекторах очень интересен еще и потому, что во второй половине XX века современная архитектура становится глобальным явлением. К дискуссиям о том, как устроена жизнь, предметный мир, как используются современные конструкции и материалы, какие эстетические требования к архитектуре мы предъявляем, подключаются архитекторы со всего света, даже советские архитекторы немного участвуют. При этом в Западной Европе и США этот поиск тоже продолжался, но шел немного сложнее, ведь уже




Одним из ответов на это стали поиски постмодернистов, но не все архитекторы были готовы оставить совсем еще недавно занятые позиции авангарда. Филип Джонсон, архитектор, который в 1932 году отчасти открыл современную архитектуру для США выставкой «Интернациональный стиль», а в 1949 году построил совершенно прозрачный Стеклянный дом, неожиданно в конце
Как раз вскоре после этой лекции, в 1977 году, он спроектировал одно из самых маленьких своих зданий: капеллу в парке Площадь Благодарения в Далласе, в штате Техас. Больше всего она похожа на белый лист бумаги, который хотели свернуть в кулек, но передумали. Белые стены поднимаются спиралью, составляя небольшую башню. В просветах между плоскостями спирали вставлены разноцветные витражи, как в готическом соборе. Интерьер капеллы тоже белее белого, и только цветные блики от витража его оживляют.



Если модернизм и постмодернизм переживали пики и падения популярности, то минимализм остается вполне модным до сих пор. Своего рода ретроспективный манифест минимализма составил британский архитектор Джон Поусон в альбоме «Минимум» в 1996 году. Ретроспективным я его называю потому, что он состоит не столько из идей, сколько из уже реализованных проектов, а также просто впечатлений, образов, не только архитектурных, но и природных. Начиная с белой обложки, на которой вдавлены белые буквы названия, читателя ждут монохромные страницы: черно-белое поле, интерьер в оттенках серого, белые амбары в тумане.



Поусон начал проектировать в 1981 году, когда Филип Джонсон уже стал постмодернистом, так что любовь Поусона к минимализму — не продолжение традиций модернизма, а скорее возвращение к ним, переосмысление в новых условиях. Как и многие другие, он начинал с квартир — например, в викторианском особняке в Лондоне он сделал чистые белые стены, постелил серый ковер и красным подчеркнул карниз, идущий под потолком. Сегодня это звучит довольно обыкновенно, но в начале 1980-х, когда вокруг вовсю отрывались постмодернисты, это было довольно смело.
В начале 90-х он делает уже свой собственный дом, тоже в старинном особняке, который он не меняет снаружи, но полностью преображает внутри. Опять-таки, белые стены, но деревянный пол, большой деревянный стол в гостиной, узкая деревянная лестница на верхний этаж, зажатая между белыми стенами, а рабочая поверхность на кухне сделана из цельной мраморной плиты. Думаю, по описанию понятно, что, несмотря на весь визуальный аскетизм, простым этот интерьер назвать нельзя — это роскошь, которую может позволить себе человек, который не нуждается в большом количестве вещей, но те вещи, которые есть, — очень дорогие и особенные.
Неслучайно Поусон занимается и дизайном. Например, он сделал коллекцию посуды из каррарского мрамора, в которой есть несколько сосудов — они представляют собой идеально ровные цилиндры разных пропорций — и несколько тарелок — это диски, в которых углубления едва намечены, так что в них прекрасно может лежать яблоко, но супа можно налить только ложку.





В смысле дизайна минимализм вообще никогда не был особенно удобным или богатым на функции, эргономичным стилем. Минималист уверен, что человек — существо очень неладное, все у него кривое и косое, а если подстраиваться под его тело, то ничего красивого не выйдет. Это не мешает минималистичному дизайну быть востребованным. Философские основы заложил немец Дитер Рамс, который был в
Из всего сказанного видно, что минимализм к нам ближе всего по времени и это вполне живой и востребованный взгляд на дизайн. Если в искусстве минимализм остался, наверное, далеко позади, то в мире вещей и зданий он прописался надежно. Из всех обсужденных стилей минимализм, наверное, чаще всего попадает на полки книжных магазинов в виде книг и альбомов. Объяснение этому простое: ведь это все тот же модернизм, эффективный, технологичный и масштабируемый, но укрощенный и смягченный. Теперь уже никто не борется за счастье всех людей. Красивые вещи красивы, потому что у них чистые цвета и линии, а не потому, что они должны изменить мир.
Наша последняя лекция посвящена неоклассической архитектуре. Но ведь та неоклассика, о которой сейчас пойдет речь, появилась в начале XX века — почему же мы обращаемся к ней в последнюю очередь? Дело в том, что, несмотря на все потрясения столетия, несмотря на общественные, технологические и эстетические изменения, любовь заказчиков и самих архитекторов к колоннам и портикам оказалась настолько сильной, что эта традиция не прервалась, а развивалась все последние 100 с лишним лет.
Неоклассика прошла через тяжелые испытания: ар-нуво и ар-деко ее соблазняли славой и коммерческим успехом, авторитарные правители пытались использовать эту архитектуру в своих целях, постмодернисты превращали элементы классического языка в каламбуры и шутки разной степени остроумия. Нельзя сказать, что эта архитектура устояла, скорее она оказалась гибкой и податливой, открытой к интерпретациям, но в любом случае очень живучей. Как это у нее получилось?
Прежде чем мы начнем с этим разбираться, нам придется навести некоторый порядок в терминах. Само слово «классика» в XVI веке начинает использоваться по отношению к архитектуре и искусству Древней Греции и Древнего Рима. Классицизмом, следовательно, стали называть такое искусство, в котором художники и архитекторы старались следовать античным образцам. В конце XVIII века, после периода увлечения барокко и рококо, во Франции произошел возврат к этим античным принципам, который стали называть неоклассицизмом. С тех пор неоклассикой называют и другие обращения к классическому наследию, чтобы не придумывать более сложные термины.
Однако в России все чуть запутаннее. Европейская архитектура пришла к нам с Петром I в начале XVIII века. Сперва это было барокко, потом начался период, который мы привыкли считать разными стадиями классицизма, — в Европе как раз развивался неоклассицизм. Соответственно, неоклассикой мы называем возврат к этой архитектуре, случившийся в начале XX века, а потом — в 1930-е годы. Если про неоклассику говорит европеец, то, скорее всего, он имеет в виду XVIII век. А в России мы имеем в виду начало XX века.
При этом если 400–300 лет назад слово «классицизм» означало буквально один или два варианта использования античного наследия, то сегодня, когда мы говорим «неоклассика» про современную архитектуру, мы можем иметь в виду обращение к Античности, к Ренессансу, к многочисленным региональным вариантам неоклассицизма, которые существовали в России, Великобритании, США и Франции и совсем не похожи друг на друга. А в России может иметься в виду обращение к неоклассике середины XX века — к архитектуре 1930–50-х годов, которую мы тоже называем неоклассикой.
Но все эти варианты неоклассики кое-что объединяет. В любом случае мы имеем в виду язык, на котором говорит здание. Этот язык был






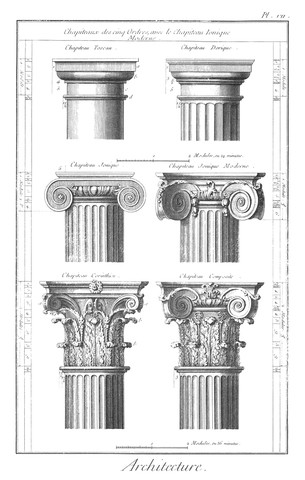
Как возник этот язык? В античной архитектуре важные сооружения — храмы, общественные здания — строились с использованием ордера, то есть колонн и других элементов, которые объединялись одной пропорциональной и декоративной логикой. В дорическом ордере колонны были крупнее и проще, такими же были и все детали. В самом роскошном, коринфском ордере колонны тоньше и все детали богаче и насыщеннее.
В Древней Греции эти колонны имеют конструктивное значение: они правда поддерживали этажи и крыши зданий. Правда, греки никогда не рассматривали ордер только как необходимость, он имел и сакральный смысл: каждый элемент был фрагментом системы мироздания, который должен занимать свое место, иногда оправданное конструктивно, а иногда — совсем нет.
В Древнем Риме строительная техника совершенно изменилась. Римляне умели делать очень крепкие стены и эффективно использовали арки, а со II века до н. э. стали активно строить из бетона. Они переняли у греков ордер, но переосмыслили его — теперь у него были почти исключительно декоративные задачи.
В эпоху Возрождения архитекторы в первую очередь ориентировались на римские памятники и на книгу римского архитектора Витрувия. Правда, опираться на эти источники было трудно: не все слова трактата, написанного на латыни, были понятны, а картинок не было. Многие памятники, которые описал Витрувий, отсутствовали, а многие из тех, что сохранились, были построены после того, как он написал свой трактат. К тому же секрет бетона был утрачен. Стал немного другим климат (даже в Италии, не говоря уже о прочих европейских странах) — древнеримская архитектура не вполне отвечала практическим задачам. Наконец, в Италии XV века просто не было многих типов зданий, о которых писал Витрувий, и наоборот: он не догадывался о зданиях, которые изобретут его коллеги-архитекторы полторы тысячи лет спустя. В результате, считая, что они возрождают классическую архитектуру, зодчие эпохи Возрождения были вынуждены изобрести кое-что совсем новое.
Чтобы понять, как работает система, которую они изобрели, предлагаю провести мысленный эксперимент. Представьте себе, что вы сфотографировали или аккуратно зарисовали греческий или римский памятник. Потом отсканировали это изображение и загрузили в компьютер. Потом поставили проектор напротив чистой белой стены вашего нового здания — и показываете эту картинку на стене, как на экране. Теперь вам нужно подвигать проектор и найти такое расстояние, на котором вся стена занята изображением, — ну и, конечно, до тех пор, пока вам не начнет нравиться то, что получается. После этого вы воспроизводите все это в архитектуре — отдельные элементы превращаются в объемные, другие остаются плоским рельефом или даже только рисунком на стене. Но вот что важно: глядя даже на плоские элементы, вы должны вспоминать тот храм, который вы зарисовали.









Но это был только первый шаг. На каждом этапе развития в этом языке менялся набор элементов и немного менялась логика их использования. Например, в XVIII веке европейцы познакомились с греческой архитектурой, которой они не видели до этого из-за трудных отношений с Османской империей. Тогда появилась возможность посетить Афины, и представление об этой архитектуре сильно изменилось. Именно это, а также открытие Помпей и Геркуланума, которое тоже состоялось в XVIII веке, вызвало к жизни неоклассицизм. Теперь можно было уже выбирать между разными версиями того самого изображения, которое создает наш мысленный проектор на стене: между римской или греческой версиями, между более точной археологической или более свободной, возникшей в Возрождении.
Постепенно этот язык начинал жить своей жизнью, а связь с Античностью переставала быть такой буквальной. Некоторым архитекторам, например Андреа Палладио в XVI веке, удалось создать свой диалект — в случае с Палладио это было палладианство, которым увлеклись очень многие. В барокко элементы этого языка используются совсем иначе, но эти эксперименты входят в общий словарь. То же самое случилось и с ар-нуво и ар-деко. До тех пор пока сохраняется набор базовых элементов, в основе которых лежит античная архитектура, их иерархия и правила соединения, архитекторы-классики друг друга понимают.







И еще два важных свойства. Во-первых, архитектура, которая использует этот язык, с самого начала настроена ретроспективно. Вариации и изобретения в ней допускаются, но делать это надо очень аккуратно, не теряя связи с прошлым. Повторять чужой опыт, напротив, совсем не зазорно, понятия плагиата или оригинальности здесь имеют совсем другой смысл. Иногда эту логику сравнивают с культурой исполнения классической музыки. Когда мы приходим на концерт, мы не ждем, что исполнитель
Во-вторых, универсальными ценностями этой архитектуры остаются гармония и красота, которые понимаются как конкретные качества архитектуры, представленные визуально и материально, конкретный набор элементов и цифры пропорций. Независимость авторского жеста, новые технологии, сложные функциональные программы, концепции и идеи — все это отступает перед задачами поиска правильного масштаба, сложности или простоты трактовки элементов ордера, соединения их всех в уместный и целостный ансамбль.
Причем достижение гармонии важно как в проекте одного здания, так и в облике целого города. Именно городской ансамбль и волновал петербургских архитекторов начала XX века. Заглянем в журнал «Зодчий», который издавался Императорским Санкт-Петербургским обществом архитекторов и поэтому уделял столице империи больше всего внимания.
«Стиль города определяется его характерной физиономией, его общей, гармоничной связностью. Цельная, ярко выраженная стильность города зависит не только от архитектуры самих его зданий, но и от сочетания, от тщательного подбора многих отдельных элементов — садов, памятников, фонтанов, вокзалов, мостов и даже от его мостовых и тротуаров. Не слитые с зодчеством города, эти элементы нарушают цельность впечатления, и тогда стиль города улавливается лишь с трудом, остается недоступным большой публике и понятным лишь немногим. К таким „трудным“ городам относятся, между прочим, Петербург и Берлин» Г. К. Лукомский. Мысли о художественности городов // Зодчий. № 3. 1910..
Так начинается статья Георгия Лукомского, художника и краеведа, в одном из январских номеров журнала за 1910 год.
«Когда Петербург выглядел наиболее цельно, связно, гармонично?» — спрашивает Лукомский. Сто лет назад, в годы царствования Александра I:
«Один общий архитектурный стиль вливался мощной струей во все воздвигавшиеся в эту эпоху сооружения — от самых державных и до самых маленьких особняков на окраинах тогдашнего города».
Лукомский имеет в виду то, что сегодня мы называем александровским классицизмом, или ампиром. Дворцовая площадь Карло Росси, Казанский собор Андрея Воронихина, Исаакиевский собор Огюста Монферрана, Биржа Тома де Томона, Адмиралтейство Андреяна Захарова — это здания-символы, которые мы сейчас не всегда четко отделяем от памятников более древних и более поздних. Но для Лукомского и многих его современников это были эталоны красоты.





Лукомский продолжает:
«С течением времени соотношение зданий по их архитектуре переместилось, и связь нарушилась. Стили: русский, Ренессанс — строгий, модернизованный и всякий другой, какой только заблагорассудится, — врезались между связными по стилю Александровскими постройками, вылезли из стройной линии улиц, и вот — нетъ стиля у величаваго, спокойного Александровскаго Петербурга».
Что же это за здания, которые могли так его расстраивать? Например, в 1906 году был построен особняк балерины Матильды Кшесинской, примы Мариинского театра. Архитектор Александр фон Гоген сделал его в стиле ар-нуво: это здание с асимметричной композицией, с башней на углу, узкими окнами и стенами из светлого кирпича с синими керамическими фризами. Фасад особняка получил серебряную медаль на конкурсе, который регулярно проводила городская управа. Другой пример: в 1907 году наконец был закончен и освящен храм Спаса на Крови по проекту архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия. Он напоминал храм Василия Блаженного в Москве. А сколько было в эти годы построено доходных домов в стиле северного модерна, со скульптурами в духе романтических средневековых легенд, имитациями грубой каменной кладки и изысканными металлическими решетками.






Лукомский был совсем не одинок в своей критике современной архитектуры
и в желании вернуть Петербургу стиль ушедшей эпохи. В эти же годы на Каменноостровском проспекте архитектор Владимир Щуко строит доходный дом по заказу инженера и девелопера Константина Маркова — это один из первых проектов Щуко, архитектора, который впоследствии станет ведущим в эпоху сталинской неоклассики, соавтором (вместе с Владимиром Гельфрейхом) здания Библиотеки имени Ленина и непостроенного Дворца Советов. В центре фасада — портик из четырех массивных коринфских колонн в высоту четырех этажей. Здание отсылает к итальянской архитектуре Возрождения больше, чем к александровскому классицизму, и напоминает Лоджию дель Капитанио в Виченце, построенную Палладио: там тоже были очень крупные колонны во всю высоту фасада, и этот мотив мы встретим еще не раз.
Итальянские мотивы повторяет в здании Русского торгово-промышленного банка Мариан Перетяткович, для которого это был один из последних проектов перед смертью. Перетяткович использует схему других палаццо Палладио: нижние этажи с имитацией грубой каменной кладки, а верхние — с колоннами. Лукомский очень хвалил этот проект и сокрушался, что стоит здание не на одной из набережных в самом видном месте города, а на узкой улице, где его трудно разглядеть.
Зато на самом видном месте, на Невском проспекте, был построен торговый дом Мертенса. Это было инновационное здание с железобетонным каркасом, который позволил сделать достаточно просторные торговые этажи и, главное, фасад с тремя гигантскими арками-витринами. Но, кроме арок, на фасаде есть и пилястры и колонны нарядного коринфского ордера. Два этажа над арками оформлены еще наряднее, и в целом композиция фасада напоминает уже не палаццо, а скорее триумфальную арку. Автором дома Мертенса был архитектор Мариан Лялевич.





Все больше примеров архитектуры в духе неоклассики заполняли страницы профессиональной прессы — например, «Ежегодника общества архитекторов-художников», который был аналогом современных блогов с новыми проектами: минимум текста, только картинки и подписи. В них интересно рассматривать не только фасады зданий, которые и сейчас еще стоят на улицах российских городов, но и интерьеры, многие из которых не сохранились. И наоборот: сделать современный интерьер даже в старом здании было иногда проще, чем перестроить все здание, поэтому в этой сфере мода часто менялась быстрее. Здесь нас ждет целая коллекция прекрасных неоклассических пространств, как будто скопированных из альбомов Джакомо Кваренги и Чарльза Камерона, архитекторов эпохи Екатерины II, Павла и Александра I. Кваренги построил Александровский дворец в Царском Селе, а Камерон — дворец в Павловске. Оба они были весьма последовательными палладианцами, знатоками древности, не только архитекторами, но и замечательными графиками — их рисунки интерьеров сами по себе вызывают восхищение тонкостью линий, пропорциями всех элементов и сдержанностью. Именно это и пытались повторить архитекторы-неоклассики начала XX века. Они предлагали пространства, в которых остается много воздуха и света, избегали нагромождений декоративных элементов и оставляли стены плоскими, используя для их членения не сильно выдающиеся рельефные элементы, иногда тонкие колонны, которые оформляли переход из одной залы в другую. Они отдавали предпочтение светлым обоям, белым архитектурным деталям из гипса или штукатурки. В таких комнатах — светлых, свободных от орнамента и символизма, который так любили в интерьерах ар-нуво — особенно заметными становились акценты из дорогих материалов: позолоченная рама для большого зеркала, цветной мрамор камина, — а также искусство: картины и скульптуры.
Однако следующий этап развития неоклассики совсем не был таким невинным упражнением в поиске законов вечной красоты. Он был связан с использованием языка классической архитектуры в политических целях. Пока Лукомский и архитекторы-палладианцы искали способ вернуть в Петербург дух ампира, в столице строилось еще одно здание, которое мы мельком уже упоминали, — германское посольство по проекту Петера Беренса. Это тоже неоклассика, и российские архитекторы должны были бы быть рады, что немецкий коллега поддерживает их устремления. Но им не очень понравился крупный масштаб и грубая трактовка, которую выбрал Беренс.
Прямо у Исаакиевского собора, к тому же на месте довольно скромного особняка, построенного в начале XIX века по проекту архитектора Василия Стасова, возникло здание высотой около 30 метров, облицованное темно-красным гранитом. Четырнадцать колонн составляли портик, монументальность их подчеркивалась тем, что они были упрощены до цилиндров, стоящих прямо на цоколе, с завершением в виде квадратных плит, как в дорическом ордере. Вход в посольство был отмечен тремя такими же геометрически упрощенными балконами, а на крыше возвышалась скульптура древнегреческих братьев Диоскуров — полуобнаженных юношей, ведущих коней под уздцы, которые были сделаны скульптором Эберхардом Энке. Скульптура была высотой почти с один этаж и заметно выделялась на фоне неба. Она оказалась неожиданным сюрпризом: городские власти ее не согласовали, архитекторы договорились только о флагштоке. Кони и юноши предстали перед горожанами, когда сняли леса, но тогда поделать уже ничего было нельзя: посольство все-таки.



Петербург вообще принял новое здание весьма критически, тем более что отношения между Россией и Германией уже были натянутыми; Первая мировая война началась через год. В «Сатириконе» опубликовали карикатуру, в которой колонны изображались как солдаты. Мнения более компетентных критиков разделились: Лукомскому здание казалось слишком грубым, он назвал его варварским. Критик в журнале «Московский архитектурный мир», напротив, считал, что «величаво-спокойный, хотя и монотонный фасад с его мощными колоннами и пилястрами из красного камня вполне гармонирует с гигантским Исаакиевским собором и подчеркивает идею иностранного посольства» Новое здание германского посольства в С.-Петербурге // Московский архитектурный мир. Вып. 2. 1913.. В 1914 году, после начала войны, толпа — видимо, специально подготовившись к этому и захватив инструменты — ворвалась в здание и разгромила его. В том числе с крыши сбросили скульптуры.
.09030059.ajb.jpg)
Беренс, работая над зданием, ориентировался на архитектуру немецкого классика первой половины XIX века Карла Фридриха Шинкеля. У него было несколько неоготических зданий, построенных под влиянием художников и поэтов национального романтизма, но самым известным его зданием, определившим развитие части немецкой, и не только немецкой, архитектуры на столетие, стал Старый музей на Музейном острове в Берлине. Его самый заметный элемент — 18-колонный портик, вставленный в открытую галерею, как в раму картины. Это здание повлияло и на посольство Беренса, и на здание Пушкинского музея, которое Роман Клейн закончил за год до того, как Беренс закончил посольство.






Но еще больше монументальная версия классицизма Шинкеля повлияла на архитекторов, которые работали с Гитлером: Пауля Трооста и Альберта Шпеера. Первый уже был состоявшимся архитектором, когда нацисты пришли к власти, а в 1934 году уже умер. Но последнее из его зданий, Дом немецкого искусства, стоит в центре Мюнхена и сейчас вызывает смешанные чувства у немцев. Его отличительная особенность — тоже колоннада, уже из 22 колонн упрощенных пропорций, как у Беренса: цилиндр и квадратное завершение. К концу строительства была приурочена выставка «Дегенеративного искусства» — на ней были собраны немецкие художники-модернисты, искусство, которое нацистская пропаганда объявляла симптомом вырождения национальной культуры (ссылаясь, кстати, на книгу Макса Нордау, о которой мы вспоминали в нашей первой лекции про ар-нуво).
Если Троосту почти не удалось поработать при нацистах, то Шпеер, напротив, не только построил несколько зданий, но и был министром вооружений и одним из любимых сподвижников Гитлера, который очень увлекался архитектурой. Титульное произведение Шпеера — новая рейхсканцелярия, главное правительственное здание Третьего рейха. Оно пострадало во время бомбежек Берлина и потом было разобрано. Но судя по фотографиям и чертежам, в нем было много общего с посольством Беренса, тем более что сам Шпеер отмечал в своих воспоминаниях, что Гитлеру нравилось это здание в Петербурге. Снаружи рейхсканцелярия была не такой впечатляющей, как можно было ожидать: только вход говорил о том, что это государственное учреждение — портик из четырех квадратных в сечении колонн и барельефа орла над ними. А в остальном фасады были достаточно простыми.
Но внутри, в помещениях и во внутреннем дворе, Шпеер использовал одну интересную особенность неоклассики. Будучи упрощенной до базовых геометрических форм и элементов, эта архитектура обладает способностью сохранять пропорциональную гармонию и одновременно сбивать с толку масштабом. По фотографиям или рисункам трудно определить, большое или маленькое это помещение. Колонна может быть и обычного размера, и в пять раз большего, отчего все помещение увеличится, но понять это можно только по мебели или по фигуркам часовых. Это не случайно: задача архитектора была в том, чтобы создать эффект монументальности, обратиться к традициям и XIX века, и Древнего Рима, и одновременно заставить человека чувствовать себя потерянным, лишенным ориентиров. Шпеер вспоминал в своих мемуарах, что именно так Гитлер и поставил ему задачу: «Мне нужны просторные помещения и залы, на фоне которых я бы производил должное впечатление, в особенности на мелких властителей» А. Шпеер. Воспоминания. М., Смоленск, 1997..
В процессе работы возникали абсурдные ситуации, пишет Шпеер: со строительством надо было очень торопиться, а для производства сложных интерьерных деталей требовалось много времени. Поэтому их пришлось заказывать до того, как были готовы проекты собственно архитектуры. В результате некоторые помещения ему пришлось проектировать под уже заказанные гигантские ковры, а не наоборот.
Тем временем в СССР неоклассика тоже стала основным языком власти в 1930–50-х годах. Но это была совсем другая версия неоклассики. Размах строительства был колоссальным: новые районы и даже целые города, комплексы типа ВДНХ и отдельные здания вроде московских высоток или так и не построенного Дворца Советов со статуей Ленина на высоте 300 метров. Для этого требовались сотни архитекторов, работающих с самыми разными версиями архитектурного языка.
Но его общее направление было задано сверху. В начале 1930-х годов архитекторам было указано оставить свои модернистские увлечения и переключиться на работу с традициями. В ходе конкурсов на Дворец Советов, которые проходили с 1931 по 1933 год, были даны жесткие комментарии по поводу проектов, которые все еще следовали в русле современной архитектуры. В прессе критиковали отечественных и зарубежных модернистов: «Главную опасность представляет в архитектуре, несомненно, конструктивизм. Представители и вдохновители этого течения последовательно выхолащивают классовую сущность пролетарской архитектуры…» Цит. по: Д. С. Хмельницкий. Архитектура Сталина. Психология и стиль. М., 2006. Алексей Николаевич Толстой, автор «Гиперболоида инженера Гарина», «Приключений Буратино» и эпопеи о Петре I, написал статью «Поиски монументальности», опубликованную в «Известиях». В ней он утверждал, что советские архитекторы решают задачу проектирования главного политического символа эпохи и всего мира, а не только СССР. Поэтому они должны задействовать «все культурное наследие прошлого», говорит он — и даже перечисляет, давая краткие характеристики: архитектура Древнего Египта, Греции и Рима, Средних веков, Возрождения, классицизма, современности. Что взять из истории? Толстой отвечает:
«Все замкнутое в себе, выражающее угнетение, социальную пирамиду, феодальную крепость — вся геометрия форм — это не наше. Не наши идеологически родственные этому формы: готика, американское небоскребство и корбюзионизм. Во всем этом — одна сущность: отгороженность, власть меча, золота или мистического обмана, — индивидуализм» А. Н. Толстой. Поиски монументальности // Известия. № 57. 1932..
Советские архитекторы должны пойти по пути переосмысления античного наследия: демократичной Эллады и Рима с его масштабом, рассчитанным на массы людей.
Спустя пять лет на Первом съезде Союза архитекторов его ответственный секретарь Каро Алабян выступил с докладом о задачах советской архитектуры. В нем он обрушился на коллег-конструктивистов:
«В течение долгого времени в нашей архитектуре сильно было влияние и западно-европейского конструктивизма. Несмотря на все внешнее различие формализма и конструктивизма, истоки у них общие — равнодушие к живой действительности. Наши конструктивисты — бр. Веснины, Гинзбург и др., следуя доктрине своих западно-европейских коллег — Корбюзье, Гропиуса и др., долгое время прикрывались левацкой фразеологией и громкими фразами о „революционности, социалистичности и принципиальности“ их искусства» К. С. Алабян. Задачи советской архитектуры // Первый Всесоюзный съезд советских архитекторов. М., 1937..
Что же должны делать советские архитекторы?
«Советский народ — самый счастливый народ во всем мире. Поэтому наша архитектура должна быть глубоко оптимистичной, радостной. Она должна вселять бодрость и уверенность в сердца миллионов, зажигать их большевистской страстью, увлекать, волновать, звать к новым победам. Таково одно из основных качеств подлинной архитектуры социалистического реализма».
А секрет такой архитектуры — в глубоком осмыслении Античности, а не в механическом копировании:
«Мы должны учиться у Брунеллеско, Палладио, Браманте и других великих зодчих эпохи Ренессанса тому, как нужно осваивать культурное наследие. Используя лучшие образцы архитектуры античной Греции и Рима, эти мастера создали свой особый стиль, отвечающий духу их времени».






Тут о своих неоклассических интересах вспомнили многие советские архитекторы. Еще в 1912 году Иван Жолтовский построил дом Тарасова на Спиридоновке в Москве — один из фасадов почти буквально повторяет фасад палаццо Тьене, которое построил Палладио в Виченце. В одном из выпусков журнала конструктивистов «Современная архитектура» в 1927 году авторы как следует прошлись по Жолтовскому, обвиняя его в том, что он «пытается навязать Советскому Союзу принципы эпохи итальянского Ренессанса» Как не надо строить // Современная архитектура. № 2. 1928.. Но в 1934 году Жолтовский строит на Моховой улице жилой дом, в котором использует крупные колонны высотой почти во весь фасад, как в Лоджии дель Капитанио того же Палладио, — и это здание получило прозвище «гвоздь в гроб конструктивизма».
А в это же время напротив строится гостиница «Москва» по проекту Алексея Щусева, Леонида Савельева, Освальда Стапрана; на Тверской один за другим возникают жилые дома — и в каждом дается своя интерпретация классики. Работу над ВДНХ начали в конце 1930-х, но самые известные сегодня павильоны возникли уже после войны — и тут задача совместить символизм советских республик и отраслей народного хозяйства со словарем классической архитектуры привела к взрыву архитектурной фантазии.
Впрочем, уже в 1955 году Никита Хрущев, выступая перед советскими строителями и архитекторами, обрушился на неоклассиков. «Ничем не оправданные башенные надстройки, многочисленные декоративные колоннады и портики и другие архитектурные излишества, заимствованные из прошлого, стали массовым явлением при строительстве жилых и общественных зданий, в результате чего за последние годы на жилищное строительство перерасходовано много государственных средств, на которые можно было бы построить не один миллион квадратных метров жилой площади для трудящихся» Об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Постановление № 1871 Совета министров СССР от 4 ноября 1955 года., — говорилось в постановлении, и приводились многочисленные примеры, назывались имена, лишние, по мнению партийных начальников, архитектурные детали и суммы неоправданных расходов.
Постановление заняло передовицу газеты «Правда». К счастью, в эти годы провинившиеся архитекторы рисковали уже только рабочими местами. Советские архитекторы, как и в 30-х годах, оперативно перестроились: теперь они сокрушались, что пропустили «такие нездоровые явления в теории и практике, как одностороннее, эстетское понимание задач архитектурного творчества, игнорирование насущных интересов массового строительства, стремление создавать помпезные, а по существу эклектичные, антихудожественные произведения» На пути решительной творческой перестройки // Архитектура СССР. № 5. 1955.. Начиналась эпоха хрущевского модернизма.
На Западе после Второй мировой войны для классики тоже настали не самые простые времена. Здания с колоннами теперь воспринимались как символ тоталитарного режима, который нуждается в архитектуре как инструменте пропаганды, чтобы подавлять своих граждан, заставлять их ходить строем и повиноваться любому приказу, даже самому страшному. Особенно ясно такое понимание было сформулировано архитекторами Западной Германии. В журнальных статьях и в книгах они прямо говорили, что после Третьего рейха аморальны любые намеки на традиционную архитектуру, будь то классицизм Шинкеля или даже средневековые образы, которые широко использовались в эпоху национального романтизма. Они настаивали на возвращении к архитектуре модернизма, представленной школой Баухаус, которая была закрыта в 1933 году, а многие ее преподаватели и студенты бежали из страны. Для важных проектов теперь действительно приглашались архитекторы из-за рубежа — как эмигранты, так и иностранцы.




Тем не менее внутри самой современной архитектуры
Ямасаки отмечал в эти годы, что хотя традиционная архитектура не подходит для решения современных задач с точки зрения конструкций и материалов, но в ней есть подсказки для решения «эмоциональных задач», как он выразился в одной статье, с которыми современная архитектура справляется пока с трудом. Можно понять это и так: современная архитектура недостаточно красива, не вызывает у человека приятных чувств, не создает ощущения гармонии. Проблемы пропорций вставали перед Минору Ямасаки и тогда, когда он проектировал башни-близнецы: на вопрос журналистов, почему он построил две башни по 110 этажей, а не одну в 220, архитектор ответил, что не хотел потерять человеческий масштаб.



Минору Ямасаки относят к направлению новых формалистов. К этому же направлению принадлежал и архитектор Эдвард Даррелл Стоун, построивший перед войной нью-йоркский Музей современного искусства — MoMA, а в конце 1950-х — посольство США в Нью-Дели. Посольство, как и конференц-центр Ямасаки, напоминает белый храм с колоннадой из широко расставленных опор медно-золотого цвета. Еще один пример — Линкольн-центр, комплекс театральных зданий и музыкальных залов, построенный в Нью-Йорке в 1960-е годы разными архитекторами. Это современные здания с отдельными неоклассическими элементами, которые сближают их с театральными зданиями прошлого.
Но чуть позже обращение к классическим формам в прямом смысле состоялось снова. Конечно, заказчики и архитекторы, которые предпочитали дома с колоннами, находились всегда. Но новый виток профессиональной дискуссии о классике в современности случился благодаря архитектору Леону Крие. Первые десятилетия своей архитектурной карьеры он провел как преподаватель в лондонских Школе Архитектурной ассоциации и Королевском колледже искусств. Крие относился к современной архитектуре очень критически и стал известен фразой «Я архитектор, потому что ничего не строю». Модернистская архитектура негативно влияет на исторические города Европы. Крие последовательно критиковал не только эстетику модернизма, но и положение архитектора в современной культуре в целом (под современностью он имел в виду большой промежуток времени с XIX века). Он писал, что в индустриальной цивилизации нет места для архитектуры, нет места для красоты и достоинства: все подчинено задачам производства и машине капитализма. Традиционная архитектура для Крие не только вопрос вкуса, но скорее перчатка, которую он бросает в лицо всему архитектурному сообществу.
После того как он заявил, что немцы слишком фрустрированы темой вины и это мешает им увидеть ценности традиционной архитектуры, а потом издал книгу о Шпеере, написанную с симпатией к немецкому архитектору, его отношения со многими коллегами испортились еще сильнее.
Тем не менее Крие получил интересный заказ: построить небольшой городок Паундбери, рассчитанный на 6000 жителей. Работа над проектом ведется с 1990-х годов и должна быть завершена к 2026 году — такой долгий срок связан не с медлительностью, а с тем, что город строится по мере того как заселяется, чтобы дома не стояли пустыми. Сейчас в нем около 4000 жителей.




Общий план Паундбери и вся архитектура — вариации на темы старой доброй Англии и старой доброй Франции,
Фанатов классической архитектуры много и по другую сторону Атлантики — в США, где их часто приглашают проектировать крупные общественные здания, когда хотят установить связь между историей места и современностью. Например, архитекторы Аллан Гринберг и Роберт Стерн спроектировали очень похожие корпуса для университетов, один в Делавэре, другой — в Вирджинии: оба краснокирпичные, с белыми портиками и деталями. Новые корпуса почти не выделяются на фоне других зданий этих кампусов, построенных в XVIII–XIX веках. В США есть и с десяток архитектурных школ, в которых классической архитектуре уделяется особое внимание.









Современные российские архитекторы тоже интересуются неоклассикой.
Работа с классикой — дело трудное со всех точек зрения: политической, технологической и эстетической. Но это до тех пор, пока она видна внешнему наблюдателю. В интерьере все становится проще. С одной стороны, древнегреческие или древнеримские интерьеры не сохранились, а чтобы переносить в жилое пространство логику храма или Колизея, всегда требовалась некоторая гибкость. Открытие памятников Помпей и росписей в помпейских домах слегка помогло навести порядок в этом вопросе — и одновременно повлияло на психологию частного интерьера: начиная с XVIII века в домах перестали создавать исключительно роскошные дворцовые пространства. То, что многие заказчики и дизайнеры до сих пор пытаются в типовой квартире или особняке воспроизвести в уменьшенной версии Эрмитаж или Версаль, — это интереснейший культурный феномен, причем совсем не только отечественный. Но, очевидно, в его основе лежит эта путаница: многие считают единственным вариантом стиля его самые парадные и сложные версии, которые именно потому и лучше всего известны, что они являются самыми сложными и парадными.
Но, конечно, нельзя обмануть того, кто хотя бы отчасти не хочет быть обманутым. И во всех шести историях, которым был посвящен наш курс лекций, скрывается множество развилок и возможностей, отвечающих амбициям, бюджетам и знаниям каждого из нас. Впрочем, один из самых сложных выборов — не между стилями или бюджетами. Он между стремлением быть и желанием казаться. Мы можем искать в этих библиотеках эстетических и исторических прецедентов то, что нам близко по духу, по настроению, по образу жизни. А можем — то, что может произвести впечатление на окружающих или превратить нас в





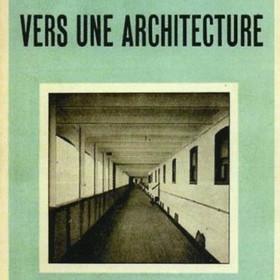

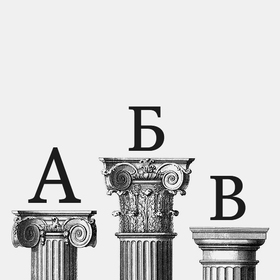


Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости