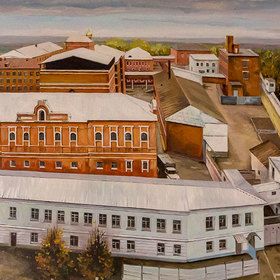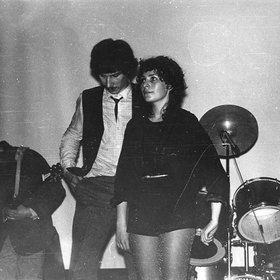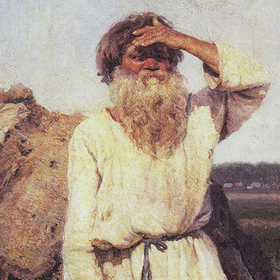Курс
Народные песни русского города
- 5 лекций
- 4 материала
Лекции Михаила Лурье о том, как в городской среде ХХ века создавался новый песенный фольклор, а также история «Владимирского централа», тест про популярные русские песни, тематические плейлисты и музыкальный видеорассказ о семиструнной гитаре
Курс был опубликован 28 мая 2020 года

Этот курс доступен по подпискеПодписка — это доступ ко всем нашим курсам, подкастам и множеству других аудио об истории и культуре. Она стоит 399 ₽ в месяц или 2999 ₽ в год
Если у вас уже есть подписка, нажмите