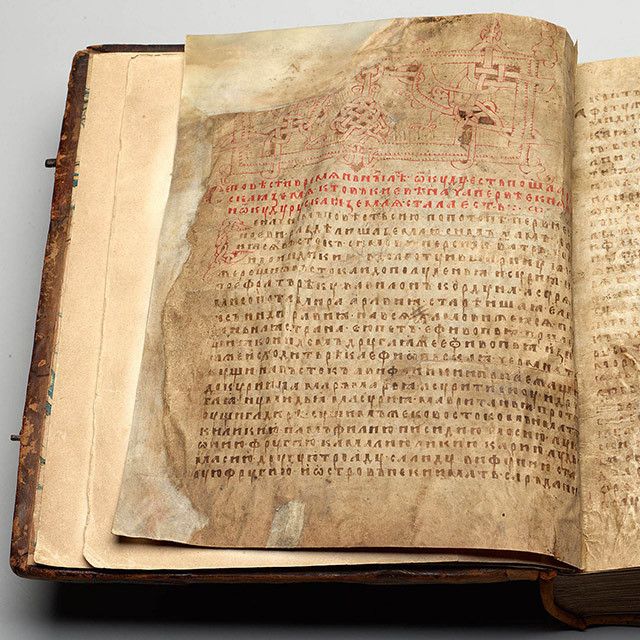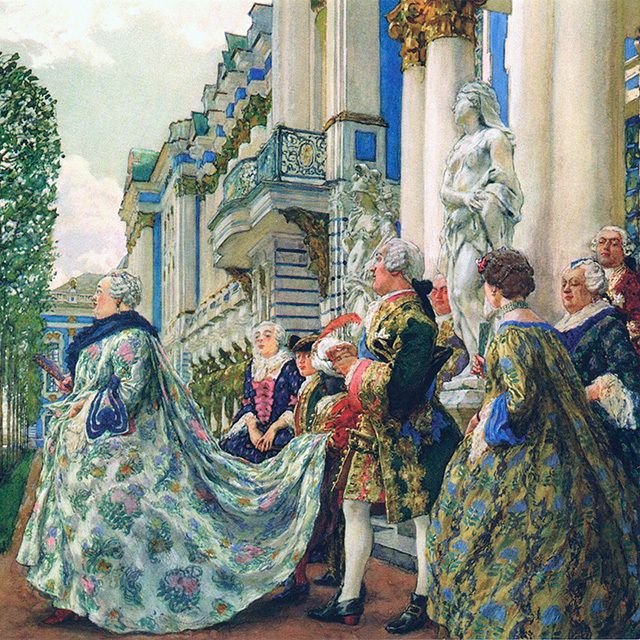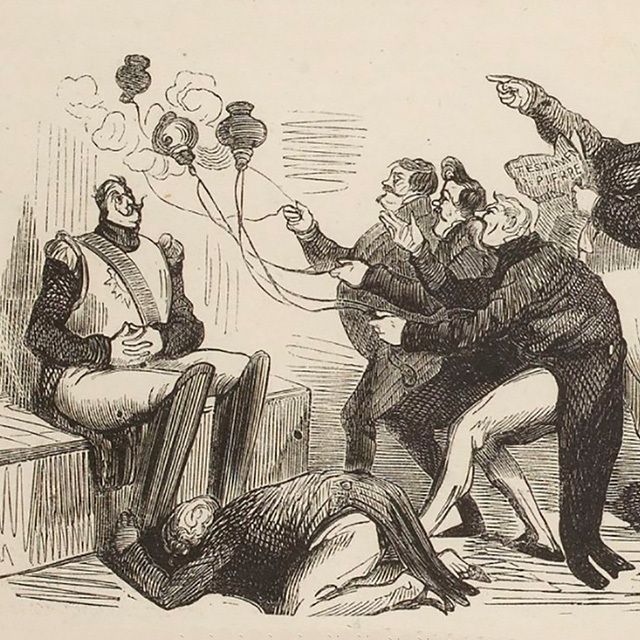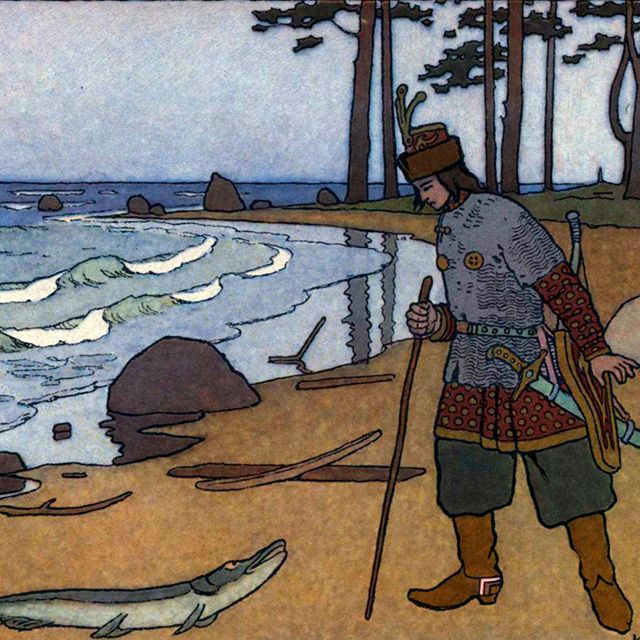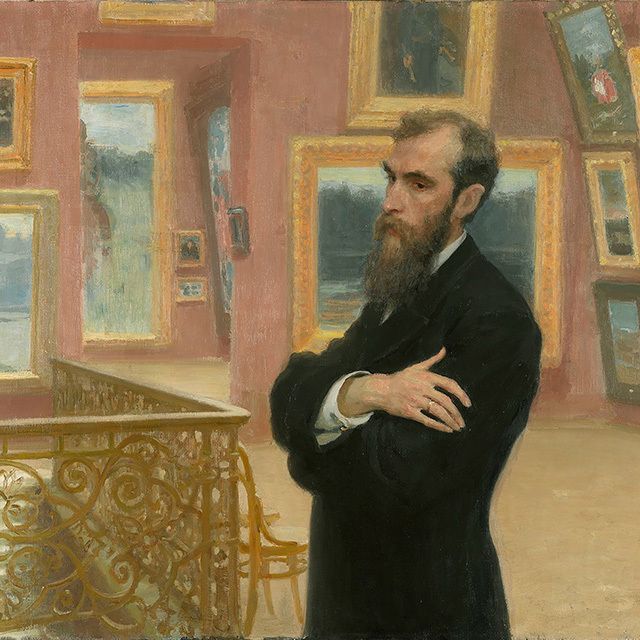Соцреализм как художественный стиль и как инструмент власти
Я начну с одной любопытной записи в дневнике Сергея Прокофьева, которую он сделал 23 апреля 1933 года:
«Сегодня день моего рождения (42) и годовщина падения РПМ [Российской ассоциации пролетарских музыкантов]. Сначала по последнему случаю предполагал больше праздничности, но все свелось к симфоническому концерту».
Прокофьев имеет в виду постановление Политбюро ВКП(б) от 23 апреля 1932 года, ровно за год до этого, которое называлось «О перестройке литературно-художественных организаций». Важнейшими пунктами этого постановления были следующие:
«1) ликвидировать Ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП);
2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Cоветской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый Союз советских писателей…
3) провести аналогичные изменения по линии других видов искусства [создать Союзы художников, композиторов и так далее]».
Вот что празднует Прокофьев в день своего рождения через год после этого постановления. Нам это может показаться удивительным, но нужно вспомнить о том, в какой обстановке, в каких обстоятельствах Прокофьев приветствовал это постановление. Мы смотрим на 1920-е годы как на время свободы и поиска, борьбы разных художественных школ и направлений. Выглядит это очень привлекательно, в особенности на фоне командной эстетики и центрального управления искусством, которое воцарилось уже в 1930-е годы и инструментом которого как раз и явились эти Союзы писателей, композиторов и так далее, где творческие люди и превращались в служащих этого Союза, целиком зависящих от него в смысле издания и в финансовом отношении. Мы смотрим на это в такой перспективе, уже зная, чем это закончилось. Но если мы посмотрим с точки зрения человека на рубеже 1930-х годов, то картина получается несколько иная.
В 1920-е годы действительно была борьба разных школ и направлений, но борьба эта носила свирепый характер. Разные группы обвиняли друг друга во всевозможных извращениях — пользуясь языком той эпохи, — во всяких идеологических грехах. Ресурсы были ограниченные, дрались за эти ресурсы (бумага, издательства) свирепо. Самым опасным было то, что дело выглядело так, будто побеждает в этой борьбе группа пролетарских писателей, объединенная в Союз пролетарских писателей (РАПП) и Союз пролетарских музыкантов (соответственно, РАПМ). А их победа значила бы, что всем так называемым попутчикам, то есть людям интеллигентного — «буржуазного» на языке того времени — происхождения, просто не будет места в новом социалистическом искусстве под эгидой этого самого РАППа. Возникала ситуация почти на грани уничтожения и вытеснения из творческой деятельности большинства творческих людей этого времени.
Поэтому отмена этой организации постановлением ЦК ВКП(б) — то, что популярная острота того времени окрестила «концом РАППства», — многими приветствовалась. А организуемая вместо этого централизованная институция — Союз советских писателей или композиторов — не представлялась столь страшной, потому что это был союз всех, это была как бы сертификация на художественное гражданство.
Поначалу это выглядело гораздо более благоприятной перспективой. Позади оставались годы борьбы за существование. Писатель, показавший лояльность идеологии и политике государства, мог рассчитывать на его поддержку. Вот
Словосочетание «социалистический реализм» было впервые употреблено в «Литературной газете» в мае 1932 года в статье официального критика Гронского, который впоследствии в мемуарах уверял, что это слово он впервые произнес в личной беседе со Сталиным, на основании которой и появилось это постановление. Но официальный статус термин «социалистический реализм» получил два года спустя на первом учредительном съезде Союза советских писателей в августе 1934 года. Был принят устав этого Союза, в котором говорилось, что «социалистический реализм является основным методом советской художественной литературы и литературной критики». Определялся этот основной метод как «правдивое, исторически конкретное изображение действительности в ее революционном развитии».
Понятие это признавалось универсальным для всех видов искусств (от архитектуры до балета, музыки, живописи и литературы) вне зависимости от того, насколько понятие «исторически конкретного изображения действительности» было приложимо к предмету каждого из этих искусств. Cама туманность этого понятия, его почти бюрократическая пустота внушала надежду, что под эгидой этого определения возникает большая степень свободы для художника, если он не нарушает
Впоследствии оказалось, что именно эта пустота и полная бессодержательность определения соцреализма дают возможность полной произвольности суждения критиков, уполномоченных властью критиковать и высказывать свое одобрение или неодобрение, осуждение того или иного произведения творческого человека. Притом что сами эти критики, в свою очередь, в любой момент могут быть подвергнуты критике со стороны других критиков, которых выберет власть как новое поколение этих ценителей.
Вот такая полная произвольность и подобие рулетки в отношении художественной судьбы произведений советского искусства работали как инструмент командной эстетики гораздо более эффективно, чем если бы с самого начала было дано детальное определение, что писатели должны были писать, и централизованно, согласно этому определению, организовалась бы их деятельность. Этого не происходило: пишите что хотите, но потом гадайте, как результаты вашего труда будут оценены, будут они признаны соответствующими этой мало что значащей формуле или не будут.
Однако из этого не следует заключать, что соцреализм был просто инструментом произвольного вмешательства власти в художественные дела и не имел никакого положительного содержания. Его содержание проистекало не из этого определения, а из тех произведений, которые были признаны произведениями соцреалистического канона.
Если говорить о литературе, основополагающим произведением соцреализма был роман Горького «Мать», написанный еще в 1906 году. В 1920-е годы этот канон пополнился такими именами (которые задним числом были вкооперированы в канон соцреализма), как Гладков («Цемент»), Фурманов, Фадеев. И в 1930-е годы он активно пополнялся такими авторами, как Шолохов, Николай Островский, Мариэтта Шагинян и другие. Вот этот канон и создал собирательный образ соцреалистического образца, с которым можно было сверять то или иное вновь создаваемое произведение. Таким образом, это не было чисто произвольной командой: вот ввели формулу, и теперь извольте ей следовать. Это был некоторого рода процесс.
Хочется лучше разобраться, в чем состояла сущность этого процесса и почему такие творческие личности, как Прокофьев, Шостакович, Пастернак, находили возможным если не отождествляться с этим процессом, то, по крайней мере, с ним сотрудничать. Для того чтобы в этом разобраться, я продолжу цитату из дневника Прокофьева о том, как он решил отпраздновать эту знаменательную дату, годовщину постановления. Он пошел на концерт. На концерте, однако, он был огорчен исполнением сюиты из балета Шостаковича «Болт». Вот как он охарактеризовал это произведение:
«Блестяще поднесенная пошлятина! Будто карикатура на пошлятину. Словом, то, что меня уже 10 лет возмущает в Париже. Передовой советский композитор пишет типичную упадническую музыку „гнилого Запада“».
«Гнилой Запад» Прокофьев ставит в кавычки, но тем не менее он вполне серьезно, без всякой иронии выражает свое раздражение по поводу эстетических мод XX века, от которых он буквально бежал из Парижа, и испытывает человеческое и творческое притяжение к той атмосфере, которую он нашел в Советском Союзе на рубеже 1930-х годов.
В чем же состояли эти моды, которыми возмущается Прокофьев? Это было господство авангардной эстетики. Очень кратко сущность этой эстетики можно определить в следующих немногих категориях: во-первых, почти обязательная фрагментарность художественной формы, при которой, например, литературное повествование дробится на мелкие фрагменты, которые склеиваются путем нередко парадоксального монтажа, — так что временное течение повествования обязательно прерывается. Художник-авангардист почти не может себе позволить рассказать историю от начала и до конца.
Второе — это, опять-таки, императив инноваций, новаторства в постоянном обновлении художественного языка. То, что было последним словом, скажем, в середине 1910-х годов, к 1920 году становится уже вчерашним днем, и требуется все время все новое, и новое, и новое вносить в литературный язык и в художественное средство. Ну и еще то, что художник-авангардист поглощен внешним построением своего произведения, приемами. Эти приемы выступают на передний план, оттесняя на задний план простое человеческое содержание психологических взаимоотношений между героями, ситуаций, в которых они встречаются и так далее Все это выступает в монтажной раздробленности на заднем плане; главное — как это построено. Вот от этих императивов начинают уставать не только зрители, слушатели, читатели, но и сами художники. И к концу 1920-х годов возникает новая потребность в продолженной повествовательной форме, которая поднимала бы коренные социальные, психологические, идеологические вопросы современной жизни, в которой читатели могли бы найти ответы на интересующие их вопросы.
Просто новое увеличение формы, ее продолженность — то, чего не хватало художнику в авангарде. Такой композитор эпического склада, как Прокофьев, особенно остро ощущал эту недостаточность авангардного фрагмента. Возникает читательский и художественный спрос на создание больших романов, которые по внешней форме вполне напоминают романы XIX века. Пастернак с конца 1920-х годов задумывает эпопею, которую в конце концов реализует как «Доктор Живаго». Но мы можем видеть, как, например, и в Америке, где никаких команд и никаких соцреализмов не наблюдается, спонтанно возникают такие писатели, как Стейнбек, Теодор Драйзер. В Германии — Томас Манн, Дёблин, которые именно выстраивают такую форму большого стиля. В музыке это соответствует возвращению к большой симфонии в традициях Чайковского, Малера, Брамса. Это очень видно по симфониям Шостаковича, начиная с четвертой, и к музыкальной драме в стиле Мусоргского или Вагнера. Усталость от авангарда является очень важным фоном, который нам объясняет появление и относительный успех среди читателей этого феномена — соцреалистического романа.
Таким образом, возникновение соцреализма не было явлением по
Если мы посмотрим на то, как события развивались в течение 1920-х годов, мы увидим, что действительно возникает усталость. Поэтому для художников типа Прокофьева, Андрея Платонова, Пастернака, Мандельштама эти новые голоса, которые призывали художника трудиться, поднимать большие темы, выстраивать произведения большого стиля, находили глубокий внутренний отклик.
Это, конечно, не означает, что произведения соцреализма являются просто рядовым явлением спонтанного развития искусства, это только одна сторона соцреализма. Другая его сторона состоит в том, что в нем эти зовы времени, эти эстетические, философские, психологические тенденции, которые мы наблюдаем у наиболее ищущих, наиболее творческих художников во всем мире, выступают в довольно причудливом преломлении. И вот чтобы понять соцреализм, мы должны оценить и его спонтанную природу, и, с другой стороны, то преломление, ту аберрацию, то отклонение, которое эти спонтанные тенденции времени приобретают в произведениях писателей и других художников, представлявших канон соцреалистического искусства, — в отличие от таких писателей, как Платонов или Пастернак, которые на эти зовы откликнулись, но, конечно, канонических произведений соцреализма не создавали.
Чтобы объяснить эту разницу, или эту двойственность, между спонтанностью и специфичностью соцреализма, я остановлюсь более подробно на одном из центральных произведений раннего соцреализма, романе Валентина Катаева «Время, вперед!», опубликованном в 1932 году. Это один из главных образцов так называемого индустриального романа, одного из жанров соцреалистического романа.
В центре романа — одно из центральных событий первой пятилетки, строительство Магнитогорского комбината, так называемой Магнитки. Роман Катаева, надо сказать, с большой живостью описывает 24 часа из жизни молодого инженера Давида Маргулиеса и его друзей из бригады, с которой он работает. Эти 24 часа посвящены одной задаче, которая поглощает все их мысли и все их усилия. Накануне был установлен рекорд в производстве бетона на Харьковском тракторном заводе, и рекорд равнялся 306 замесам, которые были произведены за восьмичасовую смену. Что такое замес бетона, сколько это реально, нам не объясняется — мы принимаем это как данность. Вот 306 замесов. И вот Маргулиес с утра напряженно думает, пытается оптимально организовать работу, а вечером его смена, напрягая все силы, трудится в течение восьми часов, чтобы произвести больше этих самых замесов. Им удается произвести 429 этих таинственных единиц производства бетона.
Подвиг этот не без цены, которую за него приходится заплатить: они полностью доходят до изнеможения, руки у них в крови, изранены, одежда в клочья разорвана, там были всякие аварии и так далее. У одного рабочего руку оторвало, то есть не оторвало, но серьезно повредило, и, возможно, он ее потеряет. И еще остаток ночи после этого подвига им надо провести, туша пожар, который разжег некий вредитель. Под утро, когда возвращаться в их жилище уже не имеет смысла, Маргулиес и его подруга Шура сидят на скамейке в сквере в ожидании нового рабочего дня, и тут им приносят новость: только что сообщили, что в Челябинске установлен новый рекорд — 504 замеса за смену. Таким образом, лихорадочная погоня за временем оказывается бегом по кругу. Очевидно, что на следующий день они должны начать все сначала, чтобы теперь побить уже этот рекорд.
В чисто ремесленном литературном отношении роман написан хорошо: он легко читается, в нем много остроумных и легких приятных деталей, рисующих симпатичные черты характеров героев, рисующих разные смешные и серьезные ситуации, которые там возникают. Тем более странной оказывается эта совершенно абстрактная сверхцель, которая стоит над всеми этими ситуациями и командует всем поведением и всеми мыслями этих героев, — а именно: произвести этих самых замесов больше сегодня, чем вчера, а завтра больше, чем сегодня. Почему? Для чего? Какой ценой? Куда эти замесы пойдут? Эти вопросы не задаются. Это абсолютный постулат, который не обсуждаются. Таким образом, возникает парадокс между жизнеподобием конкретных микроситуаций, в которых действуют наши герои, и полной абстрактностью и даже нелепостью общей картины, в рамках которой мы наблюдаем их поведение в конкретных случаях.
Для литературы это само по себе не является новостью. Если мы читаем или слушаем в опере о похождениях Дон Жуана, то Дон Жуан тоже поглощен установлением своих рекордов с такой же целеустремленностью, с какой Маргулиес и его рабочие поглощены производством замесов. Или мы читаем роман «Первые люди на Луне», где герои встречают селенитов, обитателей Луны, и спасаются от них в расщелинах лунного пейзажа и так далее. Мы не спрашиваем: почему это так? Ну, этого же не может быть? Это условность жанра.
Но парадокс соцреализма состоит в том, что он эту условность, скажем, романа времени барокко (или оперы, или фольклора, мифологического произведения) сочетает с полным жизнеподобием и подробностью реальности, которая в романе описывается. Вот этот парадокс и является ключом к пониманию этого психологически интересного явления. Каким образом герои, которые в микроситуациях ведут себя как нормальные и даже симпатичные молодые люди, умудряются вписывать свою жизнь в такой фантастический мир совершенно абстрактных и нежизненных целей?
Если посмотреть на этот роман и вообще на практически все романы канонического соцреализма, то в них обязательно есть фигура отрицательного героя. Отрицательный герой — это не злодей-вредитель (он тоже присутствует, но это другое амплуа). Отрицательный герой — это человек, который видит нелепость цели, видит несоразмерность этой цели тем усилиям, которые нужно затратить на ее достижение, и протестует, говорит, что так делать нельзя, что это приведет только к дальнейшим потерям. В романе «Время, вперед!» в роли такого отрицательного героя выступает начальник Маргулиеса. Его фамилия Налбандов, он занимает высокую должность на строительстве и имеет полномочия распоряжаться тем, что делает Маргулиес. Налбандов — человек большого опыта, обучался в Англии, знает английский язык, инженер с международным образованием и к тому же старый коммунист. Он говорит этому молодому человеку, что, во-первых, куда девать этот лишний бетон, который вы произведете? Стройке требуется то, что ей требуется. Во-вторых, машины куплены в Германии, это дорогостоящие машины по производству бетона. Если вы используете их выше их технических норм, то они очень скоро выйдут из строя и, таким образом, будет только потеря, а не выгода.
Что ему отвечает Маргулиес? Маргулиес отвечает, что, во-первых, их рекорд, поставленный на производстве бетона, вызовет к жизни соревнование на всех участках строительства, а в конечном счете на всех строительствах страны, которое приведет к соразмерному увеличению показателей абсолютно на всех участках. И таким образом этот лишний бетон, оказывается, будет востребован строителями, которые тоже будут бить свои рекорды укладки, возведения зданий и так далее. Во-вторых, машины действительно выйдут из строя раньше, но это тотальное соревнование и побитие рекордов приведет к тому, что ресурсы страны и ее богатство возрастет так стремительно, что им уже не нужны будут никакие немецкие машины, они произведут свои, лучше импортных.
Налбандов говорит с Маргулиесом с точки зрения действительности, какой он ее видит, какая она существует: вы и машины испортите, и бетон этот просто пропадет, потому что никому он не нужен. А Маргулиес скорее говорит о
Налбандов видит мир таким, какой он есть. Маргулиес видит некое идеальное будущее, и он относится к сегодняшнему дню, к сегодняшней реальности как к макету или эскизу этого будущего. Он как бы прозревает сущность: вот такой жизнь будет, потому что она такой должна быть. А это значит, что мы сейчас, сегодня, на этом конкретном месте будем действовать так, как если бы эта абстрактная действительность уже пришла. И именно из этих наших действий эта сущность придет. Таким образом, у Маргулиеса и Налбандова разное зрение: у Налбандова зрение эмпирическое, зрение человека, который видит то, что он видит, и оценивает будущее как цепочку причин и следствий: вот вы сделаете
В этом состоит конфликт положительного и отрицательного героев соцреалистического романа. И в этом и заключается та пружина, которая позволяет его положительным героям действовать, с одной стороны, вполне практически, но, с другой стороны, в мире этого сущностного скрытого нематериального видения действительности. И совершать действия с точки зрения практического ума совершенно бессмысленные и даже прямо вредные.
Что же позволяет нашему положительному герою обрести это сущностное зрение, которое недоступно человеку типа Налбандова, каким бы он ни был квалифицированным, образованным инженером и, несомненно, преданным делу строительства, делу социализма человеком (он старый коммунист)? Роман дает на это ответ: это сверхзрение приходит к человеку тогда, когда он полностью растворяет себя в процессе деятельности. Когда он совершенно забывает свою личность, теряет позицию размышляющего и принимающего решения субъекта, а полностью погружается в этот мир непрерывных действий — нерассуждающих. В которых
Очень хорошо процесс возникновения такого сверхзрения показан на фигуре другого героя романа — писателя Георгия Васильевича. Он приехал из Москвы, знаменитый литератор, чтобы писать очерк о стройке. Георгий Васильевич добросовестно записывает вначале в свою записную книжку разные конкретные эпизоды, которые он наблюдает на стройке. То есть он смотрит, наблюдает и записывает. И результат, по его собственной оценке, совершенно бессмысленный. Он никак не может связать эти эпизоды между собой, не видит в них связи и смысла. «Ползучий эмпиризм», — говорит он о собственных записях с отвращением. На площадку, где будут пытаться ставить новый рекорд, он приходит, как Пьер Безухов на Бородинское поле, занимает место на возвышении в некотором отдалении, чтобы видеть все, что будет происходить, и все это как можно подробнее записать. Он даже берет бинокль, чтобы все хорошенько увидеть.
Но во время установления рекорда без конца
«— Нет, каков стиль! — восклицает Георгий Васильевич… — „Бригада бетонщиков поставила мировой рекорд, побив Харьков, Кузнецк, сделав в смену четыреста двадцать девять замесов, бригадир Ищенко, десятник Вайнштейн“! Гомер-с! Илиада-с!»
Если мы оценим этот текст с точки зрения красоты стиля, мы
Вот эта внутренняя позиция, которая достигается путем нерассуждающей вовлеченности в эту лихорадочную деятельность, это и есть та позиция, в которой приобретается новое зрение.
Теперь обратимся к нашей роли читателей этого романа. Вот мы читаем роман соцреализма и задаем те же вопросы, которые задает Налбандов Маргулиесу. Почему такая нелепость? Для чего этот бетон? И если люди поставили этот рекорд, допустим, ценой неимоверных усилий, растраты всех физических сил, они изранены, измучены, все их машины изломаны, одежда изорвана в клочья, то что они будут делать завтра? Завтра они не произведут даже минимум того, что требуется, не правда ли? Мы задаем эти вопросы. Если мы задаем эти вопросы и начинаем удивляться нелепости соцреалистического повествования, то мы ставим себя в позицию, которую я определяю как позицию отрицательного читателя. Отрицательный читатель — это человек, находящийся на той же мысленной волне, что и отрицательный герой соцреализма.
Мы хотим отнестись к описываемой действительности как к эмпирической действительности. Мы понимаем, что если это происходит в жизни, то это полная нелепость. А нам, если мы хотим быть адекватными читателями соцреализма, надо почувствовать свою внутреннюю принадлежность к тому миру, который изображается. Нерассуждающе. Мы должны просто вместе с нашими героями переходить от одного лихорадочного действия к другому, от одного усилия к следующему — не рассуждая, для чего эти усилия, какая между ними причинно-следственная связь, какой конечный результат и так далее. Тогда мы оказываемся адекватными читателями, для которых это повествование выглядит как грандиозная прекрасная героическая эпопея.
Таким образом, чтение романа соцреализма оборачивается как бы эстетическим, но и одновременно и моральным испытанием для читателя. Читатель может спросить себя: если я задаю такие вопросы, если это кажется мне нелепым, может,
То же самое относится, конечно, и к автору, потому что автор, создавая такое произведение, должен как бы постоянно поверять себя своей внутренней вовлеченностью. В начале лекции я говорил о том, что сама пустота формального определения соцреализма открывала дорогу к совершенно произвольным суждениям: что подходит, а что не подходит. Надо сказать, что, следя за динамикой одобрений и осуждений произведений литературы и других искусств (в сталинскую эпоху в особенности), можно видеть, что формальное соблюдение идеологической лояльности, даже преувеличенные
Вот такой мир, который создается произведением соцреализма. И я должен сказать в заключение, что мы читали, конечно, всякие антитоталитарны утопии, классический роман Оруэлла «1984», «Мы» Замятина, где описан мир абсолютно отрегулированный, со строгими командами, где малейшее отклонение от режима немедленно карается, где люди превращены в автоматы, которые ведут себя во всех ситуациях только по предписанным нормам и правилам, и малейшее отклонение от них влечет для них катастрофу. Такого рода романы являются, конечно, интересным художественным упражнением, но если примерять их к действительности, к такой мрачно-притягательной, харизматической и ужасной действительности 1930–40-х годов, то эти романы кажутся детской игрой: как будто это игра в тоталитаризм, с преувеличением, которое свойственно игре детей, когда они играют в гости или в больницу.
То, что происходит в культуре, воплощением которой стало соцреалистическое искусство, — это требование постоянного растворения человека в этом движущемся потоке, когда вы каждую секунду поверяете свою жизнь: растворены вы или выпали в осадок, и что с вами будет. Вот это и было наиболее мощным фактором, который определил известную, я бы сказал, мрачную притягательность сталинского времени и его искусства, которую мы ощущаем и в наше время.