Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России
- 7 лекций
- 3 материала
Аудиолекции Ильи Доронченкова о том, как на рубеже



Аудиолекции Ильи Доронченкова о том, как на рубеже


Для современного человека импрессионизм принадлежит к классике искусства. Мы знаем имена художников, которые составляли эту фалангу: это Клод Моне, Эдгар Дега, Альфред Сислей, Огюст Ренуар, Берта Моризо, Мэри Кэссетт. Их наставником, патроном, собеседником, учителем был Эдуард Мане, вокруг них стояла группа единомышленников, людей, которые их поддерживали. Выставки, которые дали имя движению, начались в 1874 году благодаря одному из журналистов, использовавшему название картины Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце» С фр. «Impression, soleil levant».. Эта группа и вошла в историю под именем, которое, с одной стороны, родилось как ругательное, а с другой — оказалось чрезвычайно удачным и в то же время слишком легким и понятным для многих из толкователей этого движения, потому что дело, конечно, в новом мировидении не сводилось к отпечатку мгновенного впечатления нашего взгляда. Но тем не менее это было важно, потому что произведения импрессионистов предложили новое видение современного мира — мира урбанизированного, динамичного; мира, в котором образ, отпечатывающийся на глазе художника и проецирующийся на холст, изображает сам себя. Это по большому счету реалистическое искусство, искусство, изображающее нашу жизнь и не видящее за этой жизнью символов, эмблем, готовой иконографии.
Импрессионисты окончательно разрушили ту иерархию, ту систему, которая родилась в эпоху Возрождения, — систему живописи, жанров, видов, иконографий, символов и аллегорий; пластичную, сильную, но в середине XIX века уже почти что себя исчерпавшую. И они принесли не только новое видение, но и новую поэтику, новый изобразительный язык, который опирался на опыт живописца, стоящего на природе и отбрасывающего ту школу, ту рутину, которую он постигал в академии: как создать повествовательную картину, которая находится, в общем, вне времени и пространства. Из мастерской импрессионист перемещается на природу, он пишет картину, стоя под открытым небом, на солнце, учитывая все те отношения цветов, тонов, теней и света, которые он наблюдает в действительности. И поверхность холста слушается восприятия художника: она динамична, мазок не скрыт. Более того, от нашего глаза не скрыт опыт художника и принципы, открытые современной оптикой, как, например, простые цвета, создающие более сложные. Все эти обстоятельства — новое видение и новое знание — породили новый живописный язык.
Мы знаем из истории искусства, что импрессионистов не принимали, что над импрессионистами смеялись и что их жизнь и творчество были героической борьбой за признание, иногда просто за достойную жизнь. Но это та система, которая сложилась к нашему времени, и в ней импрессионисты занимают абсолютно незыблемое место. Это исток современного искусства. Импрессионизм к началу ХХ века стал тем, что называется lingua franca — общий интернациональный язык европейского и американского изобразительного искусства. Но в каждой стране процесс восприятия и потребности национальной школы делали импрессионизм очень своеобразным.
Самый процесс восприятия воздействует на результат. Это очень интересная, почти детективная история, полная приключений, недопониманий, которые на самом деле оказываются источником новых открытий. Можно сказать, что процесс, о котором идет речь, некоторым образом напоминает дегустацию вина. Представьте себе, что перед нами хорошее, породистое французское вино, которое мы наливаем в бокалы. В общем, это вино будет примерно тем же, которое мы могли бы попробовать в самой Франции. А сейчас ситуация другая: представьте себе, что форма бокала, место, где мы дегустируем напиток, время суток и погода влияют на вкус вина. И, более того, не просто на вкус вина, а на преображение нашего организма, впитывающего это вино. Вот, собственно, этот процесс и есть процесс усвоения одной национальной традицией результатов развития другой. Франция в середине XIX века — безусловный художественный лидер. То, что происходит во Франции, так или иначе воспринимается с энтузиазмом или с отвращением другими национальными школами. Франция — это эталон, и даже французский мятеж и Французская революция, импрессионизм — это некая проблема для всех художественных школ, которые борются за собственную идентичность, за собственную физиономию во второй половине XIХ века. В этом отношении все они открыты импрессионизму — или все они закрыты перед ним. Импрессионизм так или иначе усваивается, так или иначе впитывается, так или иначе отрицается.
У русских своя история отношений с импрессионизмом, и она очень драматична. Если мы посмотрим на советские журналы по искусству середины ХХ века, эпохи борьбы с космополитизмом (конец 1940-х — начало 1950-х годов), мы увидим, что один из смертельных грехов живописи для ортодоксальных критиков 1940-х годов — это, как ни странно, импрессионизм, искусство, которое уже давно во всем мире висит в музеях, которое продается за большие деньги, и современный художественный мир только помнит о том, что импрессионистов
Сам процесс усвоения импрессионизма в России был очень драматичен. Русские открыли импрессионистов довольно рано. В 1874 году, когда в ателье французского фотографа Надара состоялась первая выставка, получившая название импрессионистической, в Париже жил молодой Илья Ефимович Репин, который поехал в столицу Франции, поскольку получил Большую золотую медаль за свою академическую композицию. Мы знаем, что он был знаком с импрессионистическими работами. В одном из писем он писал:
И тут же мы сталкиваемся с очень интересным моментом — со своего рода негативным эталоном, восприятием западного развития как негативного эталона. В одном из писем Иван Крамской формулирует важнейший принцип русского реализма: «Мысль, и одна мысль, создает технику и возвышает ее. Оскудевает содержание, понижается и достоинство исполнения». И дальше делает парадоксальное замечание: «Однако ж что это значит? Зачем на Западе дело идет как будто навыворот?» С этого момента современное западное художественное развитие и его радикальные результаты — импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм, кубизм — будут играть крайне важную роль в развитии русского изобразительного искусства. Не через прямое влияние — хотя оно будет. Но прямое влияние — это не самое интересное. Самое интересное — результат спора и диалога. И примерно с этого же времени станет ясно, что новый изобразительный язык русской живописи конца XIX — начала ХХ века будет восприниматься как язык импортированный, как язык заимствованный, как язык западный.

Когда в 1889 году Павел Михайлович Третьяков приобрел картину молодого Серова «Девушка, освещенная солнцем», Владимир Маковский, один из отцов передвижничества, знаменитый жанрист-рассказчик, на публичном обеде передвижников задал Третьякову вопрос, который можно истолковать как хамский. Он сказал: «С каких пор, Павел Михайлович, вы стали прививать вашей галерее сифилис?» При всей брутальности этой формулировки Маковский попал в десятку. Если мы посмотрим на прекрасную картину Серова, мы увидим, что для человека, привыкшего к музейной живописи — к реалистической живописи, в которой световые рефлексы не играют существенной роли, в которой цвет не изменяется от прямого воздействия света, — для человека XIX столетия пятна на лице и коже девушки, пятна от лучей солнца, пробивающихся сквозь листву, без труда будут ассоциироваться с результатами воздействия сифилитической инфекции на человеческую плоть: пятна язвы, которые характерны для определенной стадии болезни. Это очень злая и грубая формулировка, но у нее есть и второе дно. Дело в том, что сифилис, очень распространенный в Европе XIX века и бывший сам по себе культурным фактором, прежде всего последней трети столетия, носил неполиткорректное название «французская болезнь». И в этом отношении Маковский оказался чрезвычайно прав. Но если Серов, который был в Париже подростком,
Парадокс заключается в том, что героическое поколение импрессионистов
Русские имели несколько возможностей приобщиться к импрессионизму до того, как первые картины мастеров этого круга попали в нашу страну. Ну, например, в 1876 году Эмиль Золя, в ту пору молодой непризнанный литератор, был парижским корреспондентом влиятельного либерального толстого журнала «Вестник Европы», на страницах которого напечатал раньше, чем
В 1891 году в Москве состоялась колоссальная французская художественно-промышленная выставка. Это был очень важный политический жест, свидетельствующий о начале сближения между Францией и Россией, результатом которого стало создание антинемецкого военно-политического союза. Эта выставка была создана по модели Всемирной выставки 1889 года в Париже, где Россия не участвовала как монархия, поскольку выставка, запомнившаяся миру Эйфелевой башней, была посвящена столетию Французской революции, но тем не менее Франция в 1891 году показала значительную часть своей экспозиции в Москве. Искусство было только фрагментом этой выставки, правда очень большим. Наряду с продукцией парижской индустрии, с экспозициями, посвященными здравоохранению и образованию, москвичи увидели свыше 600 полотен, не считая скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства, архитектурных проектов и так далее. Выставка работала с апреля по октябрь, ее посетило огромное количество народа, включая государя императора. И, казалось бы, на этой выставке мы могли бы впервые увидеть импрессионистов, тем более что посетитель, взявший в руки один из номеров официального журнала выставки, начиная обзор художественного отдела, мог прочесть следующее:
«В последнее время параллельно с возникновением реалистического и натуралистического направления во французской литературе, в искусстве тоже началось господство реализма. Но так же, как литературный реализм привел к крайностям декадентизма, так реальное искусство выродилось в импрессионизм. Декаденты в литературе и импрессионисты в искусстве — представители двух однородных крайних направлений, стремящиеся к господству в интеллектуальной жизни Франции. <…> Импрессионисты… вводят в область искусства новые приемы, с помощью которых стараются передать воспринимаемые ими непонятные для большинства впечатления. Резкие эффекты цветовых контрастов, освещение рассеянным светом, мертвенный колорит человеческого тела, редко встречающийся в действительности, но приводящий тем более сильное впечатление на импрессионистов, небрежность в рисунке, невозможная выписка аксессуаров или полное отсутствие их — вот характеристические признаки новой школы, которая до сих пор не пользуется еще большим успехом, хотя, по последним известиям, произведения ее в нынешнем году наводнили Салон на Марсовом поле… Имеется в виду Марсово поле в Париже, где с 1860-х проходили Всемирные выставки.»
Журналист Духовицкий, написавший этот длинный обзор, нигде больше к импрессионизму не возвращается, но он считает нужным предупредить русского посетителя об этой опасности, которой, в общем, в Москве не было. Что же это такое? Очевидно, что импрессионизм, еще никем не виданный среди русских зрителей в Москве или Петербурге, уже казался определенной консервативной части русского художественного мира потенциальной опасностью.
На московской выставке доминировал Салон. На московской выставке можно было найти французский реализм, и лишь в нескольких произведениях прослеживались признаки импрессионистического живописного языка. Но через некоторое время после того, как эта огромная экспозиция закрылась, в Москве была дважды опубликована статья очень влиятельного журналиста Владимира Грингмута. Владимир Грингмут в конце XIX века — один из лидеров монархической публицистики. Он унаследовал пост главного редактора газеты «Московские ведомости» — очень влиятельной монархической националистической газеты. Он возглавлял Катковский лицей, школу для патриотически, монархически ориентированной элиты Катковский лицей — неофициальное название Московского Императорского лицея в память цесаревича Николая (1868—1917); закрытое высшее учебное заведение для детей из дворянских семей. Был основан на личные средства публициста Михаила Каткова., и он был, конечно, прежде всего политическим публицистом, для которого идеалом было православное царство Александра III. Вот что он писал по политическим поводам:
«Но Россия не Запад и не Восток: для нее не обязательны ни жалкая материалистическая безыдейность Европы, ни окоченелый фанатизм Азии… Россия есть Россия, государство совершенно своеобразное, государство по преимуществу православно-христианское и состоящее уже по одной этой идее неизмеримо выше прочих европейских и азиатских государств и народов».
И вот человек, разделявший эти политические взгляды и в начале ХХ века ставший одним из основателей «Черной сотни» Черносотенцы — собирательное название крайне правых монархистских и антисемитских организаций 1905–1917 годов., в 1893 году публикует статью «Гроза, надвигающаяся на русское искусство». Этой грозой Грингмут признаёт импрессионизм. Он полагает, что современное искусство в упадке, что в музыке разрушительное воздействие оказывает Вагнер, в литературе опустошающее влияние — Золя, а в изобразительном искусстве — Мане. Это искусство, лишенное духовности, это искусство теоретичное, это искусство головное, противоположное одухотворенной культуре прошлого, культуре Гете, Байрона, Шекспира, Пушкина. И Грингмут с огромным пафосом борется с импрессионизмом, давая ему очень простые характеристики:
«Для импрессионизма все предметы, явления, существа имеют лишь внешнюю оболочку, без всякого внутреннего содержания. Они напишут вам женщину в белом платье во весь рост, сидящую на траве, единственно затем, чтобы намалевать белое пятно на ярко-зеленом шпинате, но им нет никакого дела ни до выражения лица этой женщины, ни до ее характера, ни до ее внутреннего мира».
И успех этой школы публицист объясняет тем, что, во-первых, импрессионистическая манера слишком легка и потому доступна для бездарей, публика в массе своей невежественна, а современная критика беспринципна и продажна и гоняется за оригинальностью и симпатией, поэтому способствует рекламе шарлатанов. Казалось бы, здесь все очень просто, и явление, успех которого объясняется вот этими тремя внехудожественными обстоятельствами, не может представлять такой угрозы. Но Грингмут в конце своего текста исключительно высоко повышает ставки. Он пишет о том, что Франция уже охвачена импрессионизмом, Германия заполнена французскими и своими импрессионистами, в прошлом году они напали на Россию, в 1892 году на передвижной выставке он находит
Статья Грингмута художественным миром всерьез воспринята не была, ее скорее высмеяли за неуместные претензии спасения отечества от импрессионистической угрозы. Но мне кажется, что одна из реакций на эту статью, комическая и как бы маргинальная, тем не менее помогает нам определить, что же такое было слово и понятие «импрессионизм» для русского человека в 1890-е годы. В 1894 году на страницах единственного в ту пору русского художественного журнала «Артист» писатель Петр Гнедич, очень плодотворный прозаик и драматург, опубликовал рассказ «Импрессионист». В рассказе два главных героя — русский художник Плетнёв, успешный московский живописец, тридцати с небольшим лет, академик, никаким боком не относящийся к радикальным художественным кругам, и случайно встреченная им в трамвае француженка, которая в Москве
«…Февральское утро. Снег накануне стаял, полозья так и режут голый камень. Дома все стоят в
каких-то желчных пятнах, точно страдают печенью от вечной злобы на людской род. <…> Художник со своим живым, ярким настроением выступает перед публикой и говорит: „Смотри, как тепло, светло у меня на картине, как далеко все это от квартирного налога, от геморроя, от ингерманландской изморози“. <…> А знатоки говорят: „Черт знает что, — зеленый подбородок; вместо лица — географическая карта Соединенных Штатов! Он, несчастный, заразился импрессионизмом“».
И Плетнёв, что называется, закусывает удила и с остервенением начинает писать «зеленый подбородок», потому что при зеленой траве, освещенной солнцем, он и не может быть другого цвета. Окончив этюд, Плетнёв и Маргарита возвращаются к родне, а там за накрытым под летним солнцем столом с обедом сидит призванный тетушкой проповедующий старец Созонт, хранитель заветов старины. Поскольку тетушка очень боится, что натурщица женит на себе ее племянника, она призывает Созонта как спасителя, который должен изгнать скверну. Созонт требует, чтобы католичка ушла из-за православного стола, а Плетнёв говорит: ну, отче, если ты не желаешь с нами оскверняться и сидеть среди нас, так и пошел вон. И тут Созонт, не желающий уходить от застолья, обращается к художнику и говорит: я уйду и прах отрясу, но только прежде ответь мне на вопрос: кто ты еси? Плетнёв прищурился: «Импрессионист». «Не знаю, что такое слово значит. Что ж под прикрытием этого слова ты сделать хочешь? Мир прежний разорить и новый создать?» — «Вот-вот». И вот Созонт уходит, и тетушка Софья Анипадистовна спрашивает своего племянника: а что же это такое — импрессионизм? И тут художник, только что переживший инициацию, признавший себя импрессионистом, говорит: «А это, тетуля, нечто вроде жупела, только страшней».
Что такое импрессионизм, нам помогает понять мнение английского художника той же самой поры Чарльза Фурса. Вот что он пишет:
«…Читатели современной художественной критики, вероятно, знакомы с употреблением термина „импрессионизм“. Он наиболее часто применяется в нынешнем художественном жаргоне и обладает преимуществом — для большинства людей — оставаться просто словом, совершенно неотчетливым… Он стал именем, которое отличает произведения живописцев, что стремятся к выражению художественной индивидуальности, от тех, кто видит в искусстве товар, поставка которого зависит от спроса».
То есть в пору, когда мы еще не видели импрессионистов как таковых, это слово для художественного мира означало свободу и независимость художественной личности, ее противостояние заветам старины, носителям заветов старины, подобных Грингмуту. Полагаю, что рассказ Гнедича на самом деле является полемикой с Грингмутом, которого я позволю себе опознать в старце Созонте.

Спустя пять лет после выставки 1891 года наш зритель наконец смог увидеть в Москве и Петербурге настоящих импрессионистов. Там снова прошла большая французская художественная на этот раз выставка, где среди нескольких сотен картин, отражающих различные течения современного французского искусства, были показаны несколько полотен импрессионистов, а именно Моне и Ренуар. Мы достоверно знаем только один из холстов, показанных на этой экспозиции. Это был «Стог сена» Клода Моне, который сейчас хранится в музее Цюриха и который встретил ехидные отклики русских критиков и очень невнятную реакцию художественного сообщества. Мы знаем, например, что Исаак Левитан, ходивший по выставке со своими друзьями, возражал их возмущению, говоря, что здесь на самом деле
И если профессиональная среда в 1896 году была скорее озадачена холстом Моне, то люди, которым будет суждено совершить революцию в живописи и литературе, люди, которые в ту пору к профессиональной среде не относились, запомнили этот визуальный опыт на всю жизнь. Василий Кандинский в своих воспоминаниях пишет:
«Мне казалось, что без каталога не догадаться, что это — стог сена. Эта неясность была мне неприятна. Мне казалось, что художник не вправе писать так неясно. <…> С удивлением и смущением замечал я, однако, что картина эта волнует и покоряет, неизгладимо врезывается в память… <…> Живопись открывала сказочные силы и прелесть. Но глубоко под сознанием был одновременно дискредитирован предмет как необходимый элемент картины».
Даже если мы примем во внимание, что Кандинский транслирует в свое прошлое уже сформулированный опыт беспредметной живописи, придется согласиться с тем, что «Стог сена» Клода Моне для русского юноши 1896 года был настоящим авангардом, который дал толчок для его деконструкции классического представления об изобразительном искусстве. Другим человеком, который навсегда запомнил московский холст Моне, был Андрей Белый, отроком посетивший эту выставку и затем на склоне лет написавший:
«…Французские импрессионисты мне нравились тем, что пестры и что краски приятно сбегались в глаза мне… и не раз потом я размышлял над тем странным, но не неприятным переживанием… Эта „странность“ казалась знакомой мне; будто она намекала на нечто, что некогда мною изведано было; и подавались первейшие переживанья сознания на рубеже между вторым и третьим годом жизни (быть может, тогда я так видел предметы?)».
Напомню, что в это время увидеть импрессионистов в публичном пространстве Европы было крайне сложно. Даже когда Люксембургский музей, представляющий современное французское искусство, получил коллекцию Гюстава Кайботта, друга и покровителя импрессионистов, и должен был выставить в своих залах произведения Моне, Мане, Ренуара и других художников, все равно подавляющее большинство членов художественного сообщества в России имело об импрессионизме крайне приблизительное представление. Когда Игорь Грабарь писал свой обзор современного искусства за последние 50 лет, сидя в Мюнхене и перелопачивая колоссальный объем информации, совершенно неизвестной для русского человека в ту пору, он, например, написал, что в Салоне 1865 года Эдуард Мане выставил картину «Девочка с кошкой». «Девочка с кошкой» — это «Олимпия».

Сама по себе эта ошибка говорит о той бездне незнания, неосведомленности, с которой столкнулись русские молодые художники и критики, которые должны были в течение очень короткого времени выстроить картину нового искусства, которое бросало вызов искусству старому и которое для молодежи было знаком надежды на то, что рутина, в которую все глубже погружалась русская художественная жизнь в конце XIX века, будет преодолена. Импрессионизм в этом отношении играл, безусловно, прежде всего мобилизующую роль, роль символа. Еще Дмитрий Владимирович Сарабьянов показал, что для значительной части русских авангардистов в начале ХХ века имя «импрессионист» было синонимично тому явлению, которое затем стало описываться понятием «футурист» или «авангардист», и что многие русские авангардисты прошли в своем очень быстром становлении стадию импрессионизма. И это совершенно не случайно: импрессионизм был и оставался знаком художественной революции.
Первым, кто в России написал большую статью об импрессионизме, стремясь понять это явление, был Александр Бенуа. Долгая парижская жизнь помогла ему познакомиться с произведениями импрессионистов, он мог найти их в магазине Дюран-Рюэля Поль Дюран-Рюэль (1831–1922) — один из первых французских собирателей импрессионизма. Был владельцем магазина художественных принадлежностей, где выставлял картины художников., в частных коллекциях, но даже в 1899 году на страницах передового русского журнала «Мир искусства» Бенуа в своей статье борется с собственным страхом и с собственным недоумением:
«Недавно еще слово „импрессионизм“ было бранным и сказать про художника, что он импрессионист, это было выставить его как шарлатана или неуча. Недоумение, граничащее с ужасом, является у всякого, кто в первый раз видит картины этой школы. Неужели в этом бешеном распорядке красок и линий люди искренние и беспристрастные могут находить и свет, и солнце, и жизнь, тонкую колористическую прелесть и даже поэзию? Дега как истинный импрессионист не дал цельных картин. Его балетные, бульварные, жокейские, интимные сцены — случайные фрагменты, в которых обнаруживается гигантский талант и неглубокая личность автора. Самые удачные из произведений этой школы могут доставить наслаждение лишь художнику-специалисту, который сумеет разрешить всю трудность разрешенной задачи. Неспециалисту едва ли они много дадут: в них нет теплоты, характера, они не способны ни тронуть, ни восхитить, а без этого условия произведение искусства мертво».
Что же должно было произойти, чтобы художественный мир — и русский, и не только русский — принял импрессионизм как центральное явление XIX века и как то зерно, из которого растет новая живопись? В 1900 году в Париже состоялась Всемирная выставка, которая подвела итог столетию. Помимо огромного количества национальных павильонов, павильонов тематических, на этой выставке посетители со всего мира могли познакомиться с художественным развитием Франции за последний век. Важно подчеркнуть, что там было две выставки. Так называемая выставка десятилетия была сформирована официальными художественными инстанциями и отражала официальную картину французского искусства, официальную иерархию, где все еще доминировал Салон. А вот так называемая выставка столетия, ретроспективная, делалась усилиями музейных кураторов, историков искусства и представителей художественного рынка. У рычагов ее стоял Роже Маркс, один из самых влиятельных музейных деятелей страны. И вот именно эта выставка, показывающая развитие французской живописи от неоклассицизма до современности, впервые предъявила мировому зрителю импрессионизм как целостное, оригинальное, очень сильное явление, которое не только опровергает рутину, которое растет из глубины французской художественной традиции.

1900 год для европейских наций стал поворотным. Импрессионизм постепенно, но довольно быстро начал завоевывать симпатии широкого круга зрителей — не только коллекционеров, не только посвященных, но и образованных посетителей экспозиции. И в своем обзоре выставки 1900 года Александр Бенуа, только что написавший вот те растерянные строки о неглубокой личности Дега, о пугающем эффекте импрессионистов, пишет то, что мало кто из русских в тот момент имел мужество (не просто мужество, а понимание явления) сказать:
«Одна юбочка на
какой-нибудь ученице балетного класса, один ее крупный тупой носок, один красно-черный тон платья на пожилой даме в „Семействе Мант“ Дега содержит в себе больше искусства, нежели сотни и тысячи картин официальных реалистов, развешенных на почетных местах в разных государственных музеях. Вот если бы вместо Владимиров и Константинов Маковских, Поленовых и Котарбинских в наших хранилищах современного искусства висели бы всего три картины — „Обед в лесу“ Клода Моне, „Семейство Мант“ Дега и „Ложа“ Ренуара, — тогда можно было бы эти склады полотна назвать музеями».

Эта высочайшая оценка не означает, что восприятие импрессионизма в России отныне было лишено драматичности. Нет. К моменту, когда наши соотечественники восприняли импрессионизм и выработали в себе возможность наслаждаться этой живописью, выработали понимание того, что без уроков импрессионизма, которые уже начали постепенно усваивать молодые живописцы, невозможно преображение, модернизация русской художественной традиции, импрессионизм как таковой клонился к закату, несмотря на то, что многие великие художники-импрессионисты еще были живы и писали. Импрессионизм для посетителя передовых выставок около 1900 года был не тем явлением, которое мы знаем и любим сейчас. Это не живопись художников

В творчестве позднего Моне, который начал писать серии картин («Руанский собор», «Тополя», «Стога», где проблемой было тончайшее изменение оттенков и освещения и где художник превращался практически в оптическую машину), современники увидели доминирование интеллектуального подхода, который, по мнению поколения символизма и декаданса, противоречил натуре искусства. И в этом отношении то, что мы в России открыли импрессионизм поздно, в начале ХХ века, как явление в большой степени интеллектуальное, в котором художник представляет собой почти механическую машину, отражающую нюансы впечатлений, сказалось на образе импрессионизма в России в дальнейшем. Он воспринимался многими, даже симпатизирующими ему, критиками и художниками как нечто, что дает нам прежде всего аналитическую, а не синтетическую картину мира, что показывает оболочку, что не может сложиться в целостную картину, несущую в себе некий возвышенный смысл. И то, что импрессионизм не ставил перед собой задачу создания сюжетного изображения, роли не играло. Вот это недоверие к импрессионизму, сочетающееся с восторгом перед ним, сохранилось в русском художественном мире и в русском художественном дискурсе на многие десятилетия, и в этом отношении тот ужас перед импрессионизмом, который охватывает советских критиков-доктринеров 1940-х годов, мало чем отличается от ужаса националиста и монархиста Владимира Грингмута 1890-х. Импрессионизм все еще остается некой нерешенной проблемой для русского художественного мира, несмотря на то, что во всем остальном человечестве импрессионисты уже давно стали искусством музеев.
Русскому человеку есть за что почитать объединение «Мир искусства» — за особое чувство истории, за изменение отношения к Петербургу: мы любим Петербург, потому что «Мир искусства» показал нам, какой это красивый город; за возрождение русского балета, потому что именно благодаря Дягилеву, одному из главных деятелей «Мира искусства», мы теперь можем гордиться этим творчеством; за то, что в произведениях «Мира искусства» Россия предстает перед нами как европейская страна, потому что историческая живопись предшествующих поколений показывала нам нашу родину как страну средневековую, Московию XVII века, да и русская архитектура этой поры была подобием русских теремов — храм Спаса на Крови или Верхние торговые ряды Сейчас — здание ГУМа. в Москве. Но в деятельности «Мира искусства» есть центральная проблема, которая связана со всеми остальными: это превращение русского искусства в искусство международное. Это медленное, но очень логичное избывание провинциальности. Как однажды хорошо написал Сергей Дягилев Александру Бенуа, «я хочу выхолить русскую живопись, вычистить ее и, главное, поднести ее Западу, возвеличить ее на Западе». Как нечасто бывает в истории нашей культуры, этот проект оправдался очень сильно благодаря прежде всего усилиям Дягилева в «Русских балетах». Но эта самая проблема превращения русского искусства из искусства провинциального в искусство, которое хотя бы частично задает тон всему миру, — это проблема центральная для нового поколения.
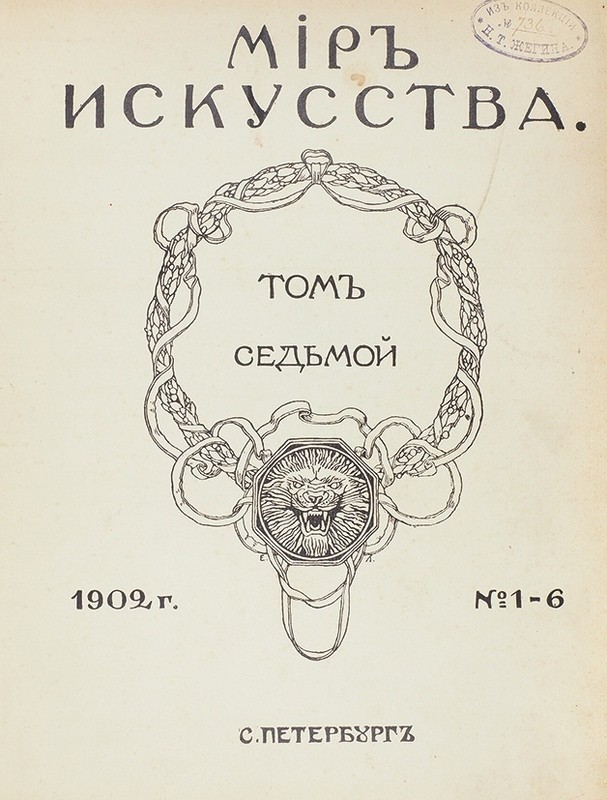
1890-е годы — это была пора, когда русский художественный мир начал открываться Западу. В Петербурге и Москве за десятилетие прошла дюжина выставок, которые показали русскому зрителю искусство Франции, Германии, Австро-Венгрии, Англии, Бельгии, Голландии, скандинавских стран. Это был период небывалой открытости и резко растущей осведомленности русского зрителя о том, что творится в европейских художественных столицах. С другой стороны, это было время, когда русский художественный мир переживал своего рода робость перед полноценным общением с мировым художественным процессом. Можно сказать, что 1890-е годы проходят под знаком латентного изоляционизма. Страна открывает очень широкий круг явлений литературы, театра, музыки и живописи, перед которыми традиционный русский художественный мир чувствует себя беззащитным. И это, естественно, вызывает настороженность и страх в самых разных общественных и политических слоях.
Если мы посмотрим на то, что русские властители дум 1890-х годов думали о современном художественном творчестве, которое для человека той поры в России почти что было синонимом западного искусства, мы вынуждены будем прийти к выводу, что эти люди ни в чем другом между собой никогда бы не согласились, но всех их объединяет крайне негативное отношение к современному художественному мышлению, идущему прежде всего из Франции. Лев Толстой, великий писатель и религиозный диссидент, в своей брошюре «Что такое искусство?» издевательски говорит о поэзии французского символизма. Владимир Стасов, либеральный националист, защитник «Могучей кучки» и передвижников, с отвращением пишет о современных художественных течениях Запада. Владимир Грингмут, рупор правых националистов и монархистов, отрицает импрессионизм. Николай Михайловский, идеолог русского крестьянского социализма, народничества, считает, что Россия слишком молода и энергична для того, чтобы импортировать французский символизм. Наконец, Георгий Плеханов, первый русский марксист, видит в импрессионизме, кубизме и других художественных течениях современного Запада воплощение идейного кризиса капитализма. Ни в чем другом эти люди не были бы солидарны, но они очень хорошо отражают ту настороженность, то недоумение и тот страх, который читающая и думающая часть русской нации испытывает перед вторжением непривычного, необычного, опасного современного западного искусства.
К этим четко сформулированным опасениям, к этому идеологическому отрицанию следует добавить еще некоторые обстоятельства. К концу XIX века четко сформулирован национальный культурный стереотип. Вот что Марк Антокольский, крупнейший русский скульптор, большую часть жизни проведший за границей, пишет:
«…надо всегда принимать во внимание разницу таких двух характеров, как русский и французский. Французы — народ старый, а мы — молодой; они — богаты, мы — бедны; они расчетливы, мы — беспечны; они вежливы, а мы добродушны; у них культурная дисциплина, у нас халатность… У французов не знаешь где кончается искренность и начинается вежливость; мы же всегда искренни и поэтому всегда бранимся. <…> В искусстве французы — эпикурейцы, а мы — пуритане: у них преобладает форма, а у нас — содержание; у них главное — кáк сделано, а у нас — чтó сделано».
Этот стереотип изначального противостояния русского чувства жизни, русского чувства искусства и французского чувства, это идеологическое отрицание новых художественных явлений находит продолжение и соответствие в реакциях различных участников художественной жизни.
Ну вот, например, после десятилетия художественных выставок, которым можно было бы позавидовать, поскольку, как бы то ни было, неполно или несовершенно, но они показывали искусство различных европейских стран, в одном из петербургских журналов появляется статья «Нужны ли нам в данную минуту иностранные выставки?», в которой автор пишет:
«Отчего от таких выставок веет
чем-то холодным? Почему нет в этих полотнах чувства народной души, народных воззрений, которые интересны во всякой национальности? Просто потому, что выставки эти устраиваются официальными лицами и учреждениями, а потому и носят характер сухой и холодной официальности».
И если автор статьи в этом отношении прав, то вывод, который он делает, заставляет насторожиться:
«Количество выставочных помещений в Петербурге очень ограниченно, и потому становится досадно, когда видишь их занятыми иностранцами в такое время, когда многие наши выставки не находят себе места и откладываются с года на год. Несмотря на весь интерес, представляемый чужими странами, еще интереснее знать свою родину и ее как большие, так и маленькие уголки, где бьется много отзывчивых сердец».
Действительно, в Петербурге конца XIX века было на удивление мало современных выставочных помещений, и иностранные выставки — большие, с сотнями картин, занимающие эти помещения на относительно долгое время, могли восприниматься русским художественным миром как ненужный и опасный конкурент.
В 1896 году Александр Николаевич Бенуа, еще очень молодой художественный критик, которому немецкие коллеги дали поручение сформировать русский отдел для Мюнхенской выставки, обратился к Михаилу Нестерову с тем, чтобы заполучить его в качестве участника. И Нестеров, по воспоминаниям Бенуа, дает поразительный ответ: «Там посмотрят на нас как на диковинку, а теперь только давай диковинки!!! Нет, я лучше пошлю свои вещи в Нижний [Новгород], мне интересней, чтоб меня знали мои же!» Бенуа говорит: «Да ведь Вас никто не понимает, не оценивает! Напротив того, я слышу смех и издевательство». Нестеров: «Эка беда, как будто бы успех в публике для художника — не срам скорее? Мне довольно, чтоб меня поняли три, четыре человека — а понять истинно и совершенно мои вещи может только русский…» Справедливости ради надо сказать, что на следующий год Нестеров послал в Мюнхен одну из своих лучших картин, поэтому его изоляционизм, ясно звучащий в словах в беседе с Бенуа, не был совершенен, не был абсолютен. Но если мы посмотрим, допустим, на позицию Виктора Васнецова, который, в общем, сознательно отрешается от всех западных влияний и обращается к России XVII столетия, то мы поймем, что изоляционизм для русского художественного мира этого времени — это достаточно острая проблема, которая иногда может иметь очень личные и резкие формулировки.
Григорий Мясоедов, один из отцов передвижничества, к этому моменту уже очень консервативного явления, пишет Владимиру Стасову в марте 1898 года. Он имеет в виду выставку, которую теперь по праву считают первой выставкой «Мира искусства», выставку русских и финляндских художников, организованную Сергеем Дягилевым, на которой был представлен широкий круг современных художественных течений двух национальных школ:
«Что за иностранная саранча налетела на тощую ниву русского искусства? Что это за патриоты, которые тащат к нам первобытных чухонцев, шведов и норвежцев, французов, англичан, поляков и испанцев? Наши коммерсанты-толстосумы, которые так горячо отстаивали покровительственные пошлины, оказываются первыми поощрителями и потребителями всего иностранного. Они оказываются выше того, что может дать русская школа, им надо декадентов, символистов, им по вкусу французский сифилис, англицкая грация, немецкая ходуля, финляндское безобразие — все что угодно, только не русская жизнь, очень она уж им противна, слишком она уж им напоминает тех меньших братии, которые туго набили их большие кошельки».
Это частное письмо, и ярость Мясоедова, уже очень пожилого человека, который чувствует, что молодежь ни в коем случае не хочет подчиняться ни его административной власти — а он возглавляет передвижничество в это время, — ни следовать его школе, в общем понятна. Но вот эти вот свидетельства настороженного или враждебного отношения к современному иностранному художеству, они пронизывают русскую художественную критику и русское художественное сознание 1890-х годов. Страна стоит на пороге небывалого в своей истории открытия очень широкого круга художественных явлений, непривычных и непонятных. И в этом отношении роль «Мира искусства» колоссальна. До «Мира искусства» русская художественная школа — одна из многих европейских школ, следующих своей традиции, решающая свои локальные задачи, участвующая в международных выставках. После «Мира искусства» русское искусство — это часть мощного интернационального современного движения.
«Мир искусства» сложился как кружок друзей и родственников, и этим он отличается от всех предшествующих русских художественных движений — от передвижничества, от абрамцевской колонии. Эти друзья и родственники представляли собой очень пеструю космополитическую русскую культурную среду, прежде всего среду Петербурга. И по происхождению, и по воспитанию эти люди впитали в себя культуру Европы, и для них Россия была частью Европы. Это не означало отказа от национального лица — более того, это обостряло проблему искусства как воплощения национального духа. Но решал ее «Мир искусства»
Надо сказать, что для самих мирискусников открытие современной западной живописи было довольно большой проблемой. Вот, например, Александр Бенуа пишет своему другу Константину Сомову из Парижа. Бенуа, который принадлежал к культурнейшей европейской петербургской семье, для которого Париж был родным домом; Бенуа, который видит впервые, очевидно, картины Гогена и Ван Гога. И вот что этот проницательный критик, один из лучших русских писателей об искусстве за все время существования нашей критической традиции, говорит:
«Вот приблизительный образчик Гогена: вода зеленая, песок желтый, небо красное, трава коричневая, гора лиловая, женщина желтая. Очень мило и весело. Я сначала подумал, что он хотел передать Таити с наивным пониманием туземца. Но нет, оказывается: он бретонскую деревню отражает с такой же примитивностью. Но, может быть, он желает передать бретонскую деревню с наивным пониманием бретонского мужика? Другой раз выставлял прославленный Ван Гог, молодой голландец. Он умеет рисовать, и даже довольно ловко, но картины и почти все этюды — шаржи, и неостроумные».
То, что молодой Александр Бенуа не увидел в произведениях Ван Гога экзистенциального трагизма и счел его художественный язык всего лишь шаржем, говорит о том, что, помимо самой физической возможности увидеть новое искусство (а это было довольно сложно для иностранца в Париже конца XIX века: надо было знать, куда идти), было совершенно необходимо быть готовым к тому, чтобы это искусство увидеть и воспринять.
Другой пример: молодой живописец Игорь Грабарь, по рождению — человек Европы, он происходил из православной славянской семьи, его отец был депутатом венгерского парламента, защитником православного меньшинства. Грабарь приехал в Россию ребенком, окончил университет и Академию художеств и был направлен в Мюнхен редакцией журнала «Нива». Результатом была абсолютно поворотная статья 1897 года «Упадок или возрождение». В ней Грабарь писал:
«Наше время — это дни не упадка, не мелких страстей мелких художников, это дни блестящего возрождения, дни надежд и упований… Теперь, когда мы дошли до времени такого возрождения, когда являются братья великих мастеров прошлого, теперь должно быть недалеко то время, когда явятся люди, которые сумеют уже сделать шаг вперед, двинуться дальше старых. Кто будут эти желанные люди, в каком направлении они сделают свой шаг вперед — этого сказать нельзя. Но мы имеем все данные для того, чтобы надеяться и ожидать».
То, что сейчас звучит как риторическая фигура, в 1897 году было бомбой. Напоминаю, что одно из центральных слов художественной и литературной критики этой поры было «декаданс», «упадок». Именно так и друзья, и враги нового искусства зачастую описывали его. В этом отношении Грабарь, говоря, как сейчас кажется, очевидные вещи, на самом деле создает манифест новой живописи. Но для того, чтобы сделать это утверждение, он должен был развернуть картину развития европейской живописи за минувшие 50 лет от Эжена Делакруа до импрессионистов и дальше. Это был очень трудный процесс, даже в Мюнхене, одной из столиц европейской новой живописи той поры, было трудно найти литературу, было трудно выстроить систему ориентиров и ценностей, иерархию для того, чтобы сделать этот оптимистический вывод. Грабарь, друживший тогда с Кандинским, Явленским и другими членами русской мюнхенской колонии, и воспринимал свою статью как манифест поколения. «Мы получали и читали „Новое время“, „Русские ведомости“, иногда „Новости“ — газеты разных направлений, — писал он. — Несмотря на разницу политических взглядов, все они были одинаково черносотенны в своих суждениях об искусстве. Мы просиживали целые вечера, обсуждая отдельные положения, составляя новые аргументы».
И роль «Мира искусства» как объединения, роль Александра Бенуа и Сергея Дягилева как раз и заключается в том, что эта группа научила русского человека видеть и понимать современную живопись, современную французскую живопись в частности или прежде всего. Очевидно, что это понимание опиралось на их собственные принципы, было недостаточным и вызывало полемику следующих поколений. Но именно после «Мира искусства», благодаря «Миру искусства» русский человек породнился с современным французским творческим процессом, породнился с импрессионистами и постимпрессионистами. Процесс это был сложный. Нужно было прежде всего знать, что видеть, где видеть, нужно было выработать систему оценок и сформировать практически заново язык, которым эту абсолютно непривычную для русского человека, как, впрочем, и для большинства европейцев, живопись можно было описать и предъявить через слово образованному посетителю выставок. Нужно было сделать так, чтобы русский зритель не просто понял западное искусство, но был готов к тому, что русское искусство воспользуется западным как продуктивной моделью. И здесь первостепенна заслуга Сергея Дягилева.
Можно сказать, что Сергей Дягилев довольно рано осознал свою стратегическую задачу. Это очищение русского искусства от провинциальности, это интеграция его в общеевропейский художественный процесс, это наделение русского искусства современным живописным языком. Он прекрасно понял, чтó является самой болезненной точкой художественных дискуссий, художественных проблем 1890-х годов, по поводу довольно мелкого события, мелкого, но показательного: пронесся слух, что с выставки русских акварелистов исключают западных участников, чтобы не создавать экономическую конкуренцию отечественным художникам. И по этому поводу в газетной статье Дягилев написал:
«…новое поколение приходит со своими требованиями, и оно пробьется и скажет свое слово. Ваш панический страх перед Западом, перед всем новым и талантливым есть начало нашего разногласия, ваш предсмертный вздох».
Обратите внимание, что «Запад» и «новое и талантливое» в этой фразе стоят через запятую — это две стороны одной медали. Таким образом, ядро нового поколения ассоциирует себя в русском контексте с Западом. И здесь надо отдавать себе отчет в стратегии Дягилева и в стратегии «Мира искусства». Успех этой стратегии заключается в ее двойственности. В сущности, уже сейчас Дягилев осознает «Мир искусства» как двуликого Януса. В русском контексте это искусство, эта группа позиционирует себя как ярко выраженных западников-космополитов, как участников мирового художественного процесса; и то, что «Мир искусства» занимается творчеством Русского Севера, то, что в его контекст входит Билибин, то, что «Мир искусства» связан с возрождением искусств и ремесел, не является в данном случае противоречием: это часть общеевропейского процесса возрождения этнических корней современного искусства. Но вот на западной почве — а «Мир искусства» с самого начала осознал и сформулировал свои западные амбиции, — на западной почве, в немецких, французских выставочных залах, мирискусники представляли себя как большое, подлинное русское национальное искусство. В России они были европейцами, в Европе они были русскими. Триумфом этой стратегии стали Русские сезоны Дягилева в Париже 1910-х годов.
Но пока, в середине 1890-х, Дягилев формулирует задачи и ищет способы их решения.
«Если Европа и нуждается в русском искусстве, то она нуждается в его молодости и его непосредственности. Этого не поняли наши художники. <…> Им ни разу не пришел в голову вопрос: можем ли мы вас научить тому, что вы еще не знаете? Можем ли мы сказать новое слово в европейском искусстве, или наша участь — лишь не отставать от вас? Но чтобы быть победителями на этом блестящем европейском турнире, нужны глубокая подготовка и самоуверенная смелость. Надо идти напролом, отвоевав себе место, надо сделаться не случайными, а постоянными участниками в ходе общечеловеческого искусства. Солидарность эта необходима. Она должна выражаться как в виде активного участия в жизни Европы, так и в виде привлечения к нам этого европейского искусства — без него нам не обойтись, это единственный залог прогресса и единственный отпор рутине, так давно уже сковывающей нашу живопись».
Так Дягилев писал по поводу русского участия на Берлинском и Мюнхенском сецессионах 1896 года. Так он, в сущности, обозначает направления нашего похода на Запад.
Поход этот, как ни странно, начинается благодаря Дягилеву через Скандинавию. В 1897 году Дягилев организует в Петербурге выставку скандинавских художественных школ — Швеции, Дании и Норвегии, которая, как мне кажется, была самым представительным показом искусства этих стран вплоть до громадной, очень хорошо подготовленной выставки, которая прошла в европейских и американских музеях в самом конце ХХ века, — она называлась «Северный свет» и была посвящена школам Северной Европы в конце XIX — начале ХХ века. Надо сказать, что уже здесь Дягилев проявил себя как человек очень большой интуиции и хорошей осведомленности о том, что творилось в современном западном художественном мире. Я скажу, что, пожалуй, в этот момент в России было три человека, которые относительно адекватно представляли себе современный западный художественный процесс: Дягилев, Бенуа и Грабарь. Дело в том, что за десятилетие, прошедшее до петербургской выставки 1897 года, скандинавские художественные школы пережили абсолютно беспрецедентный переворот. Из абсолютно периферийных, провинциальных, национальных явлений они превратились в участников европейского художественного процесса, и художники-скандинавы, такие как Андерс Цорн, Эрик Вереншёлль, Фриц Таулов и затем, конечно, Мунк, сказали европейцам нечто такое на понятном им современном языке о своем национальном и общечеловеческом, что в этот момент по

Через год Дягилев организует следующее событие, которое, как принято сейчас считать, было первым выступлением «Мира искусства» как группы. В залах относительно недавно открытого училища барона Штиглица, а это был самый эффектный выставочный зал Петербурга на тот момент, состоялась выставка русских и финляндских художников. Почему финляндских? Финляндия в этот момент — часть Российской империи, но часть Российской империи с очень широкой автономией и с четким западным культурным вектором. С другой стороны, финляндская школа переживает тот же самый процесс, что школа шведская, датская или норвежская. Это создание современного языка, это приобщение к общеевропейскому художественному процессу и одновременно выработка национальной изобразительной поэтики. Например, панно на сюжеты из «Калевалы» лидера финского национального романтизма Аксели Галлен-Калеллы, те причудливые произведения, которые вызывали бешенство реалистически настроенных русских критиков. Но не только эта сторона финского искусства конца XIX века волновала Дягилева. Можно с уверенностью сказать, что Финляндия, бывшая своего рода мостиком между коренной Россией и Западной Европой, была для Дягилева моделью переформатирования национальной школы. Вот что он пишет по следам открытия национальной художественной выставки в «Атенеуме» в Хельсинки:
«Нам можно бы поучиться у финнов их солидарности, их любви к своему национальному искусству. Несмотря на заметную разность, существующую между ними, несмотря на два самостоятельных течения финнов-народников (то есть реалистов в данном случае) и художников с направлением западно-аристократическим, они все же представляют один дух, пропитанный сознанием своей общей силы. И она есть в их искусстве, эта сила. Она заключается в их врожденной любви к своему суровому народному типу, в трогательном отношении к своей бескрасочной природе и, наконец, в восторженном культе финских сказаний. <…> …Что особенно подкупает в их вещах — это их огромное умение и оригинальность техники, стоящей вместе с тем вполне на высоте Запада. <…> Финляндская живопись не похожа на скандинавскую: у нее нет наивности Норвегии, деланой простоты Дании и европейского лоска Швеции. Она не похожа и на русскую живопись, но мне думается, что единение этих двух искусств могло бы привести к тем результатам, которых и мы, и они так желаем».
Эта выставка действительно была знаковым событием. Во-первых, она представляла почти на паритетных основаниях два народа и два вектора. С русской стороны в эту группу входили не только представители «Мира искусства» — Бенуа, Сомов, Добужинский и их соратники, — но и московские живописцы, которым было тесно на передвижнических выставках, — Серов, Левитан и другие. Дело в том, что передвижники, оставаясь лидерами национальной школы и контролируя в значительной степени художественную жизнь и художественное образование в этот момент, все больше коснели в своей традиции и стремились навязать молодому поколению свое представление о функции искусства и его художественном языке. И выставки «Мира искусства» неслучайно стали своего рода полем битвы между художественным истеблишментом и молодым энергичным поколением. Вот что Владимир Стасов, уже старый лев, над которым было принято посмеиваться, но тем не менее все еще самый влиятельный русский критик, написал о выставке русских и финских художников. На этой выставке, помимо действительно широкого спектра произведений финских мастеров и русских, были такие имена, которые очень трудно было еще увидеть в России: например, Дягилев смог достать для этой выставки панно Михаила Врубеля «Утро», не самую лучшую вещь этого художника, но надо напомнить, что Врубель, который представляет для нас сейчас основу русского искусства рубежа столетий, в это время был художником, что называется, хорошо известным в узких кругах, и появление панно «Утро» на дягилевской выставке — это колоссальная заслуга куратора, гвоздь экспозиции и скандал. Стасов:
«Он [Дягилев] пошел и с великим рвением и усердием наприглашал множество других новоявленных юродствующих художников, кого из русских, кого из финляндцев, все по декадентской части. Из последних особенно отличается… Галлен с безобразными по художеству страшилищами… Рисунки, письмо, колорит, композиция этого художника — чудовищны, хуже наихудших сочинений лубочных рисунков, но… сильно нравятся господину распорядителю, когда он выставил эти картины тоже на самом почетном месте залы, на другом ее конце, прямо против „Утра“ господина Врубеля. Странные вкусы, изумительные фантазии, назначенные помогать водворению и пропагандированию нового дикого искусства!»
Сейчас над этими оценками можно посмеяться, что, в общем, делали и современники. Но надо отдавать себе отчет в том, что конфликт между теми, кто ассоциировал с собой национальную художественную школу, и теми, кто пришел, чтобы сделать эту школу своей, был осознан, артикулирован и открыт.

В 1899 году мирискусникам и Дягилеву удалось организовать в Петербурге первую экспозицию и единственную экспозицию, которая, на мой взгляд, должна была стать моделью дальнейших выставок «Мира искусства». Она называлась Первая международная художественная выставка. Снова в залах музея Штиглица петербургскому зрителю были представлены несколько десятков русских и европейских художников, отражающих срез очень широкого диапазона современного искусства — от импрессионистов до реалистов, от стиля модерн до символизма. Там были французы, немцы, итальянцы, скандинавы, финны. Художники были показаны вперемежку — не было отдельной русской секции и других национальных. Таким образом, современное искусство представляло собой если не монолит, то единство многообразий, и русские художники оказывались участниками этого единства. Эта выставка на самом деле воспроизводила модель самой передовой художественной выставки Европы, которая к тому моменту стала образцом для экспозиции передового искусства.
В 1892 году в Мюнхене произошло важное событие. Мюнхен — одна из европейских художественных столиц — организовывал свою художественную жизнь по той модели, которая была отточена Парижем: большая, регулярная, ежегодная художественная выставка в огромном выставочном пространстве стеклянного дворца, которая включала сотни имен художников и тысячи произведений. На таких выставках выделялось, безусловно, ядро самых авторитетных и успешных художников, столпов национальной художественной школы, и то, что называлось тогда в немецкой критической литературе «художественный пролетариат»: десятки безымянных мастеров, от продажи на выставке зависело их будущее — и очень часто буквально. И вот из этого потока, где очень трудно разглядеть индивидуальность, выделилось несколько десятков художников, которые создали самостоятельную выставочную организацию, известную под названием Сецессион. То есть люди, отделившиеся от основной массы. Привычные к модели авангардистского развития, мы вправе ожидать, что это люди молодые, наглые, пропагандирующие некую неконвенциональную поэтику, новый художественный язык, который сам по себе способен вызвать ярость у представителей художественного истеблишмента и зрителей. На самом деле это не так.
Мюнхенский сецессион — это организация художников относительно молодых, но уже очень успешных, обладающих интернациональной репутацией и признанием на других мировых выставочных площадках, космополитически ориентированная, стремящаяся представить художников как профессиональную группу, обладающую такими же амбициями и правами, как, допустим, инженеры или врачи, и не забывающая о бизнес-составляющей искусства. Мюнхенский сецессион был первой организацией, которая наняла специального менеджера для управления финансами и организации практической стороны выставок. То есть это были молодые, успешные, космополитические профессионалы, которые не хотели тащить на себе груз традиции и той художественной массы, в которой они неизбежно терялись. Сецессион вовсе не был взрывателем условностей или истребителем традиций. Сецессион обладал очень хорошей способностью адаптироваться и дружить с властью. Уже на следующий год Мюнхенский сецессион получил участок для того, чтобы построить здание на одной из центральных улиц города, и это здание само по себе было моделью нового выставочного пространства. Дело в том, что выставки XIX века, как правило, были огромными пространствами, завешенными картинами с пола до потолка, впритык. Сецессионисты были одними из первых, кто обратил внимание на условия экспонирования: картины были развешены с большой дистанцией, что позволяло воспринимать каждую из них отдельно; стены могли тонироваться, чтобы создать гармоническую среду для произведения, выставки украшались цветами — в общем, эстетизировалась сама среда. И именно эту модель, самую передовую на тот момент, Дягилев переносит в Петербург. Собственно, «Мир искусства» и есть наш, русский, Сецессион. Другое дело, что «Мир искусства» постоянно сталкивался с финансовыми сложностями, и потому такая международная выставка осталась, в сущности, единственной. Все остальные выставки «Мира искусства», пока эта организация существовала, были национальными выставками.
С одной стороны, эта выставка была успехом 1899 года. С другой стороны, она спровоцировала значимый конфликт. Владимир Стасов ожидаемо прошелся по ней танком, но в этот раз, помимо обвинений в декадентстве и уродстве, он очень точно заметил несколько обстоятельств, которые маркируют пришествие нового искусства в инонациональную среду. Собственно говоря, эта выставка выявила конфликты, которые станут моделью во всех странах, Россия в данном случае не исключение, и эти конфликты, в общем, продолжаются по сей день. Мы можем спрогнозировать их развитие и даже вычленить риторику, которой будут пользоваться противники современного искусства в борьбе за свои ценности. Две болезненные точки, которые не укрылись от Стасова, были индивидуальный характер формирования экспозиции: Дягилев фактически выступил как первый в России куратор, этот индивидуализм вкуса Стасов как представитель передвижнических ценностей терпеть не мог. Выставка для него была высказыванием коллективным — Дягилев во главу угла положил собственный выбор.
Второе — это вопрос о рынке и ценах. В каталоге Первой международной художественной выставки значились цены на художественные произведения. Это, в общем, само по себе не исключение для экспозиций той поры, но дело в том, что целый ряд произведений с точки зрения русских критиков был вопиюще переоценены, и прежде всего это касалось произведений Эдгара Дега. На этой выставке было восемь картин Дега, восемь картин и пастелей, среди которых

И вот цены на картины Дега были для русского рынка совершенно астрономические. Одна из картин по каталогу была оценена в 40 тысяч рублей, и если это можно счесть странным исключением, то остальные цены — около 10 тысяч, чуть больше, чуть меньше, — все равно были
Именно они стали, в частности, источником конфликта между главой национальной школы Ильей Репиным и мирискусниками. Дягилев, в общем, стремился к тому, чтобы сохранить хорошие отношения и со Стасовым, и с Репиным. Репин хоть и одной картиной, но участвовал в этой экспозиции. Однако вскоре после нее он опубликовал в «Ниве» открытое письмо в редакцию «Мира искусства», которое «Мир искусства» перепечатал с ответом Сергея Дягилева, и это письмо, в сущности, было разрывом отношений между мэтром и молодежью. Одним из центральных пунктов этого письма был вопрос о рыночных отношениях в искусстве:
«Картинные торговцы теперь… всемогущие творцы славы художников — от них всецело зависит в Европе имя и благосостояние живописца. Художник, мало оцененный по своей незначительности, вещи которого за бесценок приобретены давно всемогущим ловким торговцем Дюран-Рюэлем, Дега, полуслепой художник, доживающий в бедности свою жизнь, — и вот теперь божок живописи».
Репин здесь демонстрирует нам один из стереотипов антимодернистского и критического дискурса этой поры, который можно описать как заговор маршанов, то есть заговор картинных торговцев. Те, кто выступает сейчас противником современного искусства, как бы не могут поверить в то, что эта живопись может нравиться, может покупаться, может продвигаться сама по себе. Они видят за ней руку не просто рынка, а заговор людей, которые в экономических интересах навязывают ее европейцам.
Репин, переходя от цен на искусство Дега к оскорбительным, с его точки зрения, замечаниям мирискусников о столпах русской национальной школы, например о Верещагине, формулирует очень серьезную претензию, которая затем будет продолжаться в отношении современной русской живописи вне зависимости от того, это живопись мирискусников или живопись русского авангарда:
«В ваших мудрствованиях об искусстве вы игнорируете русское, вы не признаете существование русской школы, вы не знаете ее, как чужаки России, вечно пережевываете вы европейскую жвачку, достаточно устаревшую там и мало кому интересную у нас».
Здесь речь идет не о том, что Репин проявляет себя как ретроград. В конечном счете его взгляды, давно сформировавшиеся, были достаточно пластичны, и Репин, в общем, предпочитал с молодежью дружить. Здесь дело в том, что через позицию Репина мы видим некий механизм, действующий в такие моменты, когда в устоявшуюся, консервативную национальную художественную традицию внедряется новое явление, внедряется новый художественный язык. Те, кто в свое время представлял художественную молодежь, радикальную, и мы помним симпатию Репина к импрессионистам, сейчас являются ядром художественного истеблишмента, который обвиняет молодежь в коммерческом интересе, шарлатанстве, а себя представляет защитником высокого и чистого национального искусства. Эта модель также будет воспроизводиться довольно долго.
«Мир искусства» — это выставочное объединение, но это одновременно и журнал, журнал, который сыграл колоссальную роль в знакомстве русского культурного общества с современным западным искусством. Мало того что журнал по структуре своей напоминал современные европейские художественные журналы, мало того что он включал литературный и художественный отделы, его диапазон охвата был чрезвычайно широк: и русское искусство, и русская икона, русская деревянная архитектура, русская крестьянская мебель занимали издателей «Мира искусства» не в меньшей степени, чем современные художественные западные явления. «Мир искусства» имел постоянную художественную хронику, в которой знакомил русского читателя с европейским художественным процессом. Эту хронику вело несколько человек. Повторяю, что в это время очень немногие из наших соотечественников имели адекватное представление о том, что творится в мире в художественном отношении, но важна была сама привычка, сама привычка образованного читателя, открывая журнал, знакомиться с тем, что творится в Мюнхене, Париже, Лондоне или Стокгольме. «Мир искусства» поначалу публиковал значительное число переводных статей, причем особенно немецких и австрийских авторов. Мне кажется, что в этом отношении он решал несколько задач, прежде всего компенсируя недостаток компетентных людей в собственной редакции, а с другой стороны — давая русскому читателю такое вот представление. Эти ведь статьи посвящены были в основном социальным проблемам современного искусства, их отношению с публикой, с художественными институциями, проблемам понимания нового художественного языка массой, точнее, образованным обществом, которое ходит на выставки. И здесь было важно показать: смотрите, то, что творится в нашей стране, вот это драматическое непонимание молодого искусства воспитанным на социально ангажированном передвижничестве слоем потребителей художеств — это ведь не только наша проблема, вот так она решается в Европе, и там она практически решена. Это такой своего рода оптимизм авансом, это стремление показать русскому читателю, что, во-первых, это проблемы общие, а во-вторых, они решаемы.
Но постепенно с помощью западных авторов «Мир искусства» начал транслировать изменения собственного вкуса. Люди, вокруг которых это объединение сформировалось, Александр Бенуа и Сергей Дягилев, обладали редким качеством — способностью к развитию. И если Бенуа поначалу очень настороженно воспринимает постимпрессионистов и говорит об импрессионистах в 1899 году как о художниках, которые способны вызвать интерес только у профессионалов, то уже через десятилетие он ставит Гогена рядом с Рафаэлем. Это очень редкое качество. Но что особенно важно — это способность признать истину искусства, которому ты сам не следуешь. Бенуа

Тем не менее именно благодаря журналу «Мир искусства» русский человек впервые смог увидеть, например, репродукцию Ван Гога или натюрморт Сезанна. Причем первое воспроизведение Сезанна — это даже не репродукция с его работы, это репродукции с картины Мориса Дени «Оммаж Сезанну», «Приношение Сезанну», где изображена группа художников «Наби» «Наби» (фр. Nabis от др.-евр. נביא — «пророк», «избранный») — группа художников и движение в постимпрессионизме, которое сформировалось во Франции в конце XIX века. В нее входили Морис Дени, Пьер Боннар и др., почтительно столпившихся вокруг натюрморта Сезанна, стоящего на подрамнике. «Мир искусства» был первым журналом в России, опубликовавшим репродукцию молодого Матисса. Я подозреваю, не была ли это вообще первая публикация репродукции Матисса в мире. Грабарь вспоминает, что в 1904 году он, посещая Европу, в частности, заинтересовался живописью Матисса, попросил у его галериста фотографию, фотографию пришлось специально делать, и сам художник был очень удивлен, что
В 1903 году, незадолго до того, как журнал прекратился из-за отсутствия финансирования, на страницах «Мира искусства» были опубликованы две довольно большие статьи немецкого художественного критика Юлиуса Мейера-Грефе. Юлиус Мейер-Грефе — это человек, благодаря которому немцы научились понимать и любить импрессионистов. Он смог выработать систему ценностей, понятную образованному немецкому человеку, настороженно относящемуся к импрессионизму. И вместе с тем Мейер-Грефе был одним из тех людей, кто превратил современную французскую живопись в достояние человечества. Они попытались доказать, что современная художественная школа становится полноценной тогда, когда она не подражает французскому искусству, а стремится воспроизвести модель этого искусства, а именно — когда любое революционное открытие современной живописи, будь то импрессионизм, живопись Сезанна или Ван Гога, глубоко коренится в художественных проблемах предшествующего развития, когда революция является результатом эволюции, когда традиция является основой новаторства. Эти банальные слова на самом деле описывают очень важную проблему. Мейер-Грефе вызывал ненависть немецких националистов, в частности потому, что он доказывал, что искусство, которое виделось воплощением немецкого национального духа, например живопись Бёклина, изображавшего резвящихся в волнах кентавров или загадочных рыцарей, путешествующих через кипарисовые рощи, это скорее литература, это скорее визуализация национальных фантомов и иллюзий, но не живопись. Живопись же — это то искусство, которое говорит о самом себе, которое репрезентирует реальность только ему свойственными способами. Живопись — это то искусство, где ты получаешь наслаждение не от сообщаемой информации и усваиваемых идей, а от того, что видят и чувствуют твои глаза. В одной из статей, опубликованных на страницах «Мира искусства», сказано: «Надо твердо установить, что Мане есть живопись, а Бёклин — нечто совсем другое». Еще ни один русский критик этой поры не мог себе позволить такого утверждения, которое предполагало, что импрессионизм — это и есть живопись, а то, к чему привыкли люди в разных углах Европы — повествовательный реализм, символизм, мистические и национальные мотивы, — это скорее не живопись, это нечто другое. И вот в этом отношении статьи, напечатанные под самый занавес «Мира искусства», знаменуют начинающийся в русском вкусе поворот. Французское искусство вытесняет теперь космополитическую художественную среду и становится единственным ориентиром для русской молодой живописи.
В 1904 году петербургский журнал «Мир искусства» перестал выходить. На некоторое время русские модернисты утратили печатный орган, который помогал знакомить заинтересованного читателя с тем, что происходило в современном зарубежном художественном мире. Но процесс не остановился. Мирискусники познакомили в своем журнале читающую русскую публику с очень широким спектром имен. Это было поразительное время, когда происходило открытие того, что Грабарь называл абсолютной terra incognita, того огромного мира современной живописи, который в России знали, по признанию того же Грабаря, ну, дюжина-полторы художников — те, кто путешествовал за рубеж, и те, у кого был живой интерес к актуальному, необычному, революционному искусству. Это десятилетие — своего рода десятилетие некрологов. Если мы посмотрим периодику той поры, то очень многие явления современной западной живописи приходят к русскому читателю поначалу как некролог того или иного художника. Первый номер журнала «Мир искусства» в 1898 году открывался стилизованным в духе модерна, в духе ар-нуво объявлением о смерти «великого французского художника» Пьера Пюви де Шаванна. Назвать этого символиста «великим» было само по себе уже дерзостью для русского журналиста.
К концу выхода журнала «Мир искусства» русская публика, в общем, более или менее была осведомлена о том, что творится в современном художественном мире Европы, и началось постепенное выстраивание стержневой линии развития современной живописи, и ключевую роль здесь сыграла Всемирная выставка 1900 года в Париже, «выставка столетия», когда на ретроспективной экспозиции стало понятно, что именно из импрессионизма растет современное искусство и что импрессионизм — столь же великая живопись, как живопись XVI или XVII веков, знакомая каждому европейцу по собранию Лувра. «Мир искусства» не успел опубликовать те фотографии, которые были сделаны в коллекции Сергея Ивановича Щукина. Эти фотографии, эти иллюстрации были изданы в 1905 году в недолго жившем московском журнале «Искусство». Перед тем как они там появились, Игорь Грабарь написал Мстиславу Добужинскому в личном письме:
«„Мир искусства“ снимал в прошлом году массу фотографий из коллекции картин Щукина. Теперь их покупает, кажется, „Искусство“.
Ей-богу, это большее событие, чем все последние политические».
Это письмо датировано 20 февраля 1905 года, и очень просто вспомнить, что последнее политическое событие — это массовый расстрел царскими войсками на петербургских улицах мирной рабочей демонстрации, Кровавое воскресенье, 9 января 1905 года. Это письмо помогает нам понять, чем же для современников были картины импрессионистов и постимпрессионистов в русском контексте. Это был переворот устоявшейся системы ценностей, сопоставимый с тем, что начиналось в России, — с социальной революцией.
Первые годы ХХ века для Европы — это не просто эпоха принятия импрессионизма как канонического искусства, как искусства, равного искусству прошлого. Это время открытия того, что приходит на смену импрессионизму, что вырастает как бы из него и что пока не имеет имени. Мы сейчас называем творчество Сезанна, Гогена, Ван Гога постимпрессионизмом, но в годы, о которых идет речь, этот термин еще не появился. Его придумал английский искусствовед Роджер Фрай в 1910 году, когда ему понадобилось
В 1903 году в Париже открылась новая прогрессивная большая художественная выставка, к этому моменту уже четвертый мегасалон. Он получил название Осеннего, поскольку открывался в октябре и длился месяц. Он был своего рода альтернативой двум огромным официальным салонам — Салону Елисейских Полей и Салону Марсова поля, а также альтернативой всеядному Салону независимых, который был создан в 80-е годы XIX века и куда можно было принести, по сути дела, любую картину и выставить ее там. Жюри там не было, что позволяло, с одной стороны, показывать живопись совершенно непригодную для официальных выставок, а с другой стороны, открывало ворота для огромного количества дилетантов. В этих салонах интересное терялось. Осенний салон должен был, сохранив модель, создать некую площадку, где было бы комфортно современным живописным исканиям. Собственно, эта задача была успешно решена, поскольку, в частности, жюри создавалось участниками Салона, выбиралось из художников, и, кроме того, этот Салон поставил своей задачей не только показать современное искусство, его прогрессивные искания, но и создать очень важную вещь — генеалогию современного искусства. Сейчас, когда мы имеем дело с безбрежным contemporary art, мы почти не сталкиваемся с очень важной проблемой, с которой столкнулось начало ХХ века. Тот абсолютно новый художественный язык, которым заговорила живопись начиная с импрессионизма, должен был быть объяснен и понят — прежде всего той публикой, которая привыкла к классическому искусству, но не была удовлетворена искусством официальным, искусством, которое следовало условностям и стереотипам. Для того чтобы это сделать, был один очень действенный ход — показать, что новая живопись на самом деле укоренена в традиции.
В 1903 году в конце октября в Осеннем салоне была открыта комната, посвященная Гогену — художнику, о котором слышали, которого время от времени видели, сочинения которого, посвященные таитянскому мифу, читали. Это была очень маленькая выставка, восемь картин. Но через несколько дней у Амбруаза Воллара, одного из самых предприимчивых и решительных, смелых дилеров современного искусства, была открыта большая выставка — 50 картин с рисунками и монотипиями. Через год в Осеннем салоне прошла большая ретроспектива Сезанна — 31 полотно. В 1906 году Осенний салон показал большую ретроспективу Гогена — 227 картин из 24 частных коллекций. И вот эти выставки переворачивали представление европейца о современной живописи. Во-первых, они показывали, что радикальные поиски той поры имеют отцов и дедов. А во-вторых, они открывали для широкого зрителя тех художников, про которых люди в основном слышали, но очень мало видели. Это действительно были поворотные годы, когда создавалась мифология великих отцов современной живописи — Сезанна, Гогена и Ван Гога.
Уже тогда стало понятно, что каждый из этих мастеров представляет собой большую проблему. Особенно трудным в России было усвоение Сезанна, как это ни странно, потому что мы знаем, что нет страны, более благодарной Сезанну за художественную науку, чем наша. В общем, нигде, кроме как в России, не сложилось явление, которое мы называем русским сезаннизмом. Но первый подход к весу, первая попытка осознать Сезанна русской критикой была драматичной. Степан Яремич, член мирискуснического движения, приятель Бенуа, в своем отзыве на выставку Сезанна писал:
«Что за ужасный глаз! Как портретист он не пишет своих персонажей, а оплевывает их и бьет по щекам. Невозможно без боли смотреть на искривленные в
каких-то судорогах лица со скошенными глазами и сбитыми черепами. Это коллекция исключительных уродов, грязных и безжизненных, которые собраны и законопачены в банки таким же вялым и без всякой жизнеспособности любителем невозможного».
Игорь Грабарь, который был одним из самых осведомленных в современных художественных поисках русским критиком, признавался в своем разочаровании. Сезанн для него был самым серьезным разочарованием за длительную европейскую поездку 1904 года. Он видел его экспозицию в берлинской галерее Пауля Кассирера:
«Никогда Сезанну не встать рядом не только с такими гигантами, как Моне, Мане и Дега, но и с такими большими мастерами, как Ренуар. Во всем искусстве Сезанна есть одно огромное необычайное достоинство — это его искренность. Искренность — гораздо более редкая гостья в современном искусстве, чем это принято думать. Энергичные натюрморты с суровыми и почти металлическими контурами, бодрыми, не компромиссными, а смело говорящими за себя красками, — в них есть
какая-то откровенная нагота природы, та слегка циническая нагота, которая в тысячу раз милее и драгоценнее ханжеских и лицемерных нарядов, в которых щеголяет ординарное выставочное искусство. И вот, несмотря на все то хорошее, что я наговорил по адресу Сезанна, я все же ушел с его выставки совершенно разочарованным. Я не нашел в ней самого главного — того grand art, большого искусства, перед которым преклоняется столько людей, мнением которых я искренне дорожу. Он интересный, но не великий художник».
Александр Шервашидзе, русский живописец и театральный художник, который также известен под своей абхазской фамилией Чачба — он был потомком последних правителей независимой Абхазии, — человек, укорененный в парижской художественной жизни, проведший десятилетие в столице Франции, был первым, кто попытался создать симпатичный образ Сезанна:
«Между всеми художниками, принимавшими участие в движении живописи последней четверти XIX столетия, Сезанн остался до сих пор наиболее неизвестным, неоцененным и непонятым. Нет колебания, нет сомнения, вся жизнь — долгий труд, посвященный преследованию одной цели, одной химеры: воспроизвести точные впечатления… окружающей жизни. Он не имел учителей, он один, он единственный, и судьба подарила ему величайшее благо, которое можно пожелать каждому выдающемуся человеку, — одиночество».
Шервашидзе постарался объяснить Сезанна единственным возможным в этот момент, как ему кажется, способом — он представил его в образе одинокого романтического гения, человека, одержимого одной задачей — правдивая передача собственного впечатления, и таким образом постарался приблизить его к пониманию читателей. Как бы то ни было, язык этих художников представлял поначалу очень серьезную проблему для понимания, усвоения, оправдания. Но сразу стало понятно, что эти три мастера начинают выполнять примерно ту самую роль, которую импрессионизм выполнял в 1890-е годы: еще не совсем было понятно, про что это, но было ясно, что это разрыв с прошлым и что это свобода.
Очень хорошо показывают, чем искусство постимпрессионистов было для молодых живописцев той поры, письма Кончаловского из Парижа к своему другу Илье Машкову. Для него творчество открываемых там Сезанна, Ван Гога, а потом Матисса знаменовало прежде всего освобождение от условностей и открытие целого мира возможностей, которые были совершенно непредставимы для человека, прошедшего художественную школу с ее неизбежной рутиной, пусть даже в очень мягком варианте Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Вот что пишет Кончаловский из столицы современной живописи:
«Действительно, если Сезанн и Ван Гог показали, что самое ценное в искусстве — сохранение ребяческого чувства, не забитого условностями, созданными долгими веками, если они показали, что освобождение от всех этих традиций есть истинный смысл настоящего искусства, этим одним они открыли для нас целый мир образцов в тех самых фресках, которые теперь перед Вами».
А Машков едет в это время изучать фрески раннего итальянского Возрождения, и здесь очень интересно получается, что для этого поколения нет принципиального различия между тем, что называлось «итальянские примитивы», и живописью Сезанна и Гогена. Собственно говоря, идея простоты как освобождение от условностей, как возвращение к подлинности проступает здесь с особой силой. Это же стержневая идея европейской культуры как минимум с XVIII века, если не дальше. То, что мы воспринимаем как искусство, ориентированное в будущее, или искусство современности, людьми той поры понималось как результат сложного взаимодействия между абсолютно новым художественным языком и традицией, причем традицией максимально глубокой, той традицией, которая очищена от школы, рутины, которая уводит нас к первозданной простоте.
Зачерпнувший французской художественной свободы Кончаловский не разделяет свой опыт художника, приобщающегося к революционной живописи, и человека, борющегося с рутиной русской жизни. Он пишет другу:
«Мое разгоряченное воображение скверно рисует мне мою родину. Я так тоскую, что скоро из меня сделают серого раба, лишь только я перееду границу. Раб начинается в таможне, когда жандарм спросит паспорт. Вы не подумайте, что я затрагиваю наше политическое положение — мы уже далеко двинулись в этом отношении, и скорее не мы, а народ. Но сидит
где-то это тихое рабство. Разве можно в России любить Сезанна или Гогена? Вы должны любить свое, русское, а эти шалости надо бросить. Не буду больше расстраивать Вас и себя, вдохну, что есть здесь светлого и высокого, и постараюсь прибыть с маской презрения на лице — другого выхода нет. И колоссальная выдержка, и колоссальная вера, и любовь должны сопровождать въезжающего в Россию. Надо быть гранитным!»
Напоминаю, что в это время русский человек почти не мог увидеть Гогена. Один Гоген был куплен Михаилом Морозовым, первым русским коллекционером, собиравшим постимпрессионистов, но в целом как феномен он мог быть скорее почувствован, чем узнан. Но уже в ноябре 1905 года Валерий Брюсов в своем журнале «Весы» в статье «Свобода слова» полемизирует не с
«„Свободны ли вы от Вашего буржуазного издателя, господин писатель, от Вашей буржуазной публики, которая требует от Вас порнографии?“ — спрашивает господин Ленин. Я думаю, что на этот вопрос не один
кто-нибудь , а многие твердо и смело ответят: да, мы свободны. Разве Артюр Рембо не писал своих стихов, когда у него не было никакого издателя, ни буржуазного, ни небуржуазного, и никакой публики, которая могла бы потребовать от него порнографии иличего-нибудь другого? И разве не писал Поль Гоген своих картин, которые упорно отвергались разными жюри и не находили себе до самой смерти художника никаких покупателей?»
Есть ощущение, что Брюсов немножечко бравирует этим именем, он демонстрирует свою причастность, свою осведомленность, и можно быть уверенным, что, если Владимир Ильич прочитал ответ Брюсова, имя Гогена осталось для него совершенно пустым звуком. Но это тоже знак того, о чем писал Добужинский: в художественном сознании на фоне политических перемен происходит очень важный концептуальный переворот — новая живопись выстраивает свою иерархию, свою последовательность и выявляет логику развития. Эта живопись, стремительно открываемая в России, как и во всей остальной Европе, узнается сразу. Еще современный историк искусства Марина Бессонова в свое время очень хорошо показала, что русские молодые художники, которых мы еще даже авангардом не можем назвать, усваивали то, что мы сейчас считаем эволюцией современной живописи, растянувшейся на десятилетия, в очень конденсированный период — несколько лет, если не месяцев. Гоген и Сезанн узнавались практически одновременно с Матиссом, и это тоже способствовало особой живописной проблематике и энергии развития молодой русской живописи 1900–10-х годов.
Павел Муратов, который был офицером, уйдя с военной службы, после поездки в Европу вернулся убежденным поклонником современной французской живописи, и в первое десятилетие ХХ века он начал вырастать в самого, одного из самых влиятельных модернистских критиков. Именно ему было суждено подвести итог десятилетию открытий. В одной из своих статей 1907 года он написал:
«Лет семь или восемь тому назад русская живопись переживала хорошее, бодрое время. Тогда, познавая свое, мы широко распахнули дверь навстречу всему, что было новым или, вернее, казалось нам новым на Западе. В широко распахнутую дверь хлынул целый поток всевозможных влияний и в один миг сокрушил бытовую живопись передвижников. Наша живопись уже принадлежит общему потоку живописи всеевропейской. Это, пожалуй, единственное из наших искусств, которое может быть полно воспринято иными культурами… Приобщение к всеевропейской живописи было едва ли не главной причиной подъема, испытанного в конце прошлого столетия. Да и тихое разочарование последних дней дано нам тоже как мера близости и связи с живописным искусством Запада».
Помимо замечательно точно и твердо сформулированного смысла новой открытости русской живописи миру, здесь есть несколько странных для современного читателя утверждений. Во-первых, например, о том, что русская живопись действительно является тем из русских искусств, которые могут быть поняты другими нациями. Мы обычно считаем, что к такого рода искусствам относится у нас великая литература Толстого и Достоевского, музыка Чайковского и Мусоргского и театр. Но русская живопись, с точки зрения современника-наблюдателя, действительно за несколько лет усвоила уроки современной французской живописи и начала разговаривать на языке, адекватном тому, на котором говорили художники Европы этого времени, она не нуждалась в переводе. Второе — это некое разочарование, высказанное человеком 1907 года.
На интернациональных европейских выставках за авангард, за радикальные поиски отвечал в основном пуантилизм, дивизионизм, неоимпрессионизм; то явление, которое было ответвлением импрессионизма, то явление, которое вослед Жоржу Сёра постаралось превратить мир в мозаику из мазков, сделанных чистым цветом, которая собирается в глазу зрителя, что превращает и художника, и зрителя в такую оптическую машину, механизм, некую мечту философов XVIII века. Эта манера живописания была очень привлекательна, очень популярна, очень распространена, но одновременно она утомляла очень быстро. И, если мы почитаем обзоры русских критиков, посвященные французским выставкам начала века, например Дягилева, мы увидим, что Дягилев заговорил очень рано о полупередовом искусстве. То есть речь идет о том, что открытия революционной живописи XIX века тиражируются и превращаются в свою противоположность. Тот же Муратов написал замечательно:
«Французский импрессионизм поразительно быстро приспособился к заурядной, безвкусной салонной живописи. Кто же не пишет теперь светлыми красками и кто не видит окрашенных теней?»
А Шарль Морис, соратник Гогена, французский литератор-символист, прямо говорил:
«Импрессионизм не способен ни к какому развитию. Художник-импрессионист является не человеком, а скорее прекрасным механизмом. Для него существует только окрашенный свет, поглощаемый и отражаемый предметами».
Напомню, что для современника импрессионизм — это вот эти вот красочные мозаики, это не вдохновенные картины Клода Моне или Огюста Ренуара 1870-х годов. Поэтому чуткий наблюдатель вроде Александра Шервашидзе, пишущего в русских журналах, журналах из Парижа, говорит в эти годы: «В Париже готовятся перемены. Что это за перемены — не знает пока никто». На самом деле теперь мы понимаем, что поворотной точкой на пути современной живописи стал Осенний салон 1905 года, когда там в одном из залов были показаны полотна движения, сложившегося вокруг Анри Матисса, известного нам теперь как фовизм, когда на смену дробному мировидению пуантилистов пришел очень цельный колористический взгляд. Собственно говоря, проблема пуантилизма была решена. Мириады точек слились в огромные пятна, и эти пятна не давали отойти, эти картины все еще были результатом диалога художника с природой. Но очень важно, что художник взял на себя активную роль — не просто аналитика, а синтетика. Теперь это был индивидуальный образ природы, исключительно интенсивный и совершенно живописный. Это живопись, которая говорила сама о себе собственным языком. Она не рассказывала историй, она не уносила в символистские запредельные миры. Эта картина была здесь и сейчас, но при этом она открывала колоссальную свободу художника и требовала от зрителя умного соучастия.
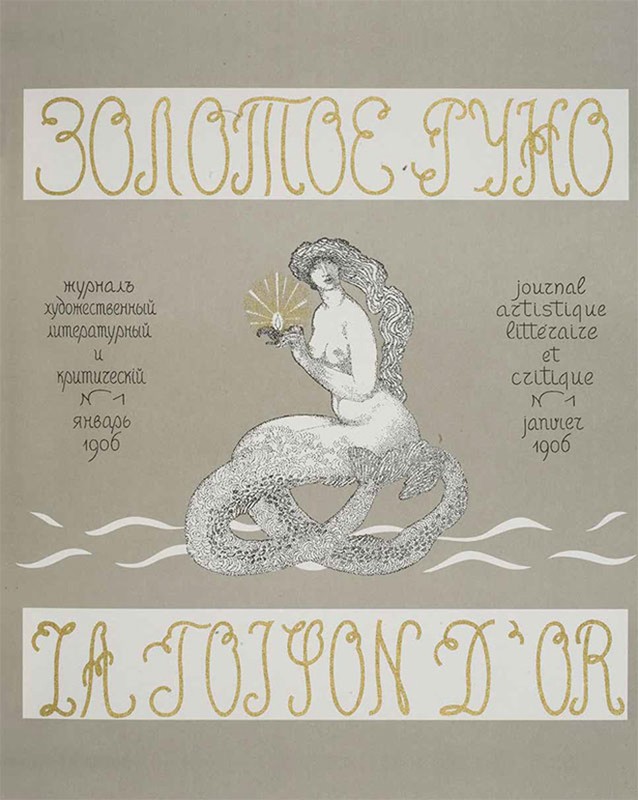
Исключительно важную роль в знакомстве русского художественного мира и русского читателя с современным художественным процессом, в выстраивании системы новых приоритетов, в объяснении русскому человеку, откуда берется современная живопись, сыграл символистский журнал «Золотое руно». Символизм к этому времени, к первому десятилетию ХХ века, стал, по сути дела, авангардом русского литературного и театрального развития. В 1904 году Валерий Брюсов, претендовавший на роль, в сущности, единоличного лидера русского символизма, стал издавать в Москве журнал «Весы». Это был новаторский для России журнал, базирующийся на модели французского литературного издания Mercure de France. Брюсов отошел от любимой русской интеллигенцией модели толстого журнала, который содержит и беллетристику, и статьи о текущем политическом моменте, экономическую аналитику, рецензии на литературу. «Весы» были журналом поджарым, элегантным и космополитическим. Там был колоссальный раздел культурной хроники, писавшийся корреспондентами, которые жили в Париже, как Волошин, в Берлине, в других европейских центрах. В то же время эта претензия на объективность была маской, потому что «Весы» были вопиюще партийным журналом, который отстаивал принципы, именуемые передовой русской критикой, точнее, критикой, разделявшей либеральные и народно-демократические взгляды, декадентством. Брюсов категорически отстаивал абсолютную свободу художника. Это был
«Золотое руно» появилось в конце 1906 года как альтернатива «Весам». Символизм — это была небольшая относительно семья художников, литераторов, театральных деятелей, такие сообщающиеся, переливающиеся сосуды. Как мы понимаем, это история постоянной дружбы, вражды, соревнования и конкуренции. И, наверное, правы те исследователи литературы, которые говорят о том, что в литературном и теоретическом отношении «Золотое руно» находилось в негативной зависимости от журнала Брюсова. Причем там, где Брюсов отстаивал идею абсолютной свободы художника от общества, «Золотое руно» пропагандировало идеи мистического анархизма, реалистического символизма и разработанной Вячеславом Ивановым концепции соборного творчества, которая пыталась примирить интеллигентскую индивидуалистичность и национальные и социальные задачи, стоявшие перед русским обществом. Но в нашем контексте роль «Золотого руна» совершенно исключительна. Это снова роль троянского коня. Символистский журнал пронес в своем брюхе ту живопись, которая на самом деле опровергала символизм. И это непростая и любопытная история.
Художественный отдел «Золотого руна» контролировался сначала молодыми живописцами из группы «Голубая роза», которые видели в художнике Викторе Борисове-Мусатове пример для подражания, которые вдохновлялись его живописью и которые пожалуй что первыми в нашем искусстве окончательно уничтожили связный сюжетный рассказ. Их живописные произведения подражали скорее музыке, чем слову, тому самому совершенному искусству, которое может выражать наши душевные состояния гораздо более истинно, чем вербальные, потому что «мысль изреченная есть ложь», а мысль, почувствованная, услышанная и перелитая в музыку, остается подлинностью. И это, конечно, очень большое искушение для живописи. Но в то же время внутри художественного отдела «Золотого руна» крылась измена, и молодой очень одаренный живописец Михаил Ларионов, один из отцов русского авангарда, именно в среде «Золотого руна» стал тем, кем мы его теперь знаем, — художником, который стремительно от собственного варианта импрессионизма перешел к живописи, вдохновленной Ван Гогом, Гогеном и Сезанном, то есть к тому, что теперь в русском искусствознании называется неопримитивизм.
Этот журнал в своей художественной политике стремился естественным образом отстраниться от «Мира искусства». «Мир искусства» — космополитический, европейский, петербургский журнал — подчеркивал в русском искусстве его западную составляющую. И вот русский художник-символист Василий Милиоти, когда он пытался склонить Александра Николаевича Бенуа, к тому моменту уже не молодого дерзкого критика и искусствоведа, а, в сущности, арбитра вкуса русской живописи и критики, человека, сформировавшего свой авторитет, — когда он пытался склонить Бенуа к сотрудничеству с «Золотым руном», он писал:
«…мы должны идти к самоутверждению вне подражания и слепого поклонения, к национальному выявлению, поглотив нашей ориентально-славянской натурой западную утонченность, вернуться к своей земле, источнику силы, оставаясь самими собой, вырастить цветы общеевропейской культуры; на венециановской почве То есть на почве живописи национальной, народной, живописи Алексея Венецианова., удобренной Западом, прийти к самоутверждению, которое, верю, будет грандиозным откровением. Одним словом, не только „западное“ русское, но и русско-русское нужно вспомнить… В этом вижу я задачу журнала нашего времени».
Нетрудно догадаться, что эта проповедь утонченного интеллигентского почвенничества, вполне логичная после космополитизма «Мира искусства», не встретила большого энтузиазма со стороны Александра Бенуа. И его можно понять, потому что «Золотое руно» поначалу особенно было символом всего того, что претило утонченному петербургскому эстету. «Золотое руно» выглядело вызывающе дорого. Если мы бы могли раскрыть номер этого журнала, мы были бы поражены тем, насколько плотная и одновременно фактурная бумага использована. Там были вальяжно широкие, совершенно ненужные поля, изысканный шрифт, и первые полгода этот журнал с наклеенными иллюстрациями под тонкой папиросной бумагой издавался на двух языках — русском и французском. Это очень интересные амбиции, потому что, если «Мир искусства» транслировал в Россию то, что происходило на Западе, «Золотое руно» пыталось транслировать на Запад то, что происходило в молодом искусстве в России. То, что этот двуязычный журнал продержался только полгода, совершенно понятно: реально спроса на «Золотое руно» в Париже не было. Но сама по себе задача научить европейцев русскому искусству, познакомить их с ним — задача, в общем, очень актуальная, очень показательная. Русские мальчики, как говорил Достоевский, вернут тебе карту звездного неба исправленной. И вот русские мальчики, усвоившие первые уроки импрессионизма, постимпрессионизма и символизма, постарались показать себя на Западе.

Надо сказать, что именно в 1906 году состоялось событие, к которому «Золотое руно» прямого отношения не имело, но которое действительно знаменует первый очень важный и решительный шаг похода на Запад: Сергей Дягилев организовал в Осеннем салоне огромную ретроспективу русской живописи. Собственно говоря, теперь по модели этой ретроспективы строятся все большие выставки русского искусства за границей. Дягилев начал с иконописи, и то, что для нас звучит более чем естественным, для современников было новаторством. Я напомню, что русское интеллигентное общество открывало икону как искусство и как символ национальной идентичности очень постепенно. Для образованного русского человека XIX века икона была частью обихода, она была повсюду, поскольку наша страна была официально православной, это была государственная религия. Но то, что повсюду, то вызывает меньше всего внимания. Кроме того, старые русские иконы записывались, а не расчищались, когда они теряли свой цвет и их нужно было
Вот Дягилев интуитивно ощутил эту целостность русского искусства, начав его генеалогию с иконописи, а дальше он сделал несколько очень важных ударений. В дягилевской концепции русской живописи очень большую роль играл XVIII век, и мы знаем, что Сергей Дягилев действительно сделал огромные усилия для того, чтобы преодолеть то пренебрежительное отношение, которое было воспитано народно-демократической интеллигенцией XIX века к этому аристократическому творчеству, чуждому русскому национальному духу. Дягилев уделял очень большое внимание русской живописи первой половины XIX века и относительно мало показал парижанам передвижников. Зато он развернул очень впечатляющую картину молодых поисков русской живописи, он привез нескольких из этих молодых людей в Париж: Михаил Ларионов, Сергей Судейкин смогли увидеть то, что творится во Франции, в режиме реального времени. Они видели Осенний салон, и я напомню, что именно в этом Осеннем салоне была колоссальная ретроспектива Гогена. Гоген был первым постимпрессионистом, который был довольно адекватно понят русскими художниками. Из всех постимпрессионистов самым чуждым нашей традиции остался Ван Гог с его открытым драматизмом, с его совершенно индивидуалистической взрывной манерой живописи. Наиболее плодотворным оказался Сезанн, но для понимания Сезанна нужна была привычка и нужны были усилия. А вот Гоген оказался русскому человеку, молодому живописцу очень, полагаю, понятным. Он ярок, цветист, экзотичен, поэтому привлекателен. Он содержателен, потому что, в отличие от натюрмортов Сезанна, где драма абсолютно живописная — это отношения между яблоком и кофейником, — у Гогена нам рассказана архетипическая мифология на фоне бесконечно привлекательной утопии Таити. Неслучайно Гончарова потом давала понять, что для того, чтобы в России найти Таити, нужно сесть на пригородный поезд. Гоген действительно оказался очень близок русскому человеку, и здесь совпадение нашей экспозиции с его ретроспективой в Осеннем салоне действительно является тем, что принято называть провиденциальным совпадением.
«Золотое руно» смогло привлечь к сотрудничеству несколько очень важных французских критиков. Это прежде всего Александр Мерсеро, который писал под псевдонимом Эсмер-Вальдор. Это человек, который был одним из центров «Кретейского аббатства» — своего рода коммуны в окрестностях Парижа, которая объединяла таких литераторов, как Жорж Дюамель, Шарль Вильдрак, Жюль Ромен, Рене Аркос и других. Затем Мерсеро был очень важным участником кубистического движения и организовывал выставки Мондриана и Бранкузи. И вот именно Мерсеро, его дружба с теми художниками, которые в эту пору являются участниками, являются членами фовистской фаланги, а затем начнут формировать кубизм, позволило «Золотому руну» выступить организатором нескольких очень важных выставок. Помимо Мерсеро, на страницах «Золотого руна» публиковались статьи Шарля Мориса, это символистский литератор, который был фактически соавтором Гогена в его знаменитой книге «Ноа Ноа», к этому моменту быстро приобретающей статус культовой, поскольку она воплощала драгоценные для европейского человека индустриальной эпохи идеи первобытного эскапизма, побега к естественному человеку в первобытный рай. И третьим важным участником «Золотого руна» с французской стороны был живописец Морис Дени.
Морис Дени был одним из столпов группы «Наби» — движения в постимпрессионизме, которое сформировалось во Франции в конце XIX века и которое нам особенно дорого, потому что «Наби» поставило перед собой проблему не социальной функции искусства впрямую, а проблему функции искусства как терапии. Дело в том, что «Наби» на исходе XIX века постарались решить ту проблему, которая была осознана романтиками в начале XIX века. Эта проблема — нарастающий распад целостности. Искусство XIX века — искусство станковое, а станковая картина производится на рынок, когда художник, в общем, не знает, кто ее купит, а может, не купит и никто. И вот это ощущение ненужности художника от момента непроданной картины до экзистенциальной проблемы художнического одиночества, отчуждения, исключения из прагматичного буржуазного общества, это переживание требовало от искусства решения фундаментальной задачи — возвращения искусства в жизнь. Искусство должно формировать среду. XIX век хорошо помнил, что великое искусство — это искусство стиля, где матерью является архитектура и все искусства встроены в единую модель, в единую систему синергетическую, которая воздействует на человека целостно. И воздействие это, в общем, воспитательное, преобразующее. Из немецкого языка история искусства заимствовала выражение, которое, в общем, используется без перевода — Gesamtkunstwerk, то есть целостное, интегральное произведение искусства, в котором различные художества действуют солидарно, но сверхзадачей является преображение человеческой души и человеческой натуры. И вот «Наби», что
Из того, что писали русские критики журнала и французы, мы можем понять, что задача на самом деле в художественной области перед «Золотым руном» стояла крайне амбициозная. Шарль Морис писал на страницах «Золотого руна»:
«Новые течения французского искусства настоятельно взывают к инициативе поэта. Именно слово всегда должно повелевать хаосом. Пластические искусства после чудных технических открытий, от которых, однако, они погибли бы, оставаясь их зачарованными рабами, нуждаются в порядке, как и само общество. Надо привести в порядок смуту сомнений, надо сделать это, и с избытком богатства».
Критики и теоретики символизма стремятся здесь адаптировать к своим задачам тот художественный язык, который был выработан Гогеном, Сезанном и Ван Гогом. Они стремятся подчинить художественную стихию и художественный механизм, то есть импрессионистическое видение, ненавистное им, потому что они видят в импрессионизме выражение позитивизма, воплощение позитивизма, мироощущения, отрицающего трансцендентность. Вот в творчестве Сезанна, Ван Гога и Гогена импрессионисты прочитывают прежде всего стоящее за этими холстами мистическое содержание. Они пытаются тот абсолютно новаторский живописный язык, который они чувствуют в полотнах этих живописцев, поставить на службу своему мироощущению, своему мировидению. Проблема заключается в том, что развитие современной живописи Европы отрицало этот символистский подход, отрицало вне живописи стоящие задачи. И в этом отношении роль «Золотого руна» действительно парадоксальна. Символистская проповедь, символистское стремление создать целостную иерархию и превратить современный художественный язык в средство выражения универсальных, но не принадлежащих живописи ценностей, столкнулось с интересами молодого художественного поколения, которое все дальше уходило от задач символизма.

Благодаря усилиям русской художественной редакции и связям Александра Мерсеро в 1908 году, 5 апреля, в Москве открылась выставка «Салон „Золотого руна“». И эта выставка была следующим важнейшим шагом в формировании новой картины мирового художественного развития и в приобщении молодой русской живописи к этому развитию после выставки Дягилева в Петербурге в 1899 году. Она включала 250 произведений 14 русских и более чем 50 европейских художников, в основном французов. Среди русских мастеров большая часть принадлежала к символистам, к «Голубой розе», это были Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян, Василий Милиоти, а также будущие лидеры авангарда Михаил Ларионов и Наталия Гончарова. А вот французский отдел представлял собой ретроспективу современной живописи, и в ней достаточно отчетливо прочитывалась импрессионистская составляющая: от Дега и Писсарро к пуантилизму — Синьяк, Тео ван Риссельберг, а затем — символизм, там был очень широкий символистский спектр — от Одилона Редона к Морису Дени. Что не менее важно, может быть, более важно: впервые на этой выставке были публично показаны в России произведения Сезанна, например «Портрет мадам Сезанн в желтом кресле» из Чикагского художественного института, Гогена и Ван Гога.

Ван Гог, например, был представлен совершенно уникальным шедевром «Ночное кафе в Арле», который тогда принадлежал Ивану Абрамовичу Морозову, а с 1933 года — Стивену Кларку, который, купив его во время сталинских распродаж Сталинские распродажи — продажа в 1929—1934 годах картин из коллекции Эрмитажа правительством СССР, которая была предпринята, чтобы пополнить бюджет. Всего из запасников и экспозиций было отобрано 2880 картин и другие ценности; 48 картин были проданы безвозвратно (часть впоследствии возвращена), в частности полотна Яна ван Эйка, Рембрандта, Рафаэля, Тициана, картины из коллекции фламандской и нидерландской живописи. наряду с тремя другими произведениями из московского музея нового западного искусства, затем подарил это полотно музею своего родного Йельского университета (признан нежелательной организацией). Кроме того, эта выставка показывала произведения французского авангарда. Французским авангардом были фовисты, и они были представлены здесь произведениями Матисса (четыре полотна), Брака, Дерена, Ле Фоконье, Метценже, ван Донгена и многих других. Собственно говоря, московский зритель получил очень представительный срез современного искусства, которое одновременно было встроено в историческую последовательность. Это был уникальный случай, когда можно было проследить живописную логику развития от импрессионистов через постимпрессионистов к нашим современникам.
Русская критика отреагировала на эту выставку достаточно разнообразно. Нет смысла приводить комические отклики от журналистов, которые писали о вопиющих поисках французской живописи и комических усилиях русских художников. Правда, можно отметить, что здесь звучал характерный для русской журналистики лейтмотив: французы, конечно, ужасны, они кочевряжатся, но тем не менее делают это гораздо лучше русских, потому что у них хорошая художественная выучка, а у наших и этого нет. Но было еще два существенных мотива, связанных с тем, чтó русский человек увидел на выставке 1908 года. С одной стороны, русские критики, даже очень симпатизирующие современной французской живописи, продолжали повторять, что французское искусство в основе своей прежде всего технично и лишено русской одухотворенности. Как говорил Муратов, «лучшие черты русского искусства — его религиозность, его глубина и его лиризм. Главному нам нельзя научиться и не надо учиться у современного Запада — может быть, сейчас и лучше поберечь себя от той технической пустоты, которая теперь там господствует». Собственно говоря, этот отклик вполне в русле общей политики «Золотого руна», а именно придания смысла изощренной технике постимпрессионистов. Еще один очень важный мотив — это попытка сделать то революционное искусство, которое увидел москвич в 1908 году, понятным образованному читателю. Вот что пишет Игорь Грабарь по поводу постимпрессионистов:
«Недаром деды и отцы новейшего поколения Сезанн и Гоген с Ван Гогом так часто предательски „классичны“. Помню, как, придя однажды на гогеновскую выставку прямо из Лувра, я был поражен близостью того и этого искусства. Хороший Сезанн — почти старый венецианец, и первоклассный Ван Гог недалек от Рембрандта. Его „Ночное кафе“, бывшее на выставке, — потрясающее произведение, могущее стать рядом с великими созданиями прошлого. Этот зелено-оранжевый холст, — может быть, лучшее из всего, что было здесь выставлено, — прямо непостижим своей властной, гипнотизирующей убедительностью».
Русские модернисты, таким образом, выбрали единственную верную стратегию для того, чтобы сделать искусство понятным относительно широкой образованной аудитории: нужно было акцентировать в нем то, что соединяет его с привычными ценностями — ценностями великой европейской живописи, искусства музеев.
Эта модель выставки, которая одновременно показывает современность и представляет родословную этой современности, оказалась исключительно актуальной. Ровно этот самый принцип и положил в основу своей новаторской экспозиции в Лондоне в 1910 году Роджер Фрай. Вторая выставка «Золотого руна», в которой участвовали современные западные художники, прошла через год, в январе и феврале 1909 года. У нее была хорошая публика — около восьми тысяч человек, что для Москвы того времени много. И организаторы ставили своей задачей «ярче осветить особенности развития молодой русской живописи и ее новые задачи… подчеркнуть черты развития, общие русскому и западному искусству… Здесь — преодоление эстетизма и историзма, там — реакция против неоакадемизма, в который выродился импрессионизм». Мы видим снова, что здесь сформулирована символистская повестка дня, однако показ современной французской живописи саму эту повестку опровергал. В этот раз ретроспективного отдела не было. Здесь было 152 картины русских и французских живописцев, десять участников французского отдела были поголовно фовистами. Это были Вламинк, Дерен, ван Донген, Ле Фоконье, Марке и другие. Матисс был представлен относительно невыразительно, потому что в этот момент у него в Берлине проходила персональная экспозиция. Но что особенно интересно — на этой выставке мы впервые увидели явление, опровергающее уже и фовизм.

Жорж Брак выставил несколько картин, среди которых были, в сущности, формулирующие проблематику кубизма, трансформирующие фовистскую красочность и фовистскую плоскостность в трехмерные монохромные объемы, где главной проблемой художника становилась структура, становилась самодовлеющая конструкция произведения, стремительно приближающаяся к тому, чтобы стать независимой от внешней реальности объекта. И наиболее эффектным примером этой тенденции была так называемая «Большая обнаженная» Жоржа Брака, которую типологически можно сопоставить с центральным произведением европейского авангарда начала ХХ века — со знаменитой картиной Пабло Пикассо «Авиньонские девки», которой русский зритель, как и европейский зритель этой поры, видеть практически не мог.

Символистские критики журнала и этот тренд охарактеризовали со своей колокольни. Вот один из них писал:
«Везде выражается это стремление к синтезу, к упрощению, к подчеркиванию типических черт в противоположность импрессионизму. Рисунки Брака похожи на геометрические чертежи. Брак сводит центр картины к нескольким априорно схваченным им комбинациям. Вокруг этой архитектурной схемы и группируются все детали».
Критик очень точно определил задачу Брака, описал впечатление от этой картины, но от него укрылось то обстоятельство, что ни Брак, ни его соратник Пикассо не ставили перед живописью трансцендентных задач. Эта символистская повестка дня развитием европейской живописи, как французской, так и молодой русской, была очень скоро опровергнута. Но роль «Золотого руна» в приобщении русского искусства к мировому художественному процессу от этого меньше не становится.
На рубеже 1900–10-х годов символом новой живописи стало имя Анри Матисса. Это был уникальный момент, когда русские впервые смогли наблюдать эволюцию крупнейшего современного художника практически в реальном времени. Его искусство было представлено в Москве особенно полно и разносторонне. Наше знакомство с Матиссом началось в 1904 году, когда журнал «Мир искусства» благодаря Игорю Грабарю опубликовал репродукцию его ранней картины «Десерт» 1897 года. Тогда же имя художника стало появляться в русской прессе. В 1908 — 1910-х годах его произведения выставлялись на выставках в Москве и других русских городах. В 1908-м салон «Золотого руна» включил его картины «Прическа», «Терраса в Сен-Тропе», «Герань и фрукты», «Насыпь в Коллиуре» в состав впечатляющей экспозиции французской живописи последних 50 лет. Через год четыре картины и несколько рисунков были показаны на следующей выставке «Золотого руна», а в 1910 году два полотна представляли Матисса на так называемом Салоне Издебского — уникальной выставке, организованной одесским скульптором Владимиром Издебским и путешествовавшей по городам Российской империи. Это единственный случай, когда зарубежная современная живопись была показана в нашей стране вне пределов столиц, Москвы и Петербурга.
Путь к русскому читателю Матиссу проложил символистский журнал «Золотое руно». Он опубликовал в 1909 году в шестом номере статью Александра Мерсеро, хорошо знавшего французский художественный мир критика, в сопровождении репродукций 16 картин, в том числе восьми из русских коллекций и трех рисунков, а также перевод только что вышедшей во Франции статьи Анри Матисса «Заметки художника». Надо сказать, что это очень нечастый для Матисса случай, когда он разворачивает практически теоретическое обоснование собственного искусства. Это не свойственно Матиссу. Мы знаем, что значительная часть его высказываний об искусстве содержится в беседах с интервьюерами. Такой вот теоретический текст — это не его жанр. Тем важнее эта статья, тем важнее ее стремительное появление на русском языке. Эта статья была использована символистами для того, чтобы поддержать свое представление о жизнестроительном искусстве, где современный язык должен формулировать традиционные ценности, ценности искусства одухотворенного, искусства глубинной интеллектуальной традиции, искусства, говорящего о трансцендентном. Но на самом деле принципы этой статьи, принципы чистой декоративной живописи, воздействующей прежде всего своим ритмом, цветом, фактурой, то есть воздействующей не интеллектуально, а эмоционально, — эти принципы, в общем, опровергали символистскую тенденцию. Как бы то ни было, «Золотое руно» сделало поразительную вещь. Как потом писал Альфред Барр-младший, один из первых фундаментальных исследователей Матисса, первый директор Нью-Йоркского музея современного искусства, до начала 1920-х годов этот номер «Золотого руна» оставался самой полной публикацией о Матиссе на всех языках мира.
Вместе с картинами Матисса в Россию пришла его репутация — репутация лидера молодого поколения, к которому очень быстро прилипла кличка «фовисты», то есть «дикие звери». Именно так критик, увидевший их зал в Осеннем салоне, обозвал это новое движение, поскольку живопись их была исключительно яркой, с точки зрения изысканного символистского вкуса грубой, энергичной и требовала внимания, поглощенности от зрителя. Это живопись, которая совершенно
Имя Матисса довольно быстро стало нарицательным. Причем первоначально оно идет в связке с Гогеном. Выражение «Гоген и Матисс» для русской прессы конца 1900-х — начала 1910 годов — это совершенно неизбежная связка, и она скорее характеризует общее представление о тенденциях современной живописи, чем творческую личность. Немалый вклад в популярность этой связки внес, например, Илья Ефимович Репин, который весной 1910 года, увидев выставку молодого Петрова-Водкина, сказал:
«Этому безграмотному рабу случилось увидеть двух сбитых парижской рекламой нахальных недоучек, Гогена и Матисса. Невежественный раб смекнул, что и он так сможет намалевать».
Справедливости ради надо сказать, что Петров-Водкин действительно кое-чему научился у Матисса, но произошло это несколько позднее, и для Репина в этот момент имена Гогена и Матисса были просто ярлыками, которые характеризовали совершенно бесшабашную свободу, наглую, вызывающую, разрушающую ценности живописи, а вовсе не строящую традицию. Это заявление главы национальной школы вызвало яростный отпор русских художников-модернистов Бенуа и Бакста, а затем эхом этого краткосрочного, но громкого скандала стала полемика по поводу выставки 1910 года, когда Владимир Издебский привез в Петербург свой огромный Салон.
На самом деле Салон Издебского — это очень интересное предприятие: две выставки, которые позволили русской периферии увидеть современную европейскую живопись в очень разных ее проявлениях, от вполне салонных вещей до фовизма. Второй Салон Издебского позволил Василию Кандинскому провести в России, в сущности, первую персональную выставку с десятками произведений и публикацией теоретических текстов. Но вот для петербургского зрителя и читателя он запомнился скандалом, который развернулся в мае 1910 года, потому что Илья Ефимович Репин зашел на эту выставку, и журналисты, окружавшие его, предали его реакцию гласности, да и сам Илья Ефимович выступил в печати, сказав, что современная живопись производит на него впечатление «Саврасов без узды», что эта живопись поддерживается духом наживы и что если раньше московские купцы чудили и, например, за большие деньги покупали ученую свинью в цирке и съедали, то теперь проявлением этого московского купечества является коллекционирование Матиссов.

На самом деле на выставке Издебского было два полотна Матисса, одно из которых — портрет сына, известный под названием «Молодой моряк», — сейчас находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. И для серьезного наблюдателя это, конечно, была большая проблема, потому что Матисс показывал, насколько он произвольно обращается с реальностью, с формой и цветом, с другой стороны принося в жертву детали и правдоподобие, он создает исключительно властный образ, который просто лишает художника, увидевшего подобное произведение, возможности работать
Естественно, что Матисс становился героем скандалов, но на самом деле его участие в художественной жизни России действительно исключительно плодотворно и многообразно. Московские чудящие купцы, в которых метил разъярившийся патриарх русской школы, на самом деле существовали. Дело в том, что именно благодаря Сергею Ивановичу Щукину и Ивану Абрамовичу Морозову Россия обладает сейчас совершенно уникальной коллекцией раннего Матисса. Сергей Щукин купил 37 живописных произведений Матисса, Морозов купил 11, и еще некоторые вещи принадлежали другим русским собирателям. Среди этих вещей центральное место занимают два панно, заказанных Сергеем Ивановичем Щукиным в 1909 году. Это панно «Музыка» и «Танец», которые для самого Матисса были, очевидно, художественной декларацией. С 1908–1909 годов Матисс движется к исключительной колористической простоте, к вопиющему лаконизму, когда все богатство, вся изощренность колорита редуцируются к нескольким простым цветам, которые почти монохромно, монотонно заливают огромные плоскости. Результатом этого проекта, этого заказа являются два огромных полотна — «Музыка» и «Танец», которые сейчас хранятся в Эрмитаже в Петербурге, но изначально они были написаны для особняка Сергея Ивановича Щукина в Москве.
В начале 1909 года Щукин заказал Матиссу панно для лестницы своего особняка. В апреле Матисс изложил в интервью Шарлю Этьенну идею трехчастного ансамбля, который регулирует эмоции человека, поднимающегося по лестнице. Русский читатель узнал об этом проекте из статей Александра Мерсеро и затем Александра Бенуа. В конечном счете Матисс отказался от идеи трехчастного ансамбля, и композиция свелась к двум панно, очень противоположным. «Танец» — это безудержный вихреобразный хоровод женщин, несущийся как бы за пределы этого огромного пространства, синего, зеленого, телесного, где контур играет очень важную роль, и контур этот напоминает, если угодно, удар резца первобытного художника. И вторая вещь, «Музыка», где женский мир сменен стабильным мужским и фигуры эти расставлены словно ноты на нотном стане. Это вопиюще выразительный контраст между динамикой и статикой, между танцем как выбросом стихийной энергии. Матисс очень любил «Танец», и мы довольно много знаем о возможной идеологии этого произведения, но нам сейчас важна не семантика, а чисто формальный язык, элементарно простой, предельно радикальный, сводящий все разнообразие живописи и ее средств к первобытным началам и одновременно исключительно культурный.

Когда Матисс закончил эти произведения в 1910 году, он выставил их в Осеннем салоне. Сергей Щукин приехал туда посмотреть. Это был провал: ни один критик, за исключением Гийома Аполлинера, не признал произведения Матисса успехом. Шарль Морис говорил, что эта живопись передает ничто. Сергей Иванович Щукин дал слабину — он уехал домой, отказавшись забирать свои произведения. Дорога до Москвы занимала двое суток, и, вернувшись домой, он послал Матиссу телеграмму, в которой он извинялся за свою слабость и говорил, что он заберет эти вещи и повесит их в своем доме. 20 декабря он написал Матиссу:
«…в целом я нахожу панно интересными и надеюсь однажды их полюбить. Я полностью Вам доверяю. <…> Из-за Вас надо мной понемногу издеваются. Говорят, что я причиняю вред России и русской молодежи, покупая Ваши картины».
Что это было? На самом деле Матисс создал вещь парадоксальную, очень сильно действующую до сих пор энергией ритма, лаконизмом образного решения. Но эти абсолютно авангардные качества полотен прямо связаны с тем, что они представляют собой монументально-декоративное панно. Здесь нам снова придется вернуться к тому, что несколько презираемая после торжества contemporary art прикладная функция живописи для поколения 1910 года была исключительно важна. Станковая живопись олицетворяла отчуждение современного человека. Гоген стремился вырваться за пределы этого отчуждения, сбежав на Таити и создавая произведения, которые говорили о тоске художника по монументальным росписям, и это очень хорошо понимали проницательные современники — от французского поэта Орье до русского критика Тугендхольда. И именно Матисс постарался примирить традиционалистское требование ансамбля с абсолютно современным, радикальным образным решением, с упрощением живописного языка. От произведений членов группы французских живописцев «Наби», чьи изысканные декорации украшали квартиры французских буржуа или особняки французской аристократии, его отличает предельная, первобытная простота, но на самом деле он успешно решает ту же самую задачу. Он создает декоративный ансамбль, который воздействует на человека эмоционально. Неслучайно в одном из первых разговоров о проекте он упомянул, что этот ансамбль должен регулировать эмоции человека, поднимающегося по лестнице.

Если мы обратимся к запискам, к «Заметкам художника», опубликованным «Золотым руном», то мы найдем там много тонких рассуждений о природе и задаче живописи и встретим там пассаж, который Матиссу припоминали очень долго, — пассаж, который как бы говорит о гедонистической функции его искусства. Матисс — художник праздничный, Матисс — художник, не боящийся быть изысканно красивым, и, конечно, это то, что эпохе, одержимой идеями справедливости и простоты, в общем, может претить. Ведь неслучайно потом Мандельштам, очень тонко чувствовавший французскую живопись, признавался, что не люб ему Матисс, «живописец богачей». Я думаю, что в мандельштамовской оценке речь идет не только о том, что миллионер Щукин покупал Матисса для себя, но и о той роскоши живописи, которая невооруженным глазом видна на его полотнах. Так вот, если мы обратимся к «Заметкам художника», мы найдем там замечательный фрагмент:
«…Но о чем я мечтаю больше всего — это об искусстве равновесия, чистоты, спокойствия, без сюжетов сложных и мятежных, которые были бы неизменно хороши как для интеллигентного работника, так и для делового человека и писателя: смягчая и успокаивая мозг, они будут аналогичны тому хорошему креслу, которое дает ему отдых от физической усталости».
На самом деле Матисс ведь говорит здесь об одной из первозданных функций искусства, которая и реализуется целостным, интегральным живописным ансамблем. Это практически физическое, физиологическое воздействие, вносящее гармонию в человеческую жизнь не на символическом уровне содержания, а на физиологическом, волновом. И вот эту задачу, похоже, щукинские полотна таки решили. То, что мы видим сейчас в Эрмитаже, в Главном штабе, — это очень хорошая экспозиция Матисса. Но что она не может решить по определению — она не может воссоздать оригинальный контекст, оригинальное расположение этих вещей. Это то, что сейчас, в общем, называется site-specific art — искусство, сделанное для определенного, конкретного места. Щукин разместил эти полотна на лестнице своего особняка. Собственно говоря, это именно панно, то есть вещи, украшающие стену, подчеркивающие стену, подчеркивающие плоскость стены и акцентирующие декоративные, орнаментальные, музыкальные качества, то есть то, что апеллирует к человеческому восприятию помимо сознания. Они располагались под прямым углом, так что их контраст ощущался, одновременно они воспринимались в динамике человека, который поднимался по лестнице. И Щукин, как мы знаем из воспоминаний современника, говорил буквально то же, что говорил Матисс: «Они помогают мне взбираться по лестнице».
Матисс, таким образом, оказался участником очень важной полемики, которая разворачивалась около 1910 года в России. Дело в том, что набравшее силу к этому моменту движение, выросшее из «Мира искусства», — художники и критики, сплотившиеся вокруг петербургского журнала «Аполлон», которых мы можем назвать русскими модернистами в противовес русским авангардистам, которые тоже в этот момент выходят на авансцену, — стремились перестроить русскую национальную живописную традицию, объединяя новаторство и историю. Они исходили из того, что русская живопись лишена того, что было в великом искусстве прошлого Европы, а именно — целостного стиля. Таким стилем могло быть барокко, таким стилем могла быть готика. Как бы то ни было, такого стиля у нас не было. Та национальная школа станет полноценной, которая выработает свой стиль, а этот стиль объединяет различные художества, объединяет их для того, чтобы они действовали солидарно, для того, чтобы они преображали человека. И в этом контексте проблема монументально-декоративной росписи, возрождающей то искусство, которое в принципе обращается к массам, которое преобразует человека, организует среду, приобретала колоссальный смысл. И Матисс предлагал радикальное, революционное решение, основанное на тотальном опрощении. Очень большое искушение, проблема для русского зрителя.
«Танец» и «Музыка» — это в определенном смысле манифесты. Это указание того пути, по которому идет Матисс, и, поскольку в этот момент, в 1910 году, именно Матисс является символом современной живописи, это, в общем, маяк для современного художественного развития, это движение к изысканной простоте. Понятно, что подобного рода вещи — проблема для любой традиции. В частности, для русского художественного мира, который сохраняет свою традиционность и консервативность. Отзывы на Матисса в русской художественной среде полярны. Станислав Жуковский, художник, специализировавшийся на почти импрессионистических пейзажах и интерьерах дворянских гнезд, считал, что «мечтательному и спокойному славянину непонятен и не сродни красочник Матисс». Серов, видевший «Танец» и «Музыку», говорил, что Матисс — это просто яркий фонарь. Но, с другой стороны, он однажды сказал, что, хотя Матисс не дает ему радости, все остальное делается
К 1911 году Матисс стал главным художником для Щукина, и более чем естественно, что собиратель пригласил мастера в гости для того, чтобы реорганизовать экспозицию его картин в особняке, а к этому моменту Щукин, завещавший свое собрание городу, уже сделал его открытым для публики. С этим приглашением связана, в общем, уникальная для России ситуация, когда лидер современной ведущей художественной школы приезжает в нашу страну.
В октябре 1911 года Матисс прибыл в Москву, и этот визит стал событием для художественного сообщества. Матисс стал героем светской хроники — его приглашали в клубы, в театры, в галереи, на обеды. Надо сказать, что он держался стоически, ему, кажется, нравилось. В одной из открыток своему другу он написал, что Москва — это такой фовистский город, дикий город; московское гостеприимство явно было в лучших своих традициях. Реэкспозиция коллекции Щукина действительно, по свидетельству современников, была исключительно удачна. Щукинский особняк — это был первоначально дворец Трубецких, декорированный в XIX веке в стиле второго рококо, и вот этот вот интерьер, с одной стороны с несколько избыточной лепниной, а с другой стороны — с окрашенными стенами, оказался очень удобной красивой коробкой, красивым контекстом для ярких современных картин Матисса. Вместе с тем Матисс познакомился с московской художественной жизнью и московскими музеями. Известно, что от Третьяковской галереи он не пришел в большой восторг, но вот что его действительно вдохновило — это собрание русских икон. Я напомню, что именно в это время русские иконы, прежде всего усилиями собирателей-староверов, таких как Рябушинские, начинают становиться фактором художественного развития. Их расчищают, их постепенно выставляют, они уже есть в Третьяковской галерее, их собирают частные коллекционеры, такие как Илья Остроухов. И Матисс в галерее Остроухова видит эти вещи, приходит от них в восторг и в нескольких интервью говорит, в частности, что из-за этих икон стоило ему приехать и из более далекого города, чем Париж, и что эти иконы выше теперь для него, чем Фра Беато Анджелико — один из самых утонченных, изысканных, простодушных и популярных в конце XIX — начале ХХ века художников флорентийского раннего Ренессанса. Я полагаю, что этот восторженный отзыв о русском национальном искусстве также ложится в копилку вот того процесса переоценки нашего средневекового наследия, который состоялся перед революцией, когда мы восприняли иконопись как искусство, равное по качеству, если не превосходящее искусство Нового времени, искусство, ставящее нашу национальную традицию в ряд со всеми остальными европейскими школами, которые насчитывают столетия своей истории.
Александр Бенуа, когда он смог познакомиться с «Танцем» и «Музыкой» в особняке Щукина, написал длинный текст, в котором он, с одной стороны, вознес хвалу мужеству собирателя и его способности доверять тому художнику, которого он однажды полюбил, а с другой стороны, приговорил художественное решение Матисса. Он понял, о чем Матисс, и эта тенденция его не очень устроила. С другой стороны, Бенуа попытался найти в этой живописи то, что, возможно, потенциально способно оживить русское искусство.
«Нет, это действительно несчастные картины, это действительно две ужасные неудачи, но я верю в их честность, будучи совершенно при этом убежден в исключительной, перворазрядной одаренности их автора. <…> Матисс отверг подобный успех — его
по-прежнему поглощает проблема, возникшая еще в творчестве Пюви де Шаванна, нашедшая… выражение в картинах Гогена… но остающаяся до сих пор без решения, — проблема новой стенописи, новой декоративной живописи, не живописи для тонких ценителей… не виртуозной, а прекрасной, цельной, радующей и поднимающей душу, воздействующей одним бегом и ритмом сплетающихся линий и одним звоном красок. <…>…От Джотто он устремляется назад, в темную глубь варварства, надеясь найти там то, что недостает современному искусству — здоровье, искренность, непосредственность, детскость. „Будьте как дети“ — помнит он священнейший из заветов».
Хотя Бенуа был человеком не мистическим, а евангельский словарь — это часть литературного опыта образованного человека, тем не менее тот факт, что Бенуа применяет слова Иисуса Христа к Матиссу, в общем, тоже должен быть принят во внимание. Русский человек этого времени очень серьезно разговаривает о современной французской живописи, потому что этот разговор на самом деле разговор о будущем искусства русского. Бенуа продолжает:
«И вот
тут-то и начинается трагедия. Можно еще, пожалуй, „научиться совершенству“, подражая совершенным, но нельзя „научиться тому, чтобы разучиться“. Многое можно накопить и собрать в своей памяти, но гораздо труднее забыть. Наконец, еще труднее, забыв все… уже от себя, собственным опытом найти. <…> Матисс дает огромный урок честности. <…> И добровольно подошел к тому, что ему было уготовано судьбой, к позорному столбу, к которому он привязан нагий и жалкий — на всеобщее посмешище».
Но совсем за упокой Бенуа не дает закончить его понимание того, что Матисс — это проблема, и это проблема, актуализирующая то, что творится в русской живописи, указывающая русской живописи на возможные пути решения стоящих перед ней задач:
«Когда вспомнишь, сколько сырого, провинциального, дикого в нашем художестве, то пугаешься и начинаешь разделять общую тревогу: как бы парижский пример не сбил окончательно с толку наше художественное юношество, столь малокультурное. Но сейчас же является и надежда: а вдруг именно эта сырость, эта простота, которую хочет насильно приобрести Матисс и которая сама собой уже имеется у нас, — вдруг именно эти наши национальные черты и спасут нас, создадут у нас то желанное детское настроение, из которого должна возникнуть новая эра искусства».
Эти слова Бенуа были опубликованы газетой «Речь» в феврале 1911 года. За несколько месяцев до появления этой статьи в Москве произошло событие, которое сделало финальный аккорд эссе Бенуа особенно значимым. Дело в том, что Бенуа, по сути дела, говорит об обозначившейся тенденции развития современной русской живописи, которая идет в русле происходящего с мировым искусством. Это тенденция к экспрессивному упрощению художественных средств, к форсированию элементарной живописной выразительности, к тому, чтобы убрать литературное содержание, усилить эмоциональное и дать художнику максимальную свободу претворения впечатления от действительности, а таким образом — свободу выражения. На этом пути есть несколько мин, в частности вангоговская опасность. То, что Ван Гог может вынести благодаря поразительному живописному дару, который выдерживает исключительный напор его экзистенции, его психики. Картины Ван Гога — это история болезни, это дневник его душевных состояний и в то же время дневник, фантастически убедительный в живописном отношении. Эта опасность Ван Гога маячит перед художниками, идущим по экспрессионистическому пути, — перед фовистами, перед немецкими экспрессионистами и перед русскими мастерами, которые вот-вот обретут имя неопримитивистов.
На самом деле Бенуа, конечно, описывает то, что уже творится на русских выставках. Декабрь 1910 года — это начало русского авангарда, когда русский авангард перестает искать прибежище на выставках чужой эстетической программы. В Москве открывается выставка под эпатажным названием «Бубновый валет». Это выставка, которая собрала молодое поколение — Михаила Ларионова, Наталью Гончарову, Кончаловского, Машкова и тех художников, которых мы сейчас знаем как бубнововалетцев. Это был краткий период единства поколения, разрушившегося очень быстро, потому что два медведя в одной берлоге не живут. Михаил Ларионов был одним из этих двух медведей. Он ушел, критикуя своих соратников за излишнюю приверженность реализму, а художники, которых мы знаем как художников «Бубнового валета», действительно не мыслили себя без натурного мотива. Но это еще и была борьба, безусловно, за лидерство в русском авангарде. Но вот этот краткий миг единства, он позволяет понять, насколько русские художники, с одной стороны, восприняли идеи и наследие новой французской живописи и насколько они постарались в самом начале остаться самостоятельными.

Лучше всего, мне кажется, о их разумении проблемы говорит манифест «Бубнового валета». Этот манифест несловесный. «Бубновый валет» вообще организация живописцев, ребят не очень разговорчивых, и образ «Бубнового валета» формируется в русской традиции поначалу скорее оппонентами этого течения и критиками, которые подчеркивают то, что им кажется недостатками, а сами художники, как правило, остаются молчаливыми — они относительно мало публикуют текстов. Но лучше всего об интенциях этого поколения, напрямую связанных с проблемами, поставленными Матиссом, говорит живописный манифест. Мы знаем, что перед самым открытием выставки «Бубновый валет» беспокоящее Ларионова пустое место на стене было занято огромным холстом, который написал Илья Машков. Это его автопортрет с Кончаловским — картина, сейчас хранящаяся в Русском музее, огромных размеров, и, конечно, каждый, кто входил на эту выставку, не мог не зависнуть перед этим огромным бурым, темным полотном, написанным словно помелом, потому что грубой живопись там была

Но меня интересуют в данном случае несколько точек в этом портрете, начиная от стиля: брутальная живопись, совершенно не скрывающая того, что это намазано, а не написано; это пианино слева, которое на самом деле цитата — это отсылка к ранней сезанновской картине из собрания Морозова «Увертюра к „Тангейзеру“», там слева стоит черное пианино, на котором играет девушка, а в центре картины — диван, на котором восседает женщина, очевидно, с вязанием. И вот, собственно говоря, этот диван оккупировали сейчас эти два бодрых мужика. Справа — натюрморт, который написан, с одной стороны, в той же гамме, в которой исполнена «Увертюра к „Тангейзеру“», а с другой стороны, напоминает то, что вытворял Матисс около 1909 года, в частности на картинах, которые принадлежали Щукину, например «Красной комнате». Это натюрморт, сведенный к орнаменту, это даже не объем предметов, а это просто силуэты предметов, контуры предметов, где важно не то, что изображен чайник или вазочка, а вот тот мощный орнаментальный аккорд, который они представляют. Справа — это фовистский натюрморт, переписанный одичавшим москвичом. Ну и, наконец, полка с книгами, которая на самом деле, мне кажется, представляет собой, конечно, игру, потому что там стоят увесистые тома: Джотто, Сезанн (ни одной монографии о Сезанне в это время еще, как мне кажется, не существует), искусство, Египет, Греция, «Италия» — написано на одном корешке, ну и, наконец, Библия. Если мы эти тома переставим в другом порядке, мы получим манифест: Египет, Греция, Италия, Джотто, Сезанн, Библия, искусство. И тут мы оказываемся с очень четко артикулированной проблематикой радикального искусства этого времени. Причем векторы обозначены очень хорошо: Сезанн действительно знак современности, а Джотто и Египет — знак традиции. Это действительно неопримитивизм, это обращение к простоте, к первозданности, минуя классическую традицию, но с опорой на живопись постимпрессионистов. И собственно говоря, вот здесь мы и получаем ту проблему, которая вырастает перед Бенуа и его соратниками, потому что, как кажется, Матисс пришел в Россию через вот этих вот ребят — через Ларионова, через Гончарову, через Машкова и Кончаловского, но он пришел не таким, каким хотят его видеть утонченные модернистские критики, потому что, по их мнению, эта братия просто обезьянничает, она просто подражает Матиссу, а у русской живописи такие слабые традиции и такая слабая школа, что подражание утонченному, изощренному парижанину Матиссу очень опасно для молодого русского поколения. И здесь окажется очень скоро, что оптимистический Бенуа, связывающий надежды на преображение русской живописи с ее простотой и первозданностью, с ее сыростью, очень скоро уступит место осторожному Бенуа, который будет говорить: не увлекайтесь Матиссом, ребята, вы слишком доверяет своей утробе; обратите внимание, что Матисс пишет несколько десятков картин в год, а вы сотнями работаете; учитесь и забудьте о том, что вы можете делать как Матисс. Это будет лейтмотив модернистской критики, которая осознает, что молодое поколение больше не хочет учиться у нее и прислушиваться к осторожным советам брать в расчет французский опыт, но сначала пройти художественную школу традиции. Возникает главный конфликт русского искусства 1910-х годов — модернизма и авангарда.
Гвоздем выставочной жизни Парижа в конце 2016 и в начале 2017 года была выставка в Фонде Louis Vuitton коллекции Сергея Ивановича Щукина. Это было действительно событие, на которое собрался весь город: люди приезжали из Соединенных Штатов. И можно с сожалением сказать, что Париж сделал то, что должна была сделать Россия, — показать коллекцию великого русского собирателя максимально полно и так, чтобы было понятно, какую роль она сыграла для развития отечественного искусства. Но, утешая себя, скажем, что и в лице Сергея Ивановича Щукина Россия в свое время сделала то, что должен был сделать Париж. Именно Сергей Иванович и его товарищ Иван Абрамович Морозов, создавший другую крупнейшую коллекцию французской живописи в Москве, приобрели те произведения современной французской живописи, без которых уже невозможно представить себе историю искусства ХХ века.
Во второй половине XIX — начале ХХ столетий частное собирательство в России переживало расцвет. Главную роль в этом процессе играла динамично развивающаяся буржуазия, прежде всего московская. Для нее собирательство постепенно становилось патриотической миссией, примером которой служил Павел Михайлович Третьяков, сформировавший музей национального искусства. Но зарубежному искусству XIX века в России не очень повезло: не так много наших соотечественников собирали его. Исключением здесь был Александр Кушелёв-Безбородко — петербургский аристократ, собравший хорошую коллекцию французских реалистов первой половины XIX века, имевший даже Делакруа. Но это скорее исключение, которое подтверждает правило. Западное искусство XIX века до сих пор представлено в собраниях Петербурга и Москвы фрагментарно. К 1917 году не более дюжины москвичей и петербуржцев обладали произведениями современной французской живописи, и большая часть этих собраний не была доступна публике. Даже в собственной среде эти люди были скорее исключением. В собирательстве современной западной живописи публика видела крайнюю степень экстравагантности знаменитых своими причудами московских купцов. И характерно, что если бы мы говорили сейчас о западных собирателях, то в критическом отношении к ним доминировал бы мотив спекуляции: эти вещи покупаются для того, чтобы затем их с выгодой продать. А относительно московских купцов злые языки говорили, что Щукин тронулся. И сам Щукин, мы знаем по воспоминаниям, не без гордости показывал новоприобретенного Гогена, говоря собеседнику: «Сумасшедший писал — сумасшедший купил». Это тоже характерный мотив — это скорее мотив растраты денег на непонятные вещи, а не спекуляция.
В сущности, в Москве в начале ХХ века было четыре человека, которые имели достаточно смелости, чтобы покупать непривычную западную живопись. Эти четыре человека принадлежали к двум предпринимательским семьям — Морозовым и Щукиным. Из этих четверых двое сошли со сцены — Михаил Абрамович Морозов скончался 33 лет от роду, и его собрание по воле вдовы перешло в Третьяковскую галерею, где москвичи уже могли видеть произведения французских реалистов из коллекции Сергея Михайловича Третьякова. А Петр, старший из двух братьев, в

Итак, московское собирательство современного французского искусства — это прежде всего два человека: Сергей Иванович Щукин и Иван Абрамович Морозов. Они собрали совершенно уникальные по объему и качеству коллекции того искусства, которое было совершенно непривычно большинству из посетителей московских музеев. Их роль была у нас тем более велика, что в отличие от Германии или даже Франции в России не было частных галерей, которые продвигали на рынок современное искусство, тем более искусство зарубежное. И, если Щукину и Морозову хотелось купить новую картину, они не могли обратиться к петербургскому или московскому дилеру, они не ехали даже в Берлин — они отправлялись прямо в Париж. Более того, в русском художественном пространстве не было и музея, который отважился бы выставить современную радикальную живопись. Если парижанин уже с 1897 года мог посмотреть на импрессионистов в Люксембургском музее в коллекции Гюстава Кайботта; если в 1905 году музей Атенеум в Гельсингфорсе (Хельсинки) отважился купить Ван Гога, и это был первый Ван Гог в публичных собраниях в мире; если Гуго фон Чуди, хранитель Национальной галереи в Берлине, в 1908 году был вынужден уйти в отставку под давлением самого германского императора за то, что он покупал новую французскую живопись, — то ни один из русских государственных или общественных музеев не отваживался показывать эти картины. Первое место, где в публичном пространстве можно было увидеть импрессионистов в нашей стране, — это личный музей Петра Щукина, открытый в 1905 году В 1905 году Щукин передал свою коллекцию Историческому музею, которая составила целое отделение под названием «Отделение Императорского Российского Исторического музея имени императора Александра III. Музей П. И. Щукина». Частный же музей работал с 1895 года.. Но главное — что роль музея на себя приняла коллекция Сергея Щукина, которую он с 1909 года сделал публичной: по выходным ее можно было посетить, иногда даже в сопровождении самого Сергея Ивановича. И мемуаристы оставили впечатляющее описание этих экскурсий.
Щукин и Морозов были два человека, принадлежащие к одному и тому же кругу — это староверы, то есть это очень ответственная, морально прочная русская буржуазия, которые в то же время были настолько дерзкими, чтобы приобретать искусство, не имеющее стабильной репутации. В этом отношении они схожи. Схожи и списки имен, которые составили их коллекцию. В сущности, они собирали практически один и тот же ряд мастеров. Но вот здесь начинаются различия, различия фундаментальные, очень важные, определяющие для русского художественного процесса.
Братья Щукины сделали первые приобретения в самом конце XIX столетия: в 1898 году они купили полотна Писсарро и Моне. Тогда в Париже жил, прожигал жизнь и собирал свою коллекцию их младший брат Иван Щукин, который также печатался в русских журналах под псевдонимом Жан Броше, Жан Щука. И это был такой мостик для московских собирателей в Париж. Настоящая щукинская коллекция началась с импрессионистов, но, как очень хорошо показала выставка Louis Vuitton, на самом деле Щукин собирал очень многое, собирал пеструю картину современной западной живописи, но с момента приобретения импрессионистов он постепенно свой вкус сузил и сосредоточился именно на них. Дальше его коллекционирование напоминало взлет советской космической ракеты, которая отстреливает новую ступень, поднимаясь вверх. Он начал
Если Щукин такой собиратель-однолюб, очень редко возвращающийся к тому, что он уже пережил (исключением были покупки в 1912 году импрессионистов у брата), то Морозов — это человек, который собирает очень размеренно и стратегически. Он понимает, что он хочет. Сергей Маковский вспоминал, что на стене коллекции Морозова долгое время было пустое место, и на вопрос, а почему вы его держите так, Морозов говорил, что «я вижу здесь голубого Сезанна». И однажды эта лакуна заполнилась совершенно выдающимся полуабстрактным поздним Сезанном — картиной, которая известна как «Голубой пейзаж» и находится сейчас в Эрмитаже. Если мы перевернем эту вещь, то, в общем, мало что изменится, потому что только очень большое усилие зрительное заставит нас разобрать в этой череде мазков контуры дерева, горы, дороги и, может быть, домика там в центре. Это Сезанн, который уже освобождается от фигуративности. Но здесь важно именно то, что Морозов собирает

Различия продолжаются и в других областях. Например, Щукин практически ничего не покупал из русского искусства. Более того, его не особо интересовало искусство за пределами Франции. У него есть произведения других европейских художников, но на общем фоне они совершенно теряются, и главное — что они не выражают основную тенденцию его собирательства. Морозов составил коллекцию русской живописи, которая немногим уступает его французской коллекции. Он собирал очень широкий спектр — от позднего русского реализма, такого вот творчества союза русских художников, изображавших нашу природу, Врубеля, Серова, символистов, Гончарову и Шагала, — он был одним из первых, если не первым русским, который купил вещь Шагала. Различной была их финансовая стратегия, их способы выбора. Мы знаем от Матисса, что Морозов, приезжая к дилеру в Париже, говорил: «Покажите мне лучших Сезаннов» — и делал выбор среди них. А Щукин забирался в магазин, в галерею и просматривал всех Сезаннов, которых мог найти. Морозов был известен в Париже как русский, который не торгуется, и в одной галерее он оставил за время собирательства четверть миллиона франков. Игорь Грабарь не без иронии пишет в своих воспоминаниях, что Сергей Иванович Щукин любил, потирая руки, говорить: «Хорошие картины дешевы». Но на самом деле именно Сергей Иванович Щукин заплатил рекордную сумму на рынке современной живописи: в 1910 году за «Танец» Матисса он заплатил 15 тысяч франков, а за «Музыку» — 12 тысяч. Правда, снабдил документ указанием «цена конфиденциальна».
Это разнообразие, прослеживающееся повсюду, — экспансивность Щукина и тихость Морозова, стратегия приобретения, выбор — казалось бы, прекращается там, где мы переходим к списку. Они действительно собрали прекрасных импрессионистов. Правда, в русских собраниях практически нет Эдуарда Мане. Это в определенном смысле загадка, потому что Эдуард Мане к этому моменту, когда наши соотечественники начали собирать, уже величина экстра-класса, это звезда. И Муратов однажды написал, что Эдуард Мане — это первый живописец, для полноценного представления о котором надо переплыть океан. То есть он не просто расходится по коллекциям — он уходит в Соединенные Штаты, а американские коллекционеры для европейских и русских в частности — это такой беспокоящий объект иронии: там время от времени проскальзывают упоминания о чикагских торговцах свининой, которые приедут в Париж и купят всё. Так вот, с Эдуардом Мане наши соотечественники
Показательно то, что оба любили Матисса, но если Щукин пережил страсть — 37 картин, — то Морозов купил 11, и из них было довольно много ранних вещей, где Матисс еще не радикал, где он очень тонкий и осторожный живописец. А вот Пикассо у Морозова почти не было: против более чем 50 полотен у Щукина Морозов мог выставить только три картины Пикассо — правда, каждая из этих картин была шедевром, характеризующим определенный поворот. Это «Арлекин и его подружка» «голубого» периода; это «Девочка на шаре», которая была продана Гертрудой Стайн и куплена Иваном Морозовым, вещь «розового» периода; и это уникальный кубистический «Портрет Амбруаза Воллара» 1910 года: похожих на это изображение в мире,
Морозов собирал вещи экстра-класса и одновременно характерные, вещи с такой биографией. Например, его «Бульвар Капуцинок» 1873 года Клода Моне — это, весьма вероятно, тот самый «Бульвар Капуцинок», который был выставлен на первой импрессионистической выставке в ателье Надара в 1874 году Существует две версии «Бульвара Капуцинок»: одна хранится в Государственном музее им. Пушкина в Москве, другая — в коллекции Музея Нельсон — Аткинс в Канзас-Сити, штат Миссури, США.. На этот счет есть разные мнения — американские искусствоведы предпочитают называть этим полотном «Бульвар Капуцинок» из музея в Канзас-Сити, но качество картины лично мне позволяет предположить, что там был именно наш, то есть московский Моне. «Просушка парусов» Дерена из собрания Ивана Морозова была именно той картиной, которая была воспроизведена на развороте журнала «Иллюстрасьон» 4 ноября 1905 года наряду с другими гвоздями Осеннего салона — произведениями фовистов. И этот список можно умножить: Морозов действительно отбирал вещи с биографией.
В чем заключалось фундаментальное различие между этими коллекциями и как это различие повлияло на наше искусство? Сергей Иванович Щукин представил развитие современной французской живописи как перманентную революцию. Он выбирал вещи не просто характерные — он отдавал предпочтение вещам радикальным. Когда он начал собирать Матисса и следовать логике Матисса, важнейшим выбором был выбор элементарно простой картины. В своей европейской поездке, во время посещения Музея Фолькванг в городе Хаген в Рурской области Германии, Щукин увидел вещь, сделанную только что по заказу Карла Эрнста Остхауса — хозяина и основателя этого музея, в сущности одной из первых институций, посвященных строго современному искусству. Карл-Эрнст Отсхаус заказал Матиссу большую картину «Три персонажа с черепахой». Сюжет совершенно непонятен: три персонажа, три человекообразных существа — там даже с полом есть некоторые неопределенности — кормят черепаху или играют с ней. Вся колористическая гамма редуцирована до синего, зеленого и телесного; рисунок напоминает детский. И вот эта вот неслыханная простота Щукина абсолютно покорила — он захотел такую же, результатом чего была картина «Игра в шары», колористически и с точки зрения рисунка очень близкая к картине Остхауса, где черепахи уже не было и были три мальчика, которые катают шары, как это принято на Юге Франции. И эта вещь, вопиюще лаконичная и вызывающе примитивная, дала старт приобретению одной за другой радикальных вещей Матисса: «Красная комната», «Разговор». Но конечно, кульминация этих покупок — это «Танец» и «Музыка». То же самое можно сказать и о Пикассо. Щукин приобрел десятки вещей раннего Пикассо, стоящего на пороге кубизма, 1908–1909 годов; тяжелые, страшные, коричневые, зеленые фигуры, словно вырубленные топором из камня или дерева. И здесь он тоже был пристрастен, потому что целые периоды творчества Пикассо прошли мимо его внимания, но радикализм примитивного Пикассо превышал все остальные пределы. Он произвел колоссальное впечатление на русскую публику, которая сформировала свой собственный образ этого enfant terrible, этого возмутителя спокойствия мировой живописи.
Морозов покупал тех же художников, но выбирал другие вещи. Есть классический пример, приводимый уже в свое время в публикациях искусствоведа Альберта Григорьевича Костеневича. Два пейзажа из коллекций Щукина и Морозова. Они изображают один и тот же мотив. Сезанн очень любил писать гору Сент-Виктуар в Провансе, и если мы посмотрим на позднюю вещь, принадлежавшую Щукину, то мы с трудом найдем очертания горы — это скорее мозаичное собрание мазков, в котором мы должны нашей волей созерцателя сконструировать эту гору, таким образом став соучастником живописного процесса. «Гора Сент-Виктуар», написанная за несколько десятилетий до этого Сезанном и приобретенная Морозовым, — это уравновешенная, классически спокойиная, ясная картина, напоминающая о пожелании Сезанна переделать Пуссена в соответствии с природой. Говоря коротко, Морозов представлял французскую живопись после импрессионизма как эволюцию, Щукин — как революцию. И дело в том, что морозовская коллекция оставалась загадкой для подавляющего большинства зрителей и художников, потому что Иван Абрамович не был особо гостеприимным собирателем. Эта коллекция создавалась не без советов его друзей-художников.

Например, один из его шедевров Ван Гога, «Красные виноградники в Арле», был куплен по совету Валентина Серова. Но в целом дворец Морозова на Пречистенке, где сейчас помещается Российская академия художеств, был закрыт для посетителей. А вот Сергей Иванович мало того что завещал коллекцию городу, с 1909 года стал пускать туда всех желающих, еще до этого с удовольствием приглашал студентов Московского училища живописи, ваяния и зодчества, чтобы показать им свежие приобретения. То, что именно революционная концепция французского искусства Сергея Ивановича Щукина была на виду, была открыта, безусловно, является важнейшим фактором в радикализации русского авангарда. Вернувшийся из Москвы Давид Бурлюк писал Михаилу Матюшину:
«…видели две коллекции французов — С. И. Щукина и И. А. Морозова. Это то, без чего я не рискнул бы начать работу. Дома мы третий день — все старое пошло на сломку, и ах как трудно и весело начать все сначала…»
Вот, собственно говоря, лучшая иллюстрация для понимания того, чем коллекции московских собирателей были для русского авангарда. Это был постоянный фермент, это был постоянный раздражитель, это был постоянный объект полемики.
Сергей Иванович Щукин был очень предприимчивый бизнесмен, смелый, дерзкий, и, судя по всему, эта экономическая политика продолжалась в его собирательской деятельности. Ну вот, например,
Несколько мемуаристов донесли до нас описание манеры Щукина вести экскурсии. Можно найти иронический портрет собирателя в повести Бориса Зайцева «Голубая звезда». Там героиня перед тем, как вдруг после посещения галереи произойдет объяснение в любви, слушает экскурсию Щукина:
«По залам бродили посетители трех сортов: снова художники, снова барышни и скромные стада экскурсантов, покорно внимавших объяснениям. Машура ходила довольно долго. Ей нравилось, что она одна, вне давления вкусов; она внимательно рассматривала туманно-дымный Лондон, ярко-цветного Матисса, от которого гостиная становилась светлее, желтую пестроту Ван Гога, примитив Гогена. В одном углу, перед арлекином Сезанна, седой старик в пенсне, с московским выговором, говорил группе окружавших:
— Сезанна-с, это после всего прочего, как, например, господина Монэ, все равно что после сахара — а-ржаной хлебец-с…
<…>
Старик — предводитель экскурсантов, снял пенсне и, помахивая им,
говорил:
— Моя последняя любовь, да, Пикассо-с… Когда его в Париже мне
показывали, так я думал — или все с ума сошли, или я одурел. Так глаза и рвет, как ножичком чикает-с. Или по битому стеклу босиком гуляешь…
Экскурсанты весело загудели. Старик, видимо не впервые говоривший это и знавший свои эффекты, выждал и продолжал:
— Но теперь-с, ничего-с… Даже напротив, мне после битого стекла все мармеладом остальное кажется…»
Что отличает коллекцию Ивана Морозова от коллекции Сергея Щукина — это сосредоточенность Морозова на декоративных ансамблях. У него их было несколько, и если необычные для Клода Моне панно, изображающие уголки сада в Монжероне, Морозов собирал по различным галереям, то остальные ансамбли он заказывал уже сам. Он ведь был на самом деле первым, кто в России заказал целостный монументально-декоративный ансамбль современному процветающему живописцу с еще не до конца установившейся репутацией. В 1907 году он договорился с Морисом Дени о создании цикла живописных панно для столовой его дворца на сюжет истории Психеи. Начальная цена проекта была 50 тысяч франков — это много. Должны были быть сделаны пять панно, которые Дени, очевидно, с помощью подмастерьев исполнил практически в течение года. Когда эти панно прибыли в Москву, стало понятно, что они не совсем соответствуют интерьеру, художнику пришлось приехать, и он принял решение дописать еще восемь панно за 20 тысяч сверху, а потом по совету Морозова поставить в этом пространстве статуи работы Майоля, и это было очень правильное решение. Когда Александр Бенуа, в свое время очень любивший Мориса Дени и пропагандировавший его творчество в России, вошел в столовую Морозова, как он вспоминает затем в своих мемуарах, он понял, что это ровно то, чего не надо было делать. Дени создал воплощение компромиссного современного искусства, живопись, которую один из современных исследователей назвал туристическими, открыточными видами Италии, живопись карамельно-сладкую. Но сам факт появления в Москве целостного ансамбля, сделанного современным французским художником, как мне кажется, вызвал полемическую реакцию Сергея Ивановича Щукина.

Именно на фоне Мориса Дени мы должны рассматривать предельно радикального Матисса. Собственно, после Мориса Дени, появившегося у Морозова, Щукин заказывает «Танец» и «Музыку» как максимально авангардный ответ на искусство компромисса. «Танец» и «Музыка» помещаются Щукиным на лестнице своего особняка, то есть в публичном пространстве. И это страшно важное место, потому что входящий в щукинский музей человек сразу получает очень отчетливый камертон: все, что затем начнется после «Танца» и «Музыки», будет восприниматься через призму «Танца» и «Музыки», через призму максимально радикального на тот момент художественного решения. И все искусство, которое можно воспринять как искусство эволюции, пойдет под знаком революции. Но Морозов, как мне кажется, в долгу не остался. Не будучи радикалом и не будучи склонным к таким резким жестам, как Щукин, он,
Я сказал, что Щукин не увлекался декоративными ансамблями, но эта проблема синтетического искусства, которой был болен ранний ХХ век, мимо щукинской коллекции не прошла. В его собрании Гоген был сосредоточен в большой столовой, там же, где висел также и Матисс; на той же стене, где Гоген, висел Ван Гог. И мы знаем по фотографиям и по свидетельствам современников, что картины Гогена висели очень плотно. Собственно, у Щукина в его большом дворце не было много места для картин: коллекция разрасталась. Но плотность этого экспонирования была связана не только с традицией вешать картины впритык на выставках той поры, но, очевидно, и с тем, что Щукин интуитивно понимал синтетическую природу творчества Гогена. Повешенная рядом дюжина картин Гогена представала как нечто целостное, как фреска. Неслучайно Яков Тугендхольд проницательно назвал эту инсталляцию «гогеновским иконостасом». Он попал в десятку — собственно говоря, он как русский критик той поры очень хорошо уже понимал в 1914 году, что такое русская икона, насколько она одновременно возвращает искусству одухотворенность и является частью интегрального ансамбля храма. И в этом отношении щукинская коллекция, несмотря на то, что она не следует тенденции Морозова, в общем, участвует в том же самом процессе — попытке на основе современной живописи создать искусство целостное, интегральное, синтетическое.
Коллекция Щукина была безусловной проблемой для русского зрителя. Искусство, которое было представлено там, было крайне непривычным, оно нарушало условности, оно разрушало представления о гармонии, и оно, в сущности, отрицало огромные пласты современной русской живописи. При всем этом мы не найдем в русской печати большого количества отрицательных отзывов о Щукине. Все-таки мне кажется, что собиратель, даже чудила, принадлежащий к крайне влиятельному экономическому клану, был избавлен от прямых нападок в прессе. Исключения есть, они значимые. Например, в 1910 году жена Ильи Ефимовича Репина Наталья Борисовна Нордман, писавшая вод псевдонимом Северова, опубликовала то, что сейчас мы можем квалифицировать как «Живой журнал» или блог, — книгу «Интимные страницы», в которых интимность означает ровно доверительность, то, чем, кажется, отличаются эти интернет-формы современности. Книга повествовала о путешествиях, о посещении Ясной Поляны, но, в частности, там есть очень интересный эпизод, рассказывающий о том, как Репин и Нордман пришли к Щукину в отсутствие собирателя и навестили его музей. Мы знаем, что Репин крайне болезненно реагировал на современную французскую живопись. Но здесь важна интонация человека, который, в общем, транслирует идеи передового в политическом и социальном отношении среза русской интеллигенции, который все еще хранит заветы второй половины XIX века. Современники были шокированы этой книгой и, в частности, описанием посещения Щукина, я бы сказал, в силу такой абсолютно лишенной самокритики тенденциозности высказывания:
«Щукин — меценат. У него еженедельные концерты, в музыке он любит самое последнее слово (Скрябин — его любимый композитор). В живописи то же. Но собирает он только французов… Самые последние модники висят у него в кабинете, но, как только они начинают на французском рынке заменяться новыми именами, их тут же передвигают дальше, в другие комнаты. Движение постоянное. Кто знает, какие имена висят у него в ванной?
<…>
Во всех красивых старинных комнатах стены сплошь покрыты картинами. В большой зале мы видели множество пейзажей Monet, в которых есть своя прелесть. Сбоку висит Sizelet — картина вблизи изображает разные цветные квадраты, однотонно издали это гора».
Тут я должен пояснить, что никакого художника Сизелета не существует, и, скорее всего, Наталья Нордман описывает картину «Гора Сент-Виктуар» Сезанна. Экскурсантов ведет домоправительница, которая, выпустив весь запас своего недоумения и перепутав имена, вдруг
«И вот перед нами молодой человек лет 22, руки в карманы он опускает
как-то по-парижски. Почему? Слушайте — ипо-русски говорит картавя, как парижанин. Это что же? Воспитали за границей.
После мы узнали, что их было 4 брата — никуда не приставших, ни во что не верующих.<…> Щукины из французского лицея с русскими миллионами — эта странная смесь лишила их корней».
Поясню, что ничего близкого к истине в этой характеристике нет. И образование, и профессиональный опыт братьев Щукиных не дают никаких оснований для того, чтобы говорить об их неукорененности или поверхностной французскости. Перед нами образ собирателя современного французского искусства, отражающий стереотипы значительной части русской интеллигенции, питающейся наследием XIX века:
«Бесформенный, грубый и наглый Матисс, как и другие, отойдет на второй план. И вот гримаса страдания на лице художника — тоскует, мучается его душа, насмешка Парижа над русскими. И они, эти слабосильные славяне, так охотно дают себя гипнотизировать. Подставляйте свой нос — и ведите, куда хотите, только ведите. Мне хочется поскорее уйти из этого дома, где нет гармонии жизни, где властвует новое платье короля».
После похода к Щукину семейство Репиных зашло на студенческую выставку в Училище живописи, ваяния и зодчества, и там состоялся очень знаменательный разговор, о котором Нордман пишет на самом деле очень проницательно:
«После посещения дома Щукина ключ к современному московскому искусству был найден. Ученическая выставка в школе живописи и ваяния — особенно сильный симптом. „Что говорил Репин?“ — ко мне потянулись любопытные лица. Я промолчала. „А Вы часто бываете в галерее Щукина?“ — вдруг спросила я. Они переглянулись, посмотрели на меня, и все мы засмеялись. Конечно, как это почти всегда бывает, мы смеялись о разном. „Часто, нас Щукин постоянно группами приглашает. А что, Вы видите подражание?“ Я опять промолчала. Только вот что, и вдруг мне
как-то даже злобно стало: „Я не хочу переходить в потомство зеленой, или черной, или голубой“. Жалость ко мне до презрения выразилась на лицах учеников: „Вы требуете невозможного!“»
Когда Наталья Северова и Репин обменивались мнением об увиденном:
«„Я думаю, что требования у них огромные — они хотят полного освобождения от традиций. Они ищут непосредственности, сверхформ, сверхкрасок. Они хотят гениальности“. — „Нет, — сказала я, — не то. Они хотят революции. Каждый русский человек, кто бы он ни был, хочет опрокинуть и сорвать с себя
что-то такое, что душит и давит его. Вот он и бунтует“».
Здесь поразительным образом человек, совершенно не попадающий при описании коллекции в лад, глядя через головы своих собеседников, определяет ту самую миссию, которую щукинская коллекция выполняла в русском контексте. Это действительно была коллекция, олицетворяющая революцию.
Но проблема объяснения щукинского собрания оставалась. На самом деле за щукинское собрание шла война. Авангардисты очень хотели предложить публике свое видение щукинской коллекции как царства эксперимента и революции, а с другой стороны — доказать, что их искусство не во всем обязано Щукину. Но успешнее оказались сторонники модернистской компромиссной позиции, прежде всего критики журнала «Аполлон», которые смогли сформировать ту риторику, которая позволила относительно широкому кругу читателей примириться и даже полюбить мастеров от Щукина. Единственным способом на этом пути было доказать, что выбор коллекционеров, Щукина или Морозова, базируется не просто на причуде, а на самом деле базируется на тонком традиционном вкусе. Поэтому, когда мы читаем обзоры коллекций Щукина и Морозова, написанные Муратовым, Тугендхольдом, Бенуа и другими критиками этого круга, мы постоянно сталкиваемся с образами музея. Это музей личного вкуса, это музей и истории живописи. Второй важный аспект — это образ собирателя. И в этом смысле чрезвычайно важно то, что пишет о Щукине Бенуа:
«Что должен был вынести этот человек за свои „причуды“? Годами на него смотрели как на безумного, как на маньяка, который швыряет деньги в окно и дает себя „облапошивать“ парижским жуликам. Но Сергей Иванович Щукин не обращал на эти вопли и смехи никакого внимания и шел с полной чистосердечностью по раз избранному пути.
<…> Щукин именно не просто швырял деньгами, не просто покупал то, что рекомендовалось в передовых лавочках. Каждая его покупка была своего рода подвигом, связанным с мучительным колебанием по существу…<…> Щукин не брал то, что ему нравилось, а брал то, что, ему казалось, должно нравиться. Щукин скакой-то аскетической методой, совсем как в свое время Павел Михайлович Третьяков, воспитывал себя на приобретениях икак-то силой проламывал преграды, которые возникали между ним и миропониманием заинтересовавших его мастеров.<…> Быть может, в иных случаях он ошибался, но в общих чертах ныне выходит победителем. Он окружил себя вещами, которые медленным и постоянным на него воздействием осветили ему настоящее положение современных художественных дел, которые научили его радоваться тому, что создало наше время истинно радующего».
В самом начале 1910-х годов в европейском искусстве произошел новый перелом, потому что на авансцену вышел кубизм — то течение, которое стало точкой невозврата для искусства репрезентативного, которое так или иначе ставит своей целью воспроизведение действительности. Кубистические произведения пугали своим новым обликом. Если у фовистов мир был яркий, кричаще броский, пестрый,
У кубизма была своя живописная логика, и ей можно посвятить целый курс, равно как и полемике вокруг кубизма и теоретическому обоснованию кубизма. Для нас же важно то, что внутренняя логика кубизма была открыта тем живописцам, которые над ним размышляли, пока еще очень ограниченному кругу критиков, но кубизм как сенсация стал набирать обороты в 1911–1912 годах, и русские были в привилегированном положении, потому что еще в 1909 году на выставке «Золотого руна» первые кубистические работы Брака московской публике уже были открыты. И в дальнейшем на выставках русского авангарда первой половины 1910-х годов, прежде всего выставках «Бубнового валета», некоторые кубистические работы появлялись. Это были произведения Брака, Леже, Ле Фоконье и некоторых других художников. При этом в собрании Сергея Ивановича Щукина и Ивана Абрамовича Морозова произведений этих живописцев практически не было, за малым исключением. У Щукина был один Брак, несколько Ле Фоконье — ну, в общем, и все. Для того чтобы познакомиться с кубизмом как следует, молодое поколение русских авангардистов отправлялось в Париж, где лидеры школы, такие как Жан Метценже или Анри Ле Фоконье, держали мастерские, в которых художники со всего мира, приезжающие в Париж как в Мекку, могли приобщиться к принципам кубизма. И мы знаем, например, по воспоминаниям художницы Надежды Удальцовой, насколько серьезно, одухотворенно она воспринимала этот живописный опыт.
Кубизм, конечно, выступил для целого поколения мощной аналитической системой и системой, которая не просто касается живописи, но, в общем, обладает
Кубизм стал сенсацией, и, естественно, в России и публика, и художники с большим вниманием к нему отнеслись. Ясно, что сторонники традиционного искусства восприняли его как чистый бред; мирискусники и модернисты, близкие к журналу «Аполлон», поняли, что это демаркационная линия, и если их раньше пугал Матисс, то сейчас Матисс был понят как абсолютно традиционный художник, а вот кубизм стал восприниматься как реальная проблема, причем не просто живописная проблема, а проблема культурная, потому что кубизм ставил под вопрос базовые принципы живописи, как их понимал европейский человек начиная с эпохи Возрождения. В кубизме есть еще одна особенность: кубизм очень теоретичен. Для того чтобы объяснить эту живописную эволюцию, для того чтобы объяснить, что художник-кубист, замыкающийся в мастерской, ставящий перед собой модель или натюрморт и превращающий модель и натюрморт в некую причудливую космогонию, где якобы есть свои внутренние логические принципы, для того чтобы это постичь, были привлечены философские аргументы. И очень важным текстом в этом отношении была книга двух живописцев Альбера Глеза и Жана Метценже, которая так и называлась «De cubism», «О кубизме». Она появилась в Париже в 1912 году, стала сенсацией в художественных кругах Европы, и о том, насколько наши соотечественники пристально следили за происходящим в молодом европейском искусстве, говорит тот факт, что только по-русски она была издана в 1913 году дважды, в двух разных переводах, в Москве и в Петербурге. Но помимо того, что русский читатель получил два весьма различных по качеству перевода, весной 1913 года подписчики и читатели альманаха «Союз молодежи», единственного более-менее стабильного печатного органа русского авангарда, могли прочитать там реферат, который принадлежал Михаилу Матюшину, одному из лидеров петербургского футуризма. Матюшин прибег к одному из принципов кубизма — к коллажу, к сочетанию разнородных элементов. Он сопоставил пространные фрагменты текста Глеза и Метценже, а также фрагменты из книг русского математика и мистика Успенского и американского математика Хинтона, посвященных проблеме четвертого измерения. Как мы понимаем, для европейской культуры и науки, философии этого времени проблема новой структуры мироздания, углубление понимания и усложнение картины строения мира — это один из основных вопросов, и кубизм не остается в стороне от него. Для понимания кубизма уже тогда были привлечены такие явления, как философия длительности Анри Бергсона, связывающая реальность и интуитивное познание, или теория относительности Эйнштейна. И вот на этом фоне проблема четвертого измерения оказалась актуальной для русских художников. Матюшин сделал странную вещь: в этом переводе он придал французским терминам из книге «О кубизме», достаточно простым, туманное и почти мистическое содержание. Ну например, простое слово plan, которое могло означать «плоскость», «поверхность», «фрагмент пространства», он передает как «неизвестное измерение». Слово réel («истинный», «верный») он переводил как «единое существенное». То есть некое искажение перевода, как показала довольно давно уже Линда Далримпл Хендерсон, изучавшая проблему четвертого измерения в искусстве ХХ века, довольно простым категориям французских живописцев он придал намеренно туманный смысл, который позволил ему, пользуясь материалом книги «О кубизме» и материалами книг ученых, поставленных вместе, в сущности сформировать собственную идею искусства, которая преодолевает ограниченность трехмерного мира, уходит в трансцендентное пространство и потенциально способна активизировать человеческое мировосприятие. Мы знаем, что Матюшин с его теорией «Зорвед» — знающего зрения — в общем, исходил из того, что человеческая природа, физическая природа в высшей степени сейчас не развита и именно через искусство, через новый перцептивный опыт мы в состоянии выйти из тех пределов трехмерного мира, которые нас ограничивают и сдерживают. Это очень интересный пример того, как искажение в восприятии
Надо сказать, что наименее интересными результатами кубистического воздействия на русскую живопись является, конечно, буквальное воспроизведение кубистических приемов. Это более чем естественно: приезжающий в Париж молодой художник оказывается под колоссальным обаянием этого нового искусства, ощущением того, что он посвящен в некую тайну, под обаянием личности мастера. Но кубизм важен именно тем, что он дает художнику инструмент, и от него зависит, как этот инструмент использовать.

Например, если мы посмотрим на такие произведения Казимира Малевича, как «Портрет Михаила Матюшина», или «Англичанин в Москве», или «Дама у афишной тумбы», которые он написал в 1913–1914 годах, то мы внешне увидим кубистическую картину, написанную провинциалом. Там есть рассечение формы, там есть парадоксальное комбинирование планов, там есть элементы коллажа, там есть столкновение различных фактур, но там, конечно, нет изысканного парижского кубизма. Эти приемы кубизма Малевичем были использованы на самом деле для создания совершено новых произведений. Дело в том, что эти вещи синхронны с поэтической заумью Крученых, с тем экспериментом русского авангарда, который наносит удар по фундаментальному концепту европейской цивилизации — логике. И в этом отношении кубистический инструментарий используется Малевичем, как до этого Матюшин использовал значение французских слов, в абсолютно оригинальных русских целях. И именно здесь на примерах того, что наши футуристы делают с французским кубизмом, мы понимаем, насколько в русском авангарде был заключен элемент экстремальности. То, что у французов является способом конструирования живописного произведения, у русских интерпретаторов кубизма из авангардной среды становится способом решения последних вопросов, вопросов уровня Достоевского, вопросов мироздания и конструкции современного мира.
Кубизм стал очень важной школой для целого поколения русских художников. В сущности, никто из них не остался кубистом на всю жизнь, но кубизм дал вот что — очень проницательный русский критик Николай Пунин говорил:
«…в смысле учебы и метода ценность кубизма для русского искусства неоспорима. В рыхлую, лишенную устойчивых традиций нашу художественную среду кубизм вносит начала строго профессиональной культуры для многих русских художников он стал собирающей и организующей силой».
На самом деле действительно кубизм появляется тогда, когда в европейском авангарде доминируют различные формы экспрессионизма. А экспрессионизм, предельным выражением которого можно считать живопись Ван Гога, он устраняет всякое средостение между даже не интеллектом художника, а его эмоциональным импульсом и работой его кисти. Это в случае Ван Гога способно привести к фантастическим результатам, но это одновременно лишает художника аналитического контроля, дисциплины и в конечном счете владения результатами собственного труда. И кубизм как раз оказался крайне важной поправкой для русского неопримитивизма, для того искусства, которое практиковали Ларионов, Бурлюк, бубновалетцы и многие другие в это время. От искусства, которое наблюдает природу и пусть примитивно, пусть аляповато, пусть намеренно провокационно ее переносит на холст, художник шел к конструированию художественного объекта, обладающего собственной логикой, собственным бытием и очень опосредованно связанного с действительностью. В кубизме локальные живописные проблемы приобрели колоссальное значение. Это был такой полигон проверки проблем живописи и создания того искусства, которое займет в мире совершенно самостоятельное и прежде ему не присущее место.
Один из русских футуристов, анализирующий живопись этой поры, очень точно сказал: «Свойство материала определяет род художественного произведения и управляет всем творчеством артиста». Не воля, не экзистенция, не авторский произвол, а краски, пространство, объем и другие проблемы, коренящиеся в самой природе живописи. Понятно, что это колоссальное сужение поля искусства, редуцирование всего до изображения человеческой фигуры и натюрморта в лабораторных условиях художественной мастерской резко меняло все отношения по поводу живописи. Эта живопись как бы сразу становилась живописью для специалистов, потому что те, кто не понимает ее логики, оказывались в хохочущей публике, которая либо просто воспринимала кубизм как дикую шутку, либо видела в этом диагноз, диагноз совершено апокалиптический, говорящий о том, что происходит с нашей цивилизацией в целом.
До сих пор, говоря о кубизме, мы не произносили имени художника, который уже тогда считался его отцом, — Пабло Пикассо. Его звезда взошла стремительно в начале ХХ века, и к началу 1910-х годов он обладал совершенно уникальной аурой и в Европе, и в России. Николай Пунин написал:
«Рядом с Пикассо не горит ни одна звезда… …Для нас Пикассо — гений именно в самом подлинном смысле слова. Пикассо влиял и влияет на нас не только непосредственно, но влияет как художественный организм, как известный тип художника…»
То есть речь идет о совершенно ином отношении художника к своему ремеслу, к действительности и о том, что сама творческая личность становится новой. Это художник, способный к радикальным изменениям, для которого отсутствие целостности творческой личности не катастрофа, а сила. За 10 лет Пикассо прошел такое количество стилистических поворотов — от вполне реалистической живописи своей юности к практически абстрактному аналитическому кубизму 1911 года, что складывалось ощущение, что под одним лицом и под одним именем живет несколько личностей. Это было совершенно беспрецедентным для Европы, а пластический дар Пикассо, проявлявшийся и в розовых композициях на тему жизни бродячих комедиантов, и в пронзительных голубых или синих сценах из жизни парижской улицы, и в зелено-бурых, напоминающих африканские идолы персонажах картин 1908–1909 годов, — эта мощная пластическая сила убеждала, что перед европейцем стоит совершенно новый гений, гений, с одной стороны, равный по своим возможностям художникам прошлого, а с другой стороны, настолько многоликий, что само собой напрашивалось предположение о его безумии. Пикассо стал проблемой на самом деле, он поставил принципиальный вопрос: как возможен Пикассо?
Тут нужно пояснить вот какие вещи. Пикассо действительно в это время уже приобрел некую ауру загадочности. Она была связана и с его творческой эволюцией от совершенно человеческих, пронзительных, даже сентиментальных произведений «розового» и «голубого» периодов к лишенным
Но Пикассо и Брак, знаменитые как создатели кубизма, живущие замкнуто, загадочно, имели своего рода тень. Это были те самые художники, которые эксплуатировали художественные принципы кубизма и выставлялись в больших Салонах. В 1911 и 1912 году по Салонам Независимых, по Осеннему салону прокатилась буря, скандал: художники-кубисты там проявились как отдельная сильная группа — Глез, Метценже, Ле Фоконье, Делоне, Дюшан и некоторые другие. Вызвав в том числе политический скандал, когда в Палате депутатов Франции происходили дебаты о том, стоит ли государству снабжать ту выставку, на которой выставляется такое количество уродливого искусства. И для того, чтобы правильно понимать, как воспринимается кубизм и как воспринимается Пикассо, мы должны иметь в виду, что было два кубизма: был кубизм вот этих загадочных затворников-мастеров, Пикассо и Брака, так сказать подлинный кубизм, и кубизм публичный, кубизм, как его называли тогда, салонный; кубизм, существующий в общественном пространстве, открытый подражанию, который можно изучить, просто поступив в мастерскую La Pallette к Ле Фоконье, как это сделала, допустим, Надежда Удальцова и некоторые другие русские молодые художники.
А вот добраться до Пикассо было практически невозможно. Благодаря усилиям московского историка искусства Анатолия Стригалёва мы теперь знаем совершенно авантюрную историю того, например, как молодой Владимир Татлин, очень бедный, нуждающийся художник, в конечном счете ухитрился получить «благословение» Пикассо. К этому моменту кубизм был уже неким тайным знанием, и мы знаем, опять же, полуанекдотическую историю, как Татлин просил Любовь Попову, художницу из обеспеченной купеческой семьи, посещавшую Париж, учить его кубизму за 20 рублей в месяц. И вот мы знаем, что в начале 1914 года Татлин завербовался в качестве живого экспоната на русскую художественно-промышленную выставку в Берлине — там он изображал слепого украинского певца-бандуриста. Он сидел в национальном костюме, зажмурив глаза, и пел красивые украинские песни, благо он сам происходил из тех краев и обладал хорошим голосом. И вот благодаря этому зоопарку он смог сэкономить деньги и скопить на то, чтобы поехать в Париж, и, скорее всего, в марте 1914 года ему удалось попасть в мастерскую Пикассо, причем, кáк это получилось, мы не знаем до сих пор, потому что сам Татлин очень искусно, как и многие другие русские футуристы, свою биографию мистифицировал. И существуют две версии, мы вправе выбрать ту, которая нам кажется более симпатичной. Согласно одной из них, он сел со своей бандурой на углу парижской улицы, где Пикассо гулял со своей овчаркой, Пикассо заинтересовался им, пригласил к себе в дом. По другой, он завербовался туда в качестве полотера, и Пикассо пришел в ярость и выгнал его, когда увидел, что полотер зарисовывает его новые художественные объекты.

Как бы то ни было, вернувшись из Парижа, Татлин создал нечто принципиально новое. Он создал контррельефы — абстрактные композиции из различных материалов (сталь, металл, проволока, дерево), которые ничего не обозначали, представляли самоё себя и апеллировали к нам своими простейшими физическими свойствами — фактурой, например. Они предполагали, что произведение искусства — это чисто материальный объект, лишенный той духовной трансцендентной ауры, которая преследует искусство в течение столетий, которая является центром романтической эстетики и романтической мифологии. То, что делал Пикассо, когда Татлин встретился с ним в Париже, — это были трехмерные объекты из бумаги и картона, гитары, которые не были гитарами. В сущности говоря, Татлин, очевидно увидев эти вещи, которые, в общем, в тот момент фигурировали во французской прессе в черно-белых фотографиях, вовсе не обезьянничал — он получил импульс, который позволил ему сделать совершенно радикальный шаг. Это тоже прекрасная иллюстрация всей ситуации. Мы понимаем, из каких случайностей складывается эта система контактов русского искусства и искусства западного. И мы понимаем, что, в общем, эти два искусства думают в одном направлении, это один импульс. Картонная гитара Пикассо, занимающая настоящее место в мире и совершенно не функциональная, пародирующая реальность, и контррельеф Татлина, из которого вырастает в большой степени русский конструктивизм с его стремлением изменить действительность, — это, в общем, части одного диалога. И насколько этот диалог зависит от таких обстоятельств, как авантюризм Татлина и возможность на малые деньги приехать в Париж.
Так вот, именно Пикассо занимает совершенно уникальное место в русском сознании. Происходит это не только благодаря его всемирной репутации, но и благодаря Сергею Ивановичу Щукину и его страсти, потому что насколько Щукин был привержен Матиссу, настолько же он выстроил сложные личные отношения с Пикассо, но не как с человеком, потому что мы знаем, что, в сущности, Щукин и Матисс были если не друзьями, то очень теплыми приятелями. С Пикассо у Щукина таких отношений не сложилось — у него был роман с его живописью. Мы знаем несколько историй о том, как Щукин, очевидно, посещал Пикассо, возможно, по протекции Матисса. Есть очень смешной рисунок, датируемый 1906 годом, такая почеркушка Пикассо, где узнаваемый Щукин представлен в качестве русского купчика со свиным пятачком и вытянутыми свиными ушками. Там написано «monsieur Chtchoukine à Moscou». С чем связана эта карикатура, сказать сложно — может быть, с разрушенными ожиданиями молодого художника, к которому пришел богатый русский и ничего не купил. Есть еще одна замечательная история, которую рассказывает Гертруда Стайн, о том, что, когда Пикассо показывал своих «Авиньонских девок» в мастерской узкому кругу друзей и ценителей, Щукин сказал: «Какая потеря для французской живописи». Я думаю, что это апокриф, потому что Щукин очень хорошо понял очень скоро, что именно эта живопись теперь владеет им абсолютно — начав покупать Пикассо с 1909 года, «Даму с веером» из московского Музея имени Пушкина, он затем не мог остановиться до 1914 года. Правда, Пикассо, который был представлен в собрании Щукина более чем 50 произведениями, был представлен одновременно очень неравномерно. Эта неравномерность, как мы очень скоро поймем, привела к тому, что у нашего соотечественника сложился совершенно уникальный образ Пикассо, не имеющий ничего общего с этим живописцем, но зато очень много говорящий о состоянии умов нашей нации перед катастрофическими событиями 1914 и 1917 года.

В 1914–1915 годах несколько русских интеллигентов напечатали статьи, в которых стремительно слепился совершенно особый Пикассо. Зимой 1914 года в первом номере журнала «Аполлон» художественный критик Яков Тугендхольд, великолепно знакомый с парижской художественной жизнью, опубликовал большой обзор коллекции Щукина, начинающийся с импрессионистов и заканчивающийся творчеством испанца, но вслед за ним редакция поместила статью символистского литератора Георгия Чулкова, который, опираясь на вполне уже стереотипные, клишированные славянофильские представления о погибающем под гнетом материализма и позитивизма Западе, неожиданно нарисовал апокалиптический образ Пикассо. Статья называлась «Демоны и современность».
«Гениальным выразителем пессимистического демонизма современной Европы я считаю Пикассо. Этот испанец едва ли не самый значительный мастер после Ван Гога. В его душевной драме есть та глубина, которая совершенно отделяет его от современных художников. <…> Картины Пикассо — иероглифы Сатаны. Напрасно кубисты думают, что у них есть нечто общее с этим гениальным художником: ему нельзя подражать и даже нельзя у него учиться. Его форма предельно выразительна. <…> Пикассо понимал, что, если он не успеет или не сумеет запечатлеть то, что ему сообщают из иного мира, он погибнет неизбежно, раздавленный тяжестью нечеловеческого познания. И наконец, это случилось: психиатры утверждают, что Пикассо сошел с ума. Это означает, что его душа уже не нуждается в психофизическом инструменте, который мы называем индивидуальностью… Пикассо преодолел психологизм. Поэтому, быть может, его картины стали такими необходимыми для всех».
Этот мотив сумасшествия Пикассо будет преследовать журналистов и писателей очень долго, потому что это было самым простым объяснением той катастрофической перемены в творческом облике Пикассо и той дегуманизации образа человека, которые он наглядно предъявил в своих кубистических произведениях.
Но, как оказалось, апокалиптический образ Пикассо, который помогает Чулкову поставить вечный русский диагноз загнивающей западной цивилизации, был только первой ласточкой. Не прошло и двух месяцев, как на страницах нового журнала «София», посвященного проблемам культуры, философ Николай Бердяев опубликовал короткое эссе, такое стихотворение, философское стихотворение в прозе, называющееся «Пикассо». Начиналось оно так:
«Когда входишь в комнату Пикассо в галерее Сергея Ивановича Щукина, охватывает чувство жуткого ужаса. То, что ощущаешь, связано не только с живописью и судьбой искусства, но с самой космической жизнью и ее судьбой. В предшествующей комнате галереи был чарующий Гоген. <…> После этого золотого сна просыпаешься в комнате Пикассо. Холодно, сумрачно, жутко. Пропала радость воплощенной, солнечной жизни. Зимний космический ветер сорвал покров за покровом, опали все цветы, все листья, содрана кожа вещей, спали все одеяния, вся плоть, явленна в образах нетленной красоты, распалась».
И далее Бердяев прочитывает в Пикассо симптом колоссальной значительности, симптом того кризиса, который овладевает, по его мнению, европейской цивилизацией в целом, той цивилизации, которая рождена Ренессансом и сейчас обречена на катастрофу.
«Ныне мы подходим не к кризису в живописи… а к кризису живописи вообще, искусства вообще. Это кризис культуры, осознание ее неудачи, невозможности перелить в культуру творческую энергию. Космическое распластование и распыление порождает кризис всякого искусства, колебание границ искусства. Пикассо — очень яркий симптом этого болезненного процесса. <…> Перед картинами Пикассо я думал, что с миром происходит
что-то неладное, и чувствовал скорбь и печаль гибели старой красоты мира, но и радость рождения нового. <…> Если можно сказать, как истину предпоследнюю, что красота Боттичелли и Леонардо погибнет безвозвратно вместе с гибелью материального плана бытия, на котором она была воплощена, то как последнюю истину должно сказать, что красота Боттичелли и Леонардо вошла в вечную жизнь… Но новое творчество будет уже иным, оно не будет уже пресекаться притяжением к тяжести этого мира. Пикассо — не новое творчество. Он — конец старого».
Через несколько месяцев началась война, казалось бы очень удачно оправдавшая эти апокалиптические ожидания. И на фоне войны в 1915 году очень влиятельный среди русской интеллигенции толстый журнал «Русская мысль» опубликовал еще одну статью — Сергия Булгакова, другого религиозного философа, который через несколько лет примет священнический сан. Эта статья была снова посвящена Пикассо и называлась «Труп красоты». Ей был предпослан эпиграф из погребальных песнопений, из стихиры Иоанна Дамаскина:
«Когда же вы входите в комнату, где собраны творения Пабло Пикассо, вас охватывает атмосфера мистической жути, доходящей до ужаса. Покрывало дня, с его успокоительной пестротою и красочностью, отлетает, вас объемлет ночь, страшная, безликая, в которой обступают немые и злые призраки,
какие-то тени. Это — удушье могилы.
<…>
Творчество Пикассо и есть эта ночь, безлунная и беззвездная, оно столь же мистично, как и она. Притом это мистика не содержания, не сюжета (совсем наоборот — сюжеты эти весьма обычны, даже тривиальны, преимущественно это женское тело, одетое или обнаженное, и разные nature morte), но самой кисти, красок, мазка, мистична насквозь самая природа его творчества».
Ни в одной другой стране мира, столкнувшейся с проблемой, как возможен Пикассо, подобное философское истолкование не сложилось. На самом деле и опирающийся на общие места Чулков, и Бердяев, в метафорике которого нетрудно усмотреть теософские влияния, и в статье Булгакова, которая на самом деле является чуть ли не единственным православным ответом на вызов современной живописи, мы сталкиваемся с попыткой понять Пикассо как художника, решающего окончательные проблемы, но в то же время художника, решающего проблемы не столько самой цивилизации, сколько русские проблемы. Совершенно неслучайно эти писатели, вышедшие из круга московского религиозно-философского общества, говорят на языке, очень понятном русскому интеллигенту. Булгаков, собственно, прямо утверждает, что именно через Пикассо русская душа пытается осознать происходящее с ней. Он говорит о том, что Пикассо — это Николай Ставрогин с кистью в руках, и категориальный аппарат, который применяют эти философы и эссеисты, очень знаком русскому Серебряному веку: это проблема демонизма, это проблема вечной женственности и поругания ее, здесь включается весь огромный соловьевский контекст. Особенно искусен Булгаков в своей логике. Бердяев скорее обаятелен цельностью своего высказывания, а Булгаков разворачивает перед нами целую панораму образов русской литературы — от Гоголя и Тютчева до Достоевского, сопоставляя Пикассо с Чартковым из гоголевского «Портрета», и вдруг в качестве последнего аргумента он выкладывает тексты Отцов Церкви и религиозных авторитетов. Он резко повышает ставки, говоря, что проблема Пикассо — это на самом деле экзистенциальная проблема современного человека и современной цивилизации, это проблема богооставленности. Правда, он дает надежду читателю, вспоминая собор Парижской Богоматери, в котором сочетаются священные образы и пугающие химеры на крыше: не был ли творец химер и творец образа Девы Марии одним и тем же художником, спрашивает Булгаков, нет ли у Пикассо возможности преобразиться и возродиться?
Надо сказать, что этот образ Пикассо-демона был исключительно влиятелен. Если мы посмотрим на то, что пишет молодое поколение, то, что думает молодое поколение, то увидим, что это был очень удобный образ, объясняющий живописную эволюцию Пикассо. Следы его влияния можно найти в самых неожиданных местах. Кто, казалось бы, дальше отстоит от мистики среди русских авангардистов? Ну, Александр Родченко, наверное. И тем не менее осенью 1915 года, в сущности через месяц или полтора после того, как в августе была напечатана статья Сергия Булгакова, он пишет своей будущей жене Варваре Степановой из Казани в Кострому: «Теперь я занялся графикой, но в ней нет человеческих лиц. В них нет ничего. В ней мое будущее. Я нынче сотворил чудовищные вещи. Я буду соперником Пикассо в обладании дьявола». Складывается впечатление, что молодой, еще неоперившийся футурист за чистую монету принимает метафорику религиозных философов.
Один из вопросов — откуда взялась эта метафорика. У меня есть ощущение, что за нее отчасти отвечает Александр Бенуа. Дело в том, что от внимания исследователей, которые, начиная с Анатолия Подоксика, еще в конце 1970-х годов обратили серьезное внимание на русскую дискуссию о Пикассо, ускользает его статья, первая большая русская статья о Пикассо, опубликованная в конце 1912 года на страницах газеты «Речь», в заглавии которой Пикассо не упоминается, но именно о его произведениях в коллекции Щукина и говорит Бенуа. Собственно, там он впервые и применяет образы, связанные с религией и демонизмом. На протяжении всей этой статьи Бенуа избегает мистической лексики, но, подходя к финалу, он вдруг начинает говорить о демоническом в художественных произведениях. Но примером сотворенного искусства дьявола для Бенуа становится не Пикассо, а африканские статуэтки, стоящие в той же комнате, по стенам которой развешены его полотна.
«…Это настоящее страшное „божище“, это нечто такое, во что вложены страшные молитвы, чему принесены жестокие жертвы… <…> Да этот бог, вероятно, и не умер, а все еще жив, все еще ждет и требует».
Но страшно в современном искусстве для Бенуа не то, что оно чудит, создавая чудовищ, а страшно то, что оно забирается
Мы вправе были бы ожидать, что заинтересованными истолкователями Пикассо будут русские художники-авангардисты. Странным образом, они не так много сказали о Пикассо, а если говорили, то говорили достаточно критично. С очевидностью и для них Пикассо представлял проблему, для которой пока не было адекватного языка и категориального аппарата. Видимо, в связи с войной авангард довольно поздно вступил в спор с религиозными мыслителями. И главным ответом авангарда стала первая в мире монография о Пикассо, вышедшая
По всей вероятности, эта книга писалась в два приема. Ее основная часть есть результат поездки в Париж. Но Аксенов, призванный в армию, смог закончить ее к 1917 году. Она была издана осенью 1917 года и по понятным причинам не получила того резонанса, который она заслуживает. Книга эта сама по себе очень интересна, потому что она для Аксенова, футуристического поэта, в то же время возможность реализовать его писательские и теоретические амбиции. Как очень молодой еще человек он вкладывает туда всю уйму знаний, которую он смог почерпнуть: он ссылается на Вольтера, он ссылается на индийскую философию, там мы встретим химические формулы, рассказы о парижском быте. Например, он очень проницательно замечает, что расцвет авиации и кубистическое структурирование объема — вещи, недалеко друг от друга стоящие. Он объясняет нам на основании парижских бытовых реалий, откуда берутся плоские буквы в натюрмортах Пикассо: по его мнению, это результат взгляда сквозь витрину, на которой написано объявление того или иного ресторана. И вот такими наблюдениями, очень острыми и парадоксальными, эта книжка полнится. Она, собственно говоря, и построена как книга человека, прочитавшего Ницше и Розанова, потому что первая ее часть — это сотня с лишним афористических фрагментов, очень часто внешне друг с другом не связанных, а вторая ее часть, аналитическое приложение, — это уникальный пример пристального чтения поэтики Пикассо. В этой книге Аксенов главным объектом своей полемики избирает Бердяева. Он, в общем, не скрывая, над ним иронизирует, если не глумится:
«Когда перестают понимать
какое-либо явление, прибегают к выражению „мистический“, пользуясь малой разработанностью этого понятия. Так, Сезанн (живопись которого в настоящее время никому не кажется загадочной) был своевременно ославлен мистиком. То же случилось и с делом Пикассо. Тщетно стали бы мы искать оккультных предпосылок его живописной манеры. Да! он жил в доме номер 13!»
Пикассо действительно жил в доме номер 13. В этой книге Аксенов предстает не просто как блестящий полемист — он опровергает главный грех подхода религиозных мыслителей. Ни для Бердяева, ни для Булгакова Пикассо не является самоценностью — для них Пикассо просто симптом. Если мы посмотрим, что Бердяев через несколько лет напишет о футуризме, мы с легкостью сможем подставить вместо слова «футуризм» имя Пикассо, и мы получим практически тот же самый текст. Аксенов заставляет нас сосредоточиться не просто на творческой личности Пикассо, а на логике живописного развития этого художника. Он, в сущности, говорит о том, о чем говорят в это же время русские филологи-формалисты. Вот его базовый принцип: «Свойство материала определяет роль художественного произведения и управляет всем творчеством артиста». И вторая часть этой книги, развернутый процесс описания различных стилистических этапов Пикассо, как раз и показывает, что Пикассо не одержим демонами — Пикассо решает живописные задачи, обладающие внутренней логикой. Ну и, кроме того, Аксенов объясняет нам, насколько произвольный выбор Щукина, очень любившего этого устрашающего Пикассо 1908–1909 годов и проигнорировавшего другие этапы развития этого мастера, определяет тот самый образ, который столь шокировал переходящего из комнаты Гогена в келью Пикассо русского зрителя.
С началом Первой мировой войны, в августе 1914 года, русский художественный мир был совершенно отрезан от Запада. Страна семь лет, до конца Гражданской войны, прожила практически в полной изоляции. Пикассо оставался для русского человека в 1921 году таким же, каким он был в 1914-м. Поэтому, когда блокада прекратилась и первые известия с Запада стали приходить в Россию, русский авангард был абсолютно деморализован известиями о новой стилистической эволюции Пикассо. Пикассо обратился к фигуративному искусству, которое напоминало неоклассические произведения Энгра, и это было равноценно измене вождя революции. С этого момента искусство Пикассо утрачивает провиденциальную связь с развитием русской живописи. Пикассо остается для наших соотечественников очень важным, главным мастером современности, но больше уже не влияющим ни на наше художественное развитие, ни наше художественное сознание в той степени, как это было перед Первой мировой войной.
До сих пор мы говорили практически только о диалоге русского искусства и искусства Франции. Эта ситуация отражает реальность. Если еще в 1890-е годы для нашей молодой живописи были актуальны почти в равной степени произведения скандинавских, немецких, французских художников, то к 1910-м годам французское искусство, растущее из импрессионизма, стало практически синонимом современного искусства. А немецкая живопись, немецкий экспрессионизм, который был представлен на русских выставках, странным образом проходил незамеченным для русской критики. Художественная Франция стала эталоном современного поиска, современной живописи. Именно во Франции выдвигались центральные проблемы искусства, там же они и решались. Именно по отношению к французскому искусству выстраивали свои стратегии те отряды национальных художественных школ, которые хотели эти школы возглавить. Но исключения были, и такое исключение в России — это казус итальянского футуризма.
Когда мы говорим о русских авангардистах, само собой выскакивает слово «футуризм». Это слово появилось в 1909 году, когда талантливый поэт и гениальный пиарщик Филиппо Томмазо Маринетти опубликовал в газете «Фигаро» «Манифест футуризма». Так появился новый жанр: с этого времени почти каждое новое художественное явление должно было теоретически себя обеспечить и максимально громко и емко провозгласить, чего оно хочет. Но это был не только новый жанр — стало ясно, что перед нами формулируется некое новое чувство реальности, и перед искусством ставятся новые задачи. И эти задачи касались не человеческой психологии и не человеческого измерения мироздания, человек переставал быть мерой всех вещей. Они касались тех обстоятельств современной цивилизации, в которых человеческое практически угасало. Футуристы воспевали скорость, электричество, волны, пронзающие материю, энергию, и в том числе энергию войны. Человеческие страдания интересовали их ничуть не больше, чем страдания электрической лампочки. И футуристы декларировали свою ненависть к музеям. Для итальянской молодежи это было понятно, потому что Италия уже превратилась к тому моменту в общеевропейский музей, собрание белых мраморов и священных картин, которые гирей висели на ногах у итальянской художественной молодежи.
Футуризм родился как литературное явление, но достаточно быстро обрел свое живописное измерение. В 1912 году в Париже состоялась первая выставка художников-футуристов, которые на самом деле комбинировали в своем живописном языке опыт импрессионизма — с его вниманием к детализированному впечатлению, особенно впечатлению от современного города, от электрического освещения и скорости, от смещения пространства, уплотнения перспективы — с живописным языком кубизма: с дроблением формы и декларацией художественной воли, которая анализирует форму и реконструирует ее на холсте. Эта выставка была великолепным коммерческим проектом. За неполные два года она проехала практически по всем европейским столицам, к каждой выставке издавался каталог с декларацией футуристов. Картин было относительно немного, несколько десятков, но резонанс был огромный. Футуристы, в отличие от кубистов с их тяготением к стабильности, устойчивости, к анализу формы, стремились передать движение. Собственно говоря, как писали проницательные критики той поры, в общем, к этому и сводилось художественное новаторство футуристов.
Получилось так, что футуризм в России приобрел сенсационную известность. Манифесты итальянских писателей и художников переводились. В 1914 году, когда Филиппо Томмазо Маринетти навестил с гастролями Москву и Петербург, уже практически все значимые тексты футуристов были доступны русскому читателю, и для художников, живописцев было понятно, что теория отдельно, а практика отдельно. Даже притом, что очень мало русских художественных деятелей видели футуристическую живопись — для этого нужно было случиться в том или ином европейском городе ровно в тот момент, когда там гастролировала футуристическая выставка, — но даже по сопоставлению репродукций и текстов было понятно, что футуристы — это скорее художники, создающие концепцию, нежели реализующие с должной мерой убедительности живописную задачу. Футуризм в России воспринимался, в
Пострадали от этого русские авангардисты, потому что достаточно быстро они приняли имя футуристов. Мы знаем, что самоназвание группы «Гилея» и связанных с ней художников и поэтов — это «будетляне». Это великолепное слово, изобретенное Хлебниковым, описывает устремление русских футуристов к прекрасному будущему и отрицание нынешнего прошлого, но с другой стороны, славянский архаизм этого имени указывает на то фундаментальное различие, которое было очень дорого для русских футуристов. Этот славянский корень русского самоназвания указывает на доцивилизационные, доисторические основания русского футуризма. И в этом заключалось его главное различие с итальянским однофамильцем. Дело в том, что русский футуризм был чрезвычайно озабочен своими корнями. Можно было бы сказать «национальными корнями», если бы слово «национальный» не относилось напрямую к культуре Нового времени, а именно под культуру Нового времени, в донациональную, племенную почву уходили интересы русских будетлян. Но так или иначе совпадение имени было клеймом, было проклятием, и в очень большой степени полемическая энергия русских футуристов была направлена на то, чтобы отмыться, на то, чтобы декларировать собственную независимость, самостоятельность и первичность. И этим отчасти объясняется тот лютый прием, с которым столичный гастролер Маринетти столкнулся в Москве и особенно в Петрограде, когда Хлебников и Лившиц устроили, по сути дела, демонстрацию во время его выступления, раздавая блестяще написанную оскорбительную листовку против итальянского гостя.
К 1914 году, когда к нам с публичными лекциями приехал Маринетти, словно инспектор из столицы, проверяющий провинциальное отделение — примерно так описывал эту ситуацию Бенедикт Лившиц, — русский авангард уже перерос футуризм. Русский авангард воспользовался
Русские авангардисты были свободны от культурной традиции. Если мы посмотрим, откуда они происходили, как и чему они учились, мы поймем, что это совершено уникальная ситуация, когда люди абсолютно открыты любому влиянию и обладают колоссальной потенциальной энергией. С другой стороны, в отличие от авангарда французского, итальянского или немецкого, русские авангардисты, русские футуристы не имели обеспеченных влиятельных патронов, они не пользовались поддержкой галеристов, потому что сам по себе тип галериста, фигура галериста стала появляться в России только к самому началу Мировой войны. У них не было своих органов печати, как, допустим, у немецких экспрессионистов с журналом Герварта Вальдена Der Sturm или у итальянцев с Lacerba. В общем, все было против них, и, понятное дело, чем громче они заявляли о себе, тем резче они провозглашали свои принципы, тем больше было шансов быть услышанным.
И вот в этой дискуссии, которая в большой степени является содержанием художественной жизни 1910-х годов, современное западное искусство, и прежде всего искусство французское, занимает центральную позицию. Я рискну утверждать, что в этот момент та художественная сила, которая предложит русскому обществу свой образ французской живописи, будет управлять художественным дискурсом в целом. Это было важно вот почему: если в конце XIX века, когда на авансцену вышел петербургский «Мир искусства» и новое поколение русских модернистов, они позиционировали себя как западное явление в русском контексте, их оппонентами были передвижники, которые к тому моменту русской публикой осознавались как большое русское национальное искусство. А вот к началу 1910-х годов две основные борющиеся силы, конфликт которых, собственно, и был двигателем развития русского изобразительного искусства в эту пору, а именно модернисты (то есть традиция «Мира искусства» и художников, которые группировались около петербургского журнала «Аполлон») с одной стороны и авангардисты (условные футуристы) с другой, — обе эти силы обладали западной художественной генеалогией. И «Мир искусства» с его модернистским происхождением, с его укорененностью в ар-нуво, в стиле модерн и символизме, с его открытостью современной европейской живописи, и особенно авангард, отцами которого были Сезанн, Ван Гог и Гоген, воспринимались теперь и осознавали сами себя как явления, с одной стороны, русские, обладающие миссией с точки зрения будущего русского искусства, а с другой стороны — как явления, причастные общемировому процессу, французские по своей генеалогии. Это была большая проблема, и, если мы осознаем эту проблему, мы поймем и драматизм развития русской живописи перед революцией.
Если в конце XIX века художники «Мира искусства» выглядели как молодые наглецы, то к 1910-м годам они превратились в ту художественную силу, которая осознала себя как сила срединная, центральная, направляющая, ответственная за судьбу национальной школы. И ощущение того, что именно они должны сконструировать новое русское искусство, соседствовало с тем, что моделью этой конструкции должна стать эволюция французской живописи. И французскую живопись не надо повторять, но нужно действовать так, как французы, и для них в данном случае абсолютно принципиальным был тот образ французского искусства, который сочетал в себе представления о революции и эволюции, когда каждое новое радикальное открытие на самом деле коренится в глубинной логике художественного развития предшествующих десятилетий. И в этом отношении главными оппонентами оказывались, конечно, молодые футуристы, потому что с точки зрения наблюдателя
«Пока последовательно, шаг за шагом не будет пройдена наследственная традиция французской школы за последние сто лет, до тех пор не сумеем мы усвоить и понять смысл и важность откровений. Надо сперва выучить азбуку, а затем уже приняться читать и писать собственные измышления».
Это означало, что нужно учиться у французов, но не пытаясь заимствовать последний крик, а проходить последовательно традицию французской школы.
Принципиально важным проектом журнала «Аполлон», который последовательно знакомил русского читателя с современным художественным процессом на Западе, но расставлял свои акценты, бескомпромиссно отметая, скажем, футуризм и очень осторожно описывая Пикассо, — таким проектом стала в 1912 году одна из лучших выставок французского искусства,
«Наша задача — борьба на два фронта: с мертвыми традициями искусства, унаследованными нами от упадочных живописцев XIX века (все виды „академизма“ и „псевдореализма“), и с революционизмом слепого новаторства, не признающего никакой преемственности».
Речь идет, конечно, о футуристах, и тут очень важно пояснить, что для круга «Аполлона», для Александра Бенуа попытка перенести на русскую почву опыты фовизма или кубизма действительно воспринимались как поверхностное подражание, как отсутствие художественной дисциплины, как самодостаточное экспериментирование. Понятно, что это было несправедливо, но это отношение было глубоко укоренено в художественной идеологии модернистов.
Лучше всего демонстрирует принципиальное различие двух пониманий роли французской живописи отношение к великим создателям современного художественного языка — к постимпрессионистам. Вот Александр Бенуа, описывая свои впечатления от выставки 1912 года в Петербурге, говорит:
«Что означают оба художника, Сезанн и Гоген, в истории эволюции современной живописи? Означают ли они образы, достойные подражания, или же они вехи окончательно пройденного? Если придерживаться раз взятого сравнения с двумя величайшими художниками Возрождения, Микеланджело и Рафаэлем, то ответ должен получиться довольно определенный. Не образчики они, а именно границы, дверь, закрывшаяся на пройденном».
Они действительно часть великой цепи искусства, но из них не растет искусство будущего. Точнее, им нельзя подражать — их можно развивать. И вот художница Ольга Розанова через год, словно бы отвечая Бенуа, в тексте, который знаменательно озаглавлен «Основы нового творчества и причины его непонимания», говорит буквально следующее:
«Указав выше, что все искусство, ранее существовавшее, лишь намеком касалось задач чисто живописного свойства, ограничиваясь в общем повторением видимого, можно сказать, что лишь в XIX веке школой импрессионистов впервые выдвинуты были положения, до тех пор неизвестные: условие воздушно-световой атмосферы в картине, цветовой анализ. Затем следуют Ван Гог, давший намек на принцип динамизма, и Сезанн, выдвинувший вопрос о конструкции, плоскостном и поверхностном измерении. Но Ван Гог и Сезанн — это лишь устья тех широких и стремительных течений, которые являются наиболее определившимися в наше время: футуризм и кубизм».
Либо это дверь, закрывшаяся на пройденном, либо это устье, через которое устремляется поток в будущее. Как мы понимаем, от того, какой образ современной французской живописи будет предложен или навязан русскому зрителю, в очень большой степени зависит то, как мы будем понимать будущее русского искусства — как искусства эволюции или как искусства революции.
И в этом отношении снова встает вопрос о национальной природе русского искусства в начале ХХ века, вопрос очень болезненный для каждого из художественных направлений. Как ни странно, многое в ответе на этот вопрос объединяет мирискусников, аполлоновцев и футуристов. Вообще вопрос о национальном в искусстве в это время остр, потому что новая живопись по определению имеет чужеродную для нее генеалогию — она приходит извне практически в любую страну. Немцы очень болезненно переживают французское воздействие на свое искусство, даже сами французы видят в кубизме результат тлетворного воздействия иностранцев, например немцев. Так что в этой остроте национальной проблематики в России нет ничего оригинального. Мы можем даже сказать с удовлетворением, что, притом что национальные проблемы в Российской империи этой поры стояли чрезвычайно остро, все-таки русская художественная полемика по поводу зарубежного искусства не знала прямых ксенофобских кампаний. Но так или иначе перед каждым из этих художественных объединений стоял вопрос о том, чтобы осознать и предложить обществу свое видение национальной природы современного искусства. Если мы посмотрим на ту серьезность, с которой эта эпоха разговаривает об искусстве, нам придется
«Искусство каждого периода — это одновременно самое полное и самое надежное выражение искомого национального духа, это нечто подобное иероглифу, в котором скрытая сущность нации представляет себя, и потом длящаяся история искусств представляет собой зрелище прогрессивного развития человеческого духа».
Так что искусство и его будущее, искусство и его природа, искусство и его национальные истоки — это очень актуальный и болезненный вопрос для той поры.
И здесь мы сталкиваемся с одной из проблем, которую должен был решить русский авангард — и решал ее с самого начала своего независимого существования. Собственно говоря, русский неопримитивизм, сформированный Ларионовым, Гончаровой, «Бубновым валетом», и решает эту проблему. В свое время литературовед Рудольф Дуганов хорошо очень сказал, что русский футуризм как художественная концепция заимствован с Запада, а вот как эстетическая концепция он родился самостоятельно. Вот эта двойственность природы русского авангарда должна быть принята во внимание, когда мы попытаемся понять, как в это время русские авангардисты принимают и переваривают западное искусство и предъявляют свое понимание его. Это понимание, безусловно, очень индивидуально, оно продиктовано потребностями самого авангарда, его интеллектуальным уровнем и его пониманием задач живописи. Не надо искать в лекциях и статьях Бурлюка о кубизме адекватного отражения принципов кубизма. В этой лекции Бурлюк формулирует свое представление задач живописи, те категории вроде категорий сдвига, которые станут принципиальными для русских футуристов и для русских формалистов. Французское искусство — это оболочка и инструмент для формирования своего понимания задач искусства.
Но, с другой стороны, есть одна проблема, которая особенно остро осознается нашими молодыми художниками именно из-за собственной западной генеалогии: они все время должны оправдываться в том, что они на самом деле независимы, это они представляют современное русское искусство. И в этом отношении им очень важно показать, что на самом деле русский футуризм родился сам по себе, на самом деле русский футуризм использует русские национальные корни. Русский неопримитивизм возрождает лубок; он обязан росписи подносов, провинциальному портрету или вывеске в такой же степени, как Сезанну и Гогену. Отчасти это действительно так: Ларионов сочетает в своей практике уроки импрессионизма и постимпрессионизма, Матисса и свое знание русской фольклорной визуальной культуры. Но нам важно сейчас даже не то, как дело, возможно, обстояло в реальности, а то, как оно отражается в сознании современников. И вот тут действительно футуристам приходится бороться за национальную независимость. И если мы не учтем эту прагматику саморепрезентации футуристов в общественном поле, где над ними тяготеет проклятие подражателей, провинциальных имитаторов парижских экспериментов, а в Париже искусство Матисса, даже если оно страшно, пугающе, то оно логично, оно проистекает из развития французской живописи, а у нас оно механически переносится на чуждую ему почву. Вот если мы не учтем этой проблемы, мы не поймем постепенно нарастающего яростного славянофильства русского футуризма.
Чем дальше, тем больше: примерно с 1913 года в текстах русских футуристов нарастает стремление доказать собственную самостоятельность. В каталоге персональной выставки Наталии Гончаровой 1913 года помещен своего рода манифест, который, скорее всего, принадлежит перу молодого союзника Ларионова и Гончаровой Ильи Зданевича, который выступал в это время как рупор ларионовской группы. И в этом манифесте от имени художницы сказано:
«В начале моего пути я более всего училась у современных французов. Эти последние открыли мне глаза, и я постигла большое значение и ценность искусства моей родины, а через него — великую ценность искусства восточного. Мною пройдено все, что мог дать Запад до настоящего времени, а также все, что, идя от Запада, создала моя родина. Теперь я отряхаю прах от ног своих и удаляюсь от Запада, считая его нивелирующее значение весьма мелким и незначительным. Мой путь — к первоисточнику всех искусств: к Востоку. Искусство моей страны несравненно глубже и значительнее, чем все, что я знаю на Западе. Я заново открываю путь на Восток, и по этому пути, уверена, за мной пойдут многие. Я убеждена, что современное русское искусство идет таким темпом и поднялось на такую высоту, что в недалеком будущем будет играть очень выдающуюся роль в мировой жизни. Современные западные идеи, главным образом идеи Франции, о других не приходится говорить, уже не могут нам оказать никакой пользы, и недалеко то время, когда Запад явно будет учиться у нас».
Я могу привести еще и еще примеры подобного рода вызывающего славянофильства. Надо, безусловно, сделать скидку на то, что перед нами текст полемический, если не прямо провокационный. Но факт остается фактом: в формировании самосознания футуризма перед Мировой войной центральную роль начинает играть представление себя как авангарда, как передового отряда Востока; Востока, который поглощает Китай, Японию, Персию, бескрайние степи Евразии, и неслучайны здесь скифские мотивы будетлян; Востока, который стоит на пороге Европы и готов эту Европу покорить, художественную Европу.
С началом Мировой войны этот мотив становится все более агрессивным. В ноябре 1914 года Маяковский пишет:
«Россия борется за то, чтобы не стать хлебным мешком Запада. Если до сегодняшнего дня Германия не сделала попыток обрубить рост России, то только потому, что видела в нас спеющую колонию, которая, наливаясь, сама упадет в ее зубастую пушками пасть. <…> Пора знать, что для нас „быть Европой“ — это не рабское подражание Западу… а напряжение собственных сил в той же мере, в какой это делается там».
Очень показательно, что когда, допустим, Александр Шевченко, художник ларионовского круга, пишет работу о кубизме, он находит истоки кубизма в египетском творчестве, творчестве Передней Азии и прослеживает их через средневековое искусство и через русскую традицию до последних десятилетий. И тогда оказывается в интерпретации Шевченко, что Пикассо не сделал ничего нового, что Пикассо лишь продолжает ту длительную, почтенную традицию, которую, как получается, русские футуристы возрождают, актуализируют, примыкают к ней. Эта особенность — стремление найти исток в глубинных архаических традициях и таким образом архаизировать современную французскую живопись и через нее — современную живопись Европы и России, — это особенность русского футуристического дискурса последних лет перед Мировой войной и революцией.
Одним из полемических ходов в защите от обвинений в заимствованиях и эклектике, а мы знаем, что и Ларионов, и Гончарова были художниками почти такими же многоликими, как Пикассо, была остроумная идея, которую сформулировал летом и осенью 1913 года Илья Зданевич. Он придумал в диалоге с Ларионовым такое явление, как всёчество. Это изобретенное слово обозначало, что русскому современному творчеству подвластны все времена и эпохи, что современный художник не знает времени. Ларионов в одном из своих текстов написал: «Поль Сезанн, живописец, жил при Рамзесе II». И в своей фиктивной биографии Наталии Гончаровой Зданевич пишет, что Гончарова путешествовала на Таити и общалась там с Гогеном; что она посещала Ван Гога в Арле и переписывалась с Сезанном. Ничего подобного быть просто не могло. И с одной стороны, перед нами, конечно, футуристическая мистификация — я не думаю, что Зданевич хоть на минуту полагал, что
Борьба за интерпретацию искусства Запада одновременно была и борьбой за Восток. Футуристы с мессианской настойчивостью представляли себя носителями восточных ценностей — интуитивных, органических, противостоящих рационалистической западной цивилизации. Но их оппоненты-модернисты, в сущности, играли на том же самом поле. Если мы посмотрим на самую совершенную реализацию мирискуснического проекта — Русские сезоны Дягилева, пережившие колоссальный успех в Париже, — то мы вынуждены будем признать, что Дягилев великолепно рассчитал успех этих представлений, зная ожидания французской публики. Французская публика жаждала экзотики. XIX век в словесности, музыке и живописи сформировал традицию ориентализма — Востока, на котором можно то, что очень хочется дома, но нельзя; Востока цветистого, пряного, привлекательного. Балет — искусство западное, балет — искусство техничное, балет — искусство очень рациональное. И вот Дягилев гениально сыграл на сочетании западного инструмента и восточного духа. Потому что если мы посмотрим на те вещи, которые имели сногсшибательный успех, то это балеты и представления, которые показывают Россию как стихийный, иррациональный, страстный Восток: «Половецкие пляски», «Шехеразада» и даже «Послеполуденный отдых фавна» на музыку Дебюсси в исполнении Нижинского, собственно говоря, и являются торжеством иррациональной чувственности, которая в сознании парижской публики, конечно, ассоциируется с загадочным Востоком.
В этом же контексте находится и война за икону. То, что мы сейчас воспринимаем как образ русской самости, русской непохожести, того, что отличает нас от остального человечества, превратилось в актуальный художественный факт после 1913 года, когда в честь 300-летия дома Романовых в Москве прошла выставка древнерусского искусства, включавшая почти 150 икон из частных собраний, манускрипты, образцы шитья, и это был абсолютно поворотный момент в осознании иконы не просто как «умозрения в красках», как скажет потом философ Евгений Трубецкой, но и как актуального художественного феномена. Бенуа неслучайно назвал это событие «иконной Помпеей»: целый континент расчищенных икон вышел на поверхность и был осознан нашими соотечественниками как художественный памятник и как молчаливый укор современному искусству. Тот же Бенуа очень проницательно отметил, что если бы икона была открыта десять лет назад, она не приобрела бы такого резонанса. Почему? Дело в том, что Бенуа сопоставил проблематику иконы, художественную проблематику, видение иконного живописца, свободного от условностей ренессансной рационалистической картины мира, сопоставил поэтику иконы и живопись современных художников, современных французов. И для него икона стала не воплощением русской специфичности, а наоборот — свидетельством нашей глубинной, исконной причастности к европейскому человечеству. В апреле 1913 года он писал:
«В наши дни большое внимание обращено на Византию. Под Византией подразумевается
какая-то исполинская громада, огрубевшая и замертвевшая еще со дней Юстиниана и продолжавшая пребывать в таком мумиеобразном состоянии чуть ли не до последнего времени. В Византии хотят видеть твердыню нерушимых традиций, приверженность которым спасает нас от гнилого Запада, сообщает нашей истории совершенно особый характеркакой-то забальзамированности и предохраняет нас от тления. Особенно нам кажется ценным византийское искусство как средство против заразы Возрождения, против возвращения к античности, к язычеству, поразившей, согласно многим, весь мир по ту сторону Немана. На самом же деле, с одной стороны, через византийские художественные каноны в Россию уже издавна проникла языческая красота позднего эллинизма. На самом деле я хочу лишний раз подать голос протеста против тех, кто во что бы то ни стало стараются выделить Россию из общей семьи европейских народов и которые для этого своего изуверского намерения готовы и в иконах увидетькакие-то веские подтверждения. Я нахожу чрезвычайно убедительными указания в русской иконописи, и нахожу в неожиданном даже обилии, но говорят они,по-моему , что не что мы быликогда-то отщепенцами, которым ни до чего в мире нет дела, а о том, что лучшее мы создали при слиянности нашей культуры с культурой наших соседей и братьев. Ежели же это так было, то так оно и впредь должно быть. Да и сейчас в возрождении икон грешно видеть поворот в сторону, в старинку, а нужно понять, что и в этом явлении кроется новый призыв к поступательному движению, к соединению своих усилий с усилиями самых передовых и самых прозорливых художников. Кто теперь станет просто копировать иконы, будет просто жалким эпигоном, имитатором и провинциалом. Кто же поймет, что иконы говорят, и говорят особенно громко и веско, то же самое, о чем стали говорить Гоген, Сезанн и сейчас говорят кубисты, те могут выйти на широкую дорогу и останутся в Европе со всеми ее принципами».
Эта интерпретация иконы, попытка присвоить ее и попытка предложить молодому поколению то, чего, по мнению Бенуа, у него не было, вызвала ярость Давида Бурлюка. Дело в том, что Бенуа напоминал футуристам, что в иконе, помимо формальной остроты, сложности и современности, было духовное содержание. Это искусство было не само по себе, а во имя
«Критики [подобные Бенуа] западное искусство превратили в глыбу и стали им накатывать, стали душить новое в русской живописи. Мы им открыли это новое в западной живописи. Мы выли и кричали, восхищаясь Сезанном, Гогеном и Ван Гогом — кои открыли нам глаза — не к подражанию, а на возможность свободы… <…> Молодое русское искусство встало на ноги — у Запада и в искусстве великом народном нашей отчизны — мы научились одной великой истине: что нет определенного понимания… формы, линии, цветовой инструментовки…
<…> Что надо бояться авторитетов. Что надо верить и в свое искусство, и в искусство своей родины. Что Россия не есть художественная провинция Франции!»
Изоляция, начавшаяся с Первой мировой войной и многократно усилившаяся во время Гражданской войны, привела к тому, что русское искусство оказалось в плодотворном одиночестве. Мы больше не знали, что происходит в Париже. И притом что французское искусство замерло в 1914 году — оно выглядело для русского человека теперь так, как выглядел остановившийся музей Щукина, — оно продолжало оставаться молчаливым участником диалога. Но отрешенность от развития позволила русским художникам, прежде всего нового поколения футуристов, прийти к абсолютно радикальным, революционным выводам — супрематизму, конструктивизму, производственному искусству. И очень важно, что эти выводы, демонстрирующие свободу, выход в принципиально новую проблематику, были сделаны именно в эпоху изоляции. Получив очень плодотворный импульс от французского искусства, русские художники перешли к собственным проблемам. Как потом хорошо сказал Кузьма Петров-Водкин, полезное, здоровое одиночество, которое «не было остановкой у разбитого корыта французских мастеров от Щукина».


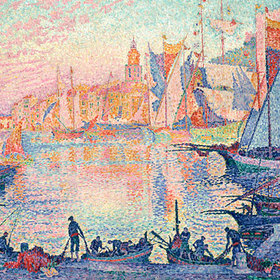








Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости