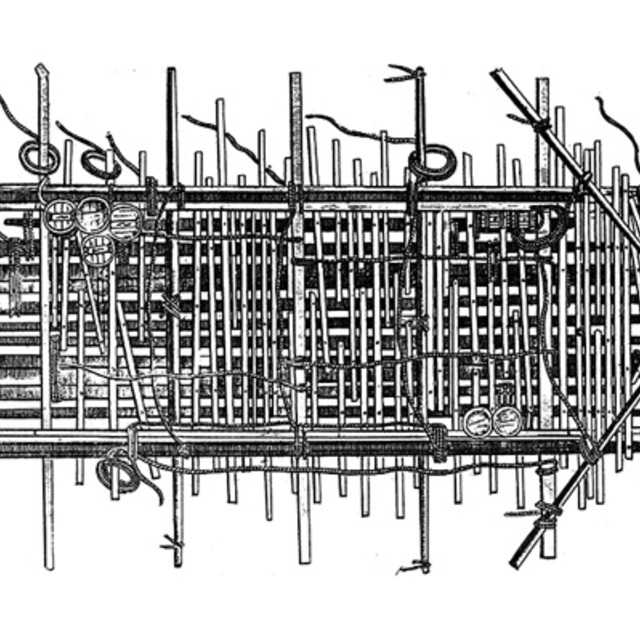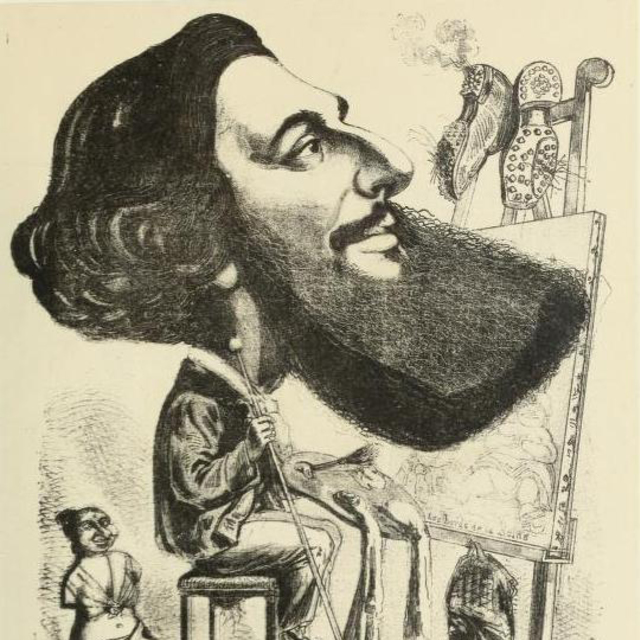Радио романтика
Треки, которые могли оказаться в плеере европейского романтика, — и ответ современных музыкантов на вопрос, чем музыка романтизма отличается от всей остальной

1835–1848 годыИсполнение: Андреас Мюлен (фортепиано)

Григорий Кротенко, контрабасист, преподаватель Московской консерватории (кафедра виолончели и контрабаса):
— Музыка романтизма субъективна; в ней «я» противопоставлено всему миру: я чувствую, я вижу, я переживаю, я умираю. Не случайно главными героями этой эпохи стали пианисты Лист и Шопен: фортепиано — инструмент самодостаточный. Шопен не написал ни одной симфонии, его наследие почти целиком — пьесы для фортепиано соло: ноктюрны, сонаты, прелюдии. Вот я болен, здесь я счастлив, а тут у меня сплин — через свои салонные пьесы Шопен рассказывает обо всем самом важном, иногда превращая интимный дневник в высокую трагедию. У романтиков расцветает жанр концерта для сольного инструмента с оркестром — огромным романтическим оркестром в сотню человек: я против всех, я — особенный. Я — гений. Дирижер поворачивается спиной к публике. Теперь он гегемон, диктатор, медиум. Эта музыка нравится, потому что строится на контрасте крайних эмоциональных состояний человека, которые спроецированы на весь окружающий мир: всемирной влюбленности, вселенской катастрофы, всечеловеческой радости. «Обнимитесь, миллионы!» — поется в финале Девятой симфонии Бетховена, написанном на стихи Шиллера. Почему романтическая музыка такая понятная и близкая каждому? Она сделана из интонаций, интонации — это самый непосредственный, самый древний язык, бывший до слов, когда слова еще не понадобились. И так ясно, когда весело, когда больно, когда грустно. Мы слушаем Шопена или Вагнера и невольно «пропеваем» горлом все направления мелодий, все мотивы, даже если молчим: голосовые связки все равно напрягаются, повторяя за слухом. Музыка проникает в нас на физиологическом уровне, мы переживаем вместе с ней. Интонации Вагнера, внедряясь в нашу гортань, в наш мозг, делают нас самих отчасти Вагнерами. Слушатель отождествляет себя с тем первым лицом, от которого в романтической музыке ведется повествование. Поскольку исторически развитие романтизма совпадает с европейским национальным движением, то мы видим, что каждая нация выдвинула композитора, который обязательно использовал музыкальные особенности своего народа и именно потому стал знаменит. Представления оперы Джузеппе Верди «Набукко» (1842) часто заканчивались митингами и даже восстаниями, итальянцы во главе с Гарибальди шли на смерть, распевая «Va, pensiero», — этот хор стал неофициальным гимном Италии; симфоническая поэма «Влтава» Сметаны стала вторым гимном чехов; немцы, можно сказать, создали государство под звуки Вагнера; «Ода к радости» Бетховена стала гимном Евросоюза; а долгое время считавшаяся первой русской оперой «Жизнь за царя» Глинки содержит в себе целых два хора, в разное время чуть было не ставших официальным гимном России и СССР: «Родина моя» и «Славься».

Александр Маноцков, композитор:
— Обычно «официальные» объяснения, что такое романтизм, ограничиваются «большей эмоциональностью», «вниманием к внутреннему миру», «песенностью и опорой на фольклор». Можно подумать, у Моцарта мало эмоциональности, у Баха — мало внимания к внутреннему миру, а у Гайдна — опоры на фольклор. Почему мы угадываем мелодический оборот как «вероятно-брамсовский» или «вероятно-венско-классический», вот что интересно. Почему интонации именно романтические стали основой русского фольклорного «поздняка», а потом и шансона? Почему, например, моцартовская «Фантазия ре минор» — не романтизм, хотя по всем внешним признакам — похоже? Еще интересная тема — беспомощность романтической техники в отношении русского фольклора. Немецкий фольклор прямо стал основой, норвежский — посопротивлялся, но Григ нашел для него