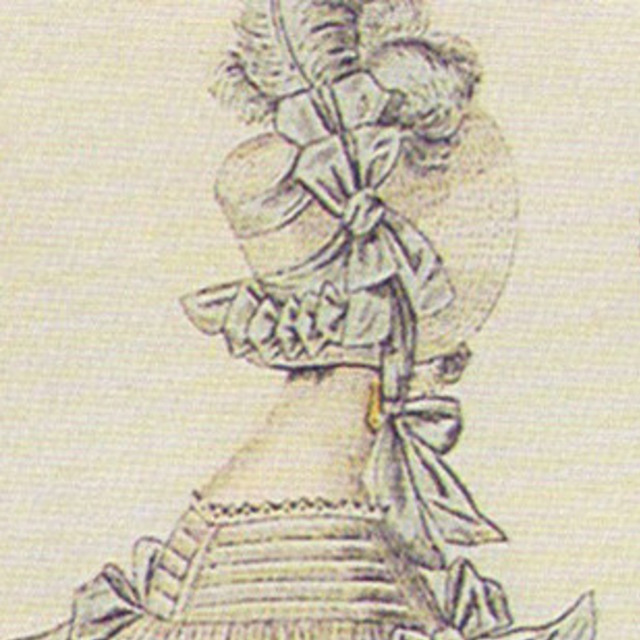Пять денди из России

Петр Чаадаев (1794–1856)
На российскую мужскую моду XIX века особый отпечаток накладывали дискуссии между славянофилами и западниками: выбор костюма иногда целиком зависел от позиции человека в этом споре. Либералы-западники предпочитали одеваться как европейцы, и среди них было немало людей, которых можно причислить к денди.

Знаменитый философ и либерал Петр Чаадаев отличался, по свидетельству его друга и биографа Михаила Жихарева, «необычайным изяществом» костюма:
«Одевался он, можно положительно сказать, как никто. Нельзя сказать, чтобы его одежда была дорога, напротив того, никаких драгоценностей, всего того, что люди зовут „bijou“, на нем никогда не было. Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда, ни после, ни прежде, не видал никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы достоинством и грацией своей особы придавать значение своему платью. В этой его особенности было что-то, что, не стесняясь, можно назвать неуловимым. На нем все было безукоризненно модно, и ничто не только не напоминало модной картинки, но и отдаляло всякое об ней помышление. Я не знаю, как одевались мистер Бруммель и ему подобные, и потому воздержусь от всякого сравнения с этими исполинами всемирного дендизма и франтовства, но заключу тем, что искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения».
Славянофилы тоже уделяли внимание одежде — впрочем, их способ одеваться в стиле а-ля рюс скорее вызывал у окружающих иронию. Так, денди Иван Панаев вспоминает, как Константин Аксаков «наделал в Москве большого шуму, появляясь в смазных сапогах, красной рубахе и в мурмолке Мурмолка — высокая шапка с плоской тульей из алтабаса (тяжелая персидская парча), бархата или парчи, с меховой лопастью в виде отворотов, которые спереди пристегивались к тулье петлями и пуговицами (из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона). »: Он даже уговаривал великосветских дам облачиться в сарафаны:
«На одном бале (это было в сороковых годах) он подошел, говорят, к известной тогда в Москве по своей красоте К.
— Сбросьте это немецкое платье, — сказал он ей, — что вам за охота носить его? Подайте пример всем нашим дамам, наденьте сарафан. Как он пойдет к Вашему прекрасному лицу!..
В то время как он с жаром говорил ей это, к ней подошел тогдашний московский военный губернатор князь Щербатов. Она заметила ему, что Аксаков уговаривает ее постоянно носить сарафан. Князь Щербатов улыбнулся...
— Тогда и нам надо будет нарядиться в кафтаны? — возразил он не без иронии, взглянув на Аксакова.
— Да! — сказал К. Аксаков торжественным голосом, сверкнув глазами и сжав кулак. — Скоро наступит время, когда мы все наденем кафтаны!
Князь Щербатов, при таком энтузиазме, поспешил удалиться.
— Что такое у Щербатова произошло с Аксаковым? — спросил кто-то у Чаадаева, бывшего свидетелем этой сцены.
— Право, не знаю хорошенько, — отвечал Чаадаев, слегка улыбаясь, — кажется, Константин Сергеич уговаривал военного губернатора надеть сарафан... что-то вроде этого...»
Александр Пушкин (1799–1837)
Пушкин, создатель главного русского литературного денди Онегина, сам был известен своей холодной насмешливостью, бретерством, изяществом, светским тщеславием и вниманием к костюму.
Алексей Николаевич Вульф, близкий друг Пушкина, описывает, как однажды застал его в Михайловском за работой над «Арапом Петра Великого». Поэт был в красной шапочке и в халате, «за рабочим столом, на коем были разбросаны все принадлежности уборного столика поклонника моды».
Среди денди узкая талия считалась важным признаком мужской красоты. До середины XIX века модники носили корсеты, но в идеале денди должен был быть очень стройным — иначе он не смог бы носить узкие панталоны в обтяжку и фрак, который должен был идеально облегать фигуру. Пушкин с гордостью писал брату о стройности своей талии: «На днях я мерился поясом с Евпраксией, и тальи наши нашлись одинаковы. Следовательно, из двух одно: или я имею талью 15-летней девушки, или она талью 25-летнего мужчины».

Как всякого денди, Пушкина в первую очередь характеризуют не только элегантные костюмы, но и экстравагантное поведение. В воспоминаниях известной актрисы Александры Каратыгиной есть такой эпизод:
«В 1818 году, после жестокой горячки, ему [Пушкину] обрили голову и он носил парик. Это придавало какую-то оригинальность его типичной физиономии и не особенно ее красило. Как-то, в Большом театре, он вошел к нам в ложу. Мы усадили его, в полной уверенности, что здесь наш проказник будет сидеть смирно... Ничуть не бывало! В самой патетической сцене Пушкин, жалуясь на жару, снял с себя парик и начал им обмахиваться, как веером... Это рассмешило сидевших в соседних ложах, обратило на нас внимание и находившихся в креслах. Мы стали унимать шалуна, он же со стула соскользнул на пол и сел у нас в ногах, прячась за барьер; наконец, кое-как надвинул парик на голову, как шапку: нельзя было без смеха глядеть на него! Так он и просидел на полу во все продолжение спектакля, отпуская шутки насчет пьесы и игры актеров. Можно ли было сердиться на этого забавника?»
В своих насмешках Пушкин иногда почти буквально цитировал выходки лондонских денди. Так, в воспоминаниях о Пушкине Надежды Еропкиной, записанных ее внуком Александром Сомовым, рассказывается об одной из светских встреч Еропкиной с поэтом:
«Пушкин стал с юмором описывать, как его волшебница-муза заражается общею ленью. Уж не порхает, а ходит с перевальцем, отрастила себе животик и „с высот Линдора перекочевала в келью кулинара“. А рифмы — один ужас! (Он засыпал меня примерами, всего не упомнишь.)
— Пишу „Прометей“, а она лепечет „сельдерей“. Вдохновит меня „Паллада“, а она угощает „чашкой шоколада“. Появится мне грозная „Минерва“, а она смеется „из-под консерва“. На „Мессалину“ она нашла „малину“, „Марсу“ подносит „квасу“. „Божественный нектар“ — „поставлен самовар“ <...> Кричу в ужасе „Юпитер“, а она — „кондитер“».
Юрий Лотман, сомневавшийся в достоверности записок Еропкиной, заметил по поводу этого эпизода, что в романе английского писателя Эдварда Бульвера-Литтона «Пелэм, или Приключения джентльмена» (описывающем жизнь молодого денди Раслтона, в котором отразились черты Джорджа Браммела, и являвшимся своего рода беллетризованной программой дендизма) есть место, очень близкое к «пушкинскому» тексту из воспоминаний Еропкиной. Там один из героев описывает свои попытки заняться стихотворством: «Начал я эффектно: „О нимфа! Голос музы нежный мог...“ Но как я ни старался — мне приходила в голову одна лишь рифма — „сапог“. Тогда я придумал другое начало: „Тебя прославить надо так...“ — но и тут я ничего не мог подобрать, кроме рифмы „башмак“».
Известно, что Пушкин знал роман Бульвера-Литтона и книга произвела на него сильное впечатление (он даже собирался писать роман «Русский Пелам»). С другой стороны, мы знаем, что поэт очень не любил вести в светском обществе литературные разговоры — зато любил изображать литературных персонажей. Поэтому Лотман предполагает:
«В данном случае он... хотел надеть маску денди, „чтобы сгладить с себя несносное прозвище“ литератора. Для этого персонаж из „Пелэма“ — „джентльмен-неписатель“ подходил лучше всего, и Пушкин явился перед Еропкиной Раслтоном. Видимо, со временем большинство его каламбурно-неожиданных рифм стерлось из ее памяти, но сохранилась устойчивая схема: „поэтизм“ — „кулинаризм“... <...> Московское общество — не лондонское, джентльмен, суеверно следящий за своим туалетом, здесь будет так же заметен, как и поэт. Московский „свет“ имеет другое лицо:
Как не любить родной Москвы!
Но в ней не град первопрестольной,
Не золоченые главы,
Не гул потехи колокольной,
Не сплетни вестницы-молвы
Мой ум пленили своевольной.
Я в ней люблю весельчаков,
Люблю роскошное довольство
Их продолжительных пиров,
Богатой знати хлебосольство
И дарованья поваров.Следуя этому стереотипу, Пушкин изменил „туалетный“ характер рифм Бульвера-Литтона на „гастрономический“, придав своей игровой маске черты „местного колорита“».
Константин Булгаков (1812–1862)
Военный мундир — с точки зрения европейского денди, подавлявший индивидуальность — в России, наоборот, пользовался уважением модников: он позволял заниматься внешним видом, не теряя при этом мужественности. Ношение военного мундира было непростым делом: форма была маркой, затрудняла движения, в некоторых случаях в ней было невозможно сидеть. Так, в кавалергардском полку белые рейтузы из лосиной кожи надевали влажными, чтобы они идеально облегали ноги. Корсеты, которые носили военные, тоже доставляли им немало страданий.
В числе российских военных денди в начале сороковых годов был гвардейский офицер Константин Александрович Булгаков. Он относился к одежде
с большим вниманием. Писательница Авдотья Панаева (первым мужем которой был денди Иван Панаев) вспоминает:
«Булгаков в один мартовский день явился на Невский без шинели и обращал внимание всех гуляющих своим сюртуком ярко-зеленого цвета, с длинными полами. Дело в том, что вышел приказ заменить черное сукно на военных сюртуках зеленоватым и полы сделать несколько подлиннее. Булгаков первый сделал себе новую форму, но преднамеренно утрировал ее».
Известна эпиграмма Лермонтова на Булгакова:
На вздор и шалости ты хват
И мастер на безделки
И, шутовской надев наряд,
Ты был в своей тарелке;
За службу долгую и труд
Авось на место класса,
Тебе, мой друг, по смерть дадут
Чин и мундир паяса.
1831
С английскими денди Булгакова также сближает тот факт, что о нем ходили многочисленные анекдоты. В одном из них Константин Булгаков после нескольких дней загула шел по улице в шинели, накинутой на халат, в фуражке без козырька и с многодневной щетиной и встретил великого князя Михаила Павловича, адъютантом которого служил. Великий князь разгневанно спросил: «На кого вы похожи?» Булгаков ответил: «Ваше Высочество, все говорят, что на бабушку!» В другом анекдоте на вопрос великого князя о некой певице Булгаков отвечает: «Талант у нее не отнимешь, Ваше Высочество... Как отнять то, чего нет».
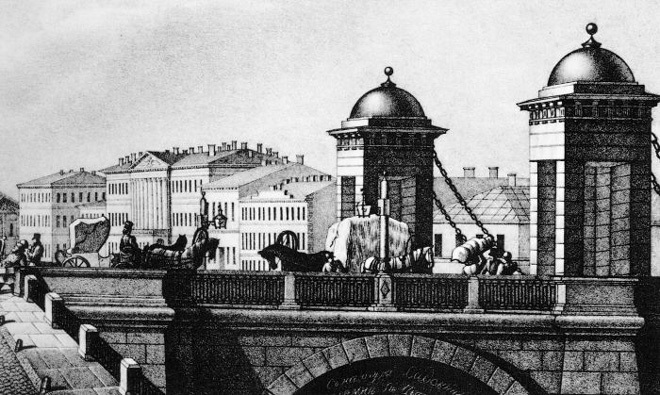
В большинстве историй речь идет именно о взаимоотношениях Булгакова с великим князем Михаилом Павловичем, и это снова напоминает об английском денди Джордже Браммеле, находившемся в сложных отношениях с принцем-регентом Георгом, будущим королем Георгом IV. Одна из историй, в которой дружба с великим князем повышает уровень доверия кредиторов к Булгакову, особенно характерна:
«Однажды Михаил Павлович встречает Булгакова у Аничкина моста. На этот раз его высочество видит, что Булгаков в полной форме с головы до ног. „Ваше Высочество, — говорит он, подойдя к нему, — осмелюсь просить оказать мне великую милость: дозвольте пройти с вами по Невскому“. — „Для чего тебе это нужно?“ — спрашивает его великий князь. „Чтобы поднять мой кредит, который сильно упал“. Великий князь дозволил ему дойти с ним до Казанского моста».
Про Джорджа Браммела рассказывали, что кредиторы не могли отказать ему, пока он дружил с принцем-регентом. Рассорившись с Георгом, Браммел был вынужден бежать из Англии, поскольку не мог выплатить долги.
Иван Панаев (1812–1862)
В 1856 году Панаев — модник, писатель и литературный критик — выпустил книгу под названием «Хлыщи», в которую вошли очерки «Великосветский хлыщ», «Провинциальный хлыщ» и «Хлыщ высшей школы». Своей целью автор объявлял описание петербургской светской «зоологии». Таким образом, Панаев ввел в русский язык слово «хлыщ» — пародийный аналог английского слова «денди», «фат, франт, щеголь, повеса, басист» по Далю.
Кроме того, Панаев писал о моде в журнале «Современник», возрожденный им вместе с Некрасовым в 1847 году.

Панаев состоял на службе в государственном казначействе и был вынужден носить мундир — гражданский, а не военный, а потому далеко не такой привлекательный:
«Однажды я приехал в департамент в вицмундире и в пестрых клетчатых панталонах, которые только что показались тогда в Петербурге. Я надел такие панталоны один из первых и хотел щегольнуть ими перед моим департаментом. Эффект, произведенный моими панталонами, был свыше моего ожидания. Когда я проходил через ряд комнат в свое отделение, чиновники штатные и нештатные бросали свои занятия, улыбаясь, толкали друг друга и показывали на меня. Этого мало. Многие столоначальники и даже начальники отделения приходили в мое отделение посмотреть на меня; некоторые из них подходили ко мне и говорили: „Позвольте полюбопытствовать, что это на вас за панталоны?“ — и дотрагивались до них. А один из столоначальников — юморист — заметил: „Да они, кажется, из той же самой материи, из которой кухарки делают себе передники“. Панталоны мои произвели такой шум и движение в департаменте, что В. М. Княжевич обернулся к моему столу, посмотрел на меня искоса и потом, проходя мимо меня, заметил мне, что я неприлично одеваюсь».
Иван Гончаров (1812–1891)
Известно, что Гончаров носил визитку, серые брюки с лампасами, прюнелевые ботинки и часы на короткой цепи с брелоками. В серии очерков «Письма столичного друга к провинциальному жениху», опубликованных в журнале «Современник» в 1848 году в отделе моды, он классифицировал российских модников.
Письма написаны от человека, который обращается к своему старшему брату, с тем чтобы научить его «умению жить» — то есть следить за своей внешностью, вести себя в свете и, более того, сохранять определенный нравственный настрой.
Первый тип — «франт»: человек, умеющий безукоризненно одеваться.
«Чтобы надеть сегодня привезенные только третьего дня панталоны известного цвета с лампасами или променять свою цепочку на другую, он согласится два месяца дурно обедать. Он готов простоять целый вечер на ногах, лишь бы не сделать, сидя, складок на белом жилете; не повернет два часа головы ни направо, ни налево, чтоб не помять галстуха».
Второй тип — «лев», овладевший не одной, а всеми внешними сторонами умения жить.
«Он никогда не оглядывает своего платья, не охорашивается, не поправляет галстуха, волос; безукоризненный туалет не качество, не заслуга в нем, а необходимое условие... Это блистательная, обширная претензия: не теряться ни на минуту из глаз общества, не сходить с пьедестала, на который его возвел изящный вкус».
Поскольку лев чувствует, что будет в моде завтра, он становится лидером моды — ему все подражают.
Третий тип — человек хорошего тона. Он в первую очередь занят удовлетворением собственных потребностей — и делает все так, как ему лично нравится, а не чтобы произвести наибольший эффект на окружающих. При этом у него хороший вкус и он прекрасно умеет обращаться с людьми:
«Человек хорошего тона никогда не сделает резкой, угловатой выходки, никогда не нагрубит, ни нагло, ни сентиментально ни на кого не посмотрит и вообще ни с кем ни в каком случае неуклюже, по‑звериному, не поступит. Он при встрече в первый раз с человеком не обдаст его, ни с того ни с сего, ни холодом, ни презрением, не станет и юлить перед ним; не попросит у него денег взаймы и, разумеется, не даст и своих».

И наконец, четвертый типаж — порядочный человек, который сочетает наружное с внутренним, нравственным: он не может нарушить кодекс чести — например, обмануть, не отдать долг или смошенничать, играя в карты. Именно человек, принадлежащий к четвертому типу, может войти в «избранное, изящное общество», которое «везде, на всей земле одно и то же, и в Вене, и в Париже, и в Лондоне, и в Мадриде. Оно, как орден иезуитов, вечно, несокрушимо, неистребимо, несмотря ни на какие бури и потрясения; так же, как этот орден, оно имеет свое учение, свой, не всем доступный, устав и так же держится одним духом, несмотря на мелочное различие форм, одною целию всегда и везде — распространять по лицу земли великую науку — уменье жить».