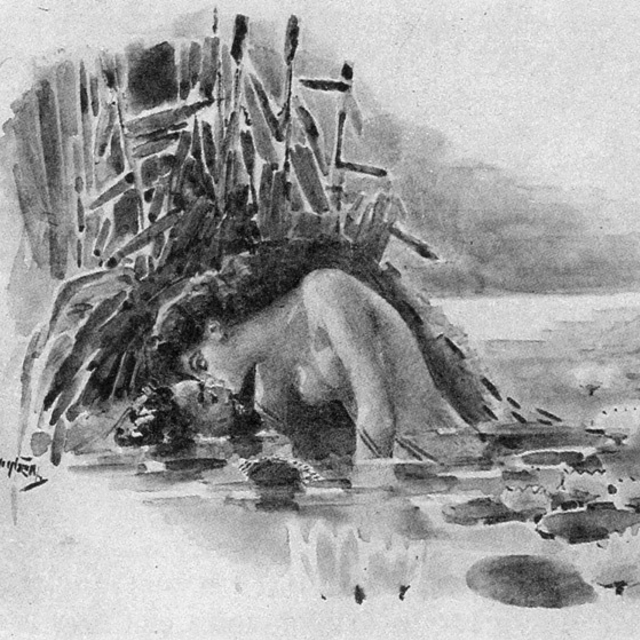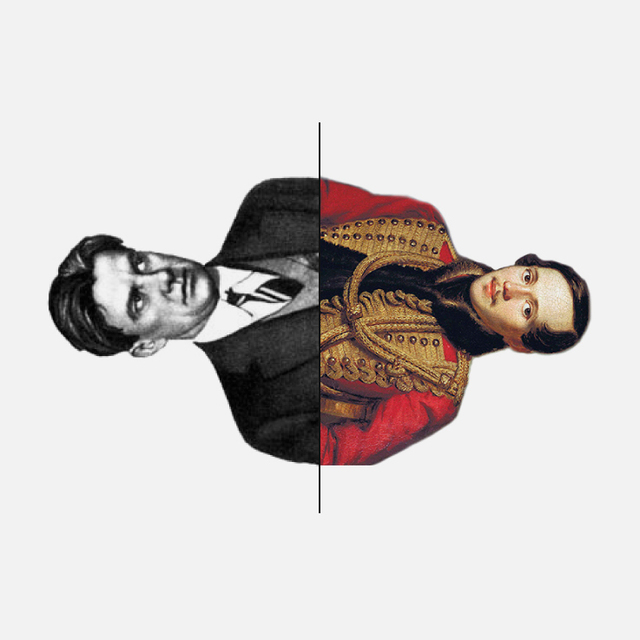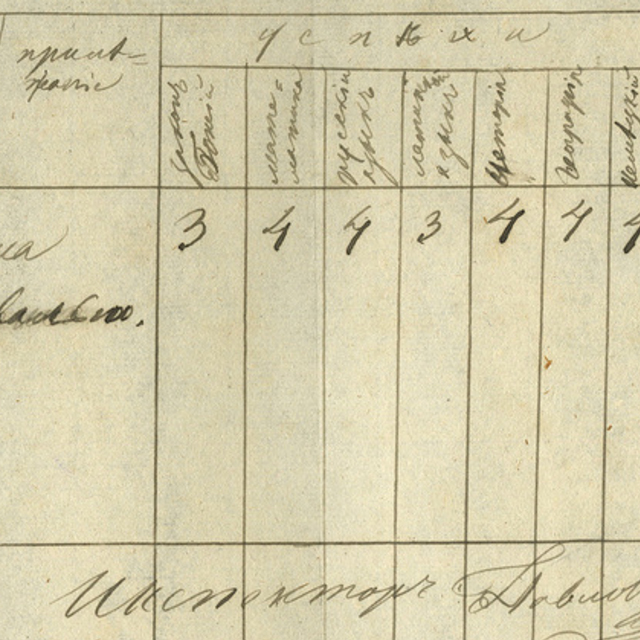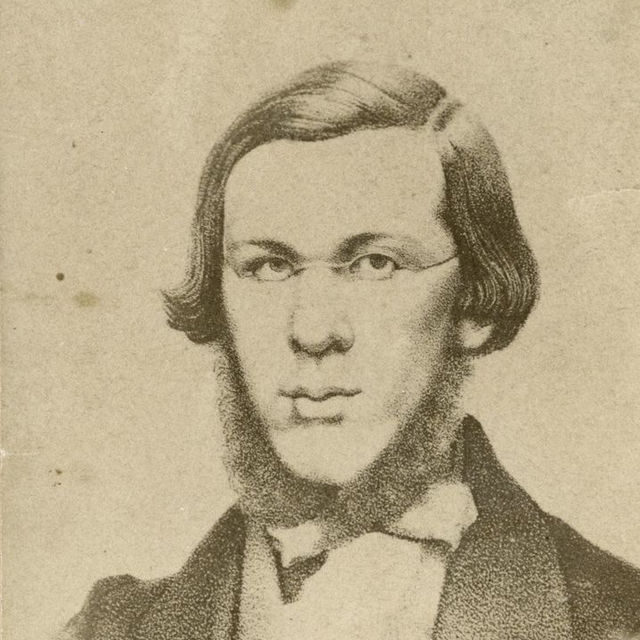Романсы Лермонтова на новый лад
Композитор Валентин Сильвестров, написавший среди прочего несколько песен на тексты Лермонтова, в книге «Дождаться музыки» объясняет, как вернуть жизнь до боли знакомым строчкам и как лучше их исполнять
«Тихие песни» — это цикл из 24 песен на стихи классических поэтов; в том числе в него включены четыре песни на стихи Лермонтова.
О мелодии

В принципе, цикл «Тихие песни» рассчитан на то, чтобы его исполняли без перерывов. Тогда ощущается, что это вещь поставангардная. <...> Стихи тут в основном известные, антологические.
<...> На эти стихи писали и классики — Глинка, Чайковский, Рахманинов, — но в то время персонажем был человек, поющий этот текст. Здесь же не персонаж поет стихотворение, а стихотворение само себя поет, это немного разные вещи. В записи этот нюанс, возможно, не так заметен, но при живом исполнении ощущается, что это особый тип изложения, который, кстати, не все выдерживают. У меня был один случай в Свердловске. Там исполнялась только часть цикла, и тем не менее один слушатель не выдержал и на самой благодатной песне, «Когда волнуется желтеющая нива», пошел с проклятьями по рядам. <...> Он хотел послушать концерт современной музыки, авангардной. А тут — простая вроде бы музыка, связанная с мелодией. Может быть, это его так возмутило.
Но мелодия — вещь ранимая. В общем, эти песни связаны с мелодической формой, именно с мелодией, а не просто мелодизмом: не скрывается куплетность, рифма не скрывается. Все это поется sotto voce, вполголоса.
Сочинялся он [цикл] где-то три или четыре года, с 1974 по 1977 год. Точнее, он даже не сочинялся, а образовывался как-то незаметно. Первой я написал песню «Сквозь волнистые туманы» Пушкина. Сначала она была одна, потом к ней начали присоединяться другие песни. И только по мере того как они начали кучковаться, находить себе «сестер», «братьев», стали происходить такие вещи, как с таблицей Менделеева: какая-то клетка пустовала, а потом она ему приснилась, то есть приснилось, что какого-то H2O не хватает. У меня тоже возникали какие-то пустоты, которые потом заполнялись. То есть сначала это были просто отдельные песни, ни на что не претендующие. Но именно благодаря тому, что они начали объединяться, они стали усиливать друг друга.
О стихах
Само стихотворение (я имею в виду стихотворение, в котором есть ритм) — оно уже как бы намекает на музыку: пропорции, чередующиеся строфы. Именно поэтому музыка и поэзия вначале были едины. Но потом они разделились для того, чтоб обрести свободу поодиночке. Хотя и сейчас есть так называемые барды. У них музыка и поэзия пребывают в единстве, но там и поэзия должна быть не совсем доведена, и музыка должна быть более слабой, тогда получается цельный продукт. Часто говорят — хотя это, может быть, и не совсем правильно, — что на менее значительные тексты музыку писать легче. Тут причина именно в том, что музыка свободнее себя чувствует, когда текст не претендует на совершенство. Он, может быть, чем-то и задевает композитора (своими эмоциями, например), но потом композитор обращается с ним совершенно свободно.
В момент своего возникновения тексты (в особенности классические, антологические, то есть тексты, которые все знают) были живыми, и их читали вслух. Затем стали читать вслух все меньше и меньше, а потом вообще начали читать одними глазами. Если какой-то чтец и берется их исполнять, то слушать его невозможно, потому что их мало кто может прочесть по-настоящему хорошо. И стихотворение усыхает. То есть оно хотя и живет, но живет как бабочка под стеклом. Да, эта бабочка и под стеклом сохраняет свою красоту, но музыка на мгновение как бы возвращает ей жизнь, словно бы подпитывает ее живой водой, и она освобождается из-под стекла, чтобы немного полетать — хотя бы для самого композитора. Получается, что те, кто прикасается к таким текстам, как бы оживляют их и не дают им стать просто хрестоматийными. То есть эти священные тексты, которые вроде бы всем уже надоели, вновь оживляются.
Кроме того, поскольку тексты такого рода все уже знают, у музыки появляется дополнительная свобода. Что-то подобное происходит и с текстами литургическими.
Тут речь идет о профанной культуре, но она тоже имеет свои священные тексты. Мы называем их антологическими: определенный тип людей в этой культуре их знает или вынужден знать. И вот желательно на эти тексты писать, писать и писать, как пишут музыку на тексты литургические, чтобы они оживали.
Но тут есть одна проблема. Часто композиторы делают так: берут эти тексты и навязывают им музыку. В частности, у Шостаковича (он писал вещи на стихи Пушкина) есть, по-моему, какое-то навязывание его лексики стихотворению. Возможно, тогда это было и нужно. А тут, я думаю, важно услышать стихотворение, как оно само себя хочет произнести.
<...>
Конечно же, стихотворение имеет свою музыкальную инерцию. Это то, что преобладает, например, у дилетантов: они слышат не само стихотворение, а его структуру, переносят ее в музыку, в результате чего получается такое анонимное совпадение. В этой анонимности стихотворение тоже может жить, но благодаря каким-то дополнительным, не музыкальным средствам: тому, как человек поет, искренне ли он поет, в какой обстановке поет — у костра, другу под гитару и прочее.
Вместе с тем в каждом стихотворении есть определенная зона выражения, желаемого этим стихотворением. В эпоху его возникновения эта зона была более узкой, но когда прошло 150 лет, она расширилась. Потому что в том же языке благодаря развитию искусства и гармонии возникли какие-то новые ходы и лабиринты, которые раньше не были доступны. Так у стихотворения появилась возможность быть актуальным, не выпячивая свою актуальность.
О манере исполнения
Возникает какое-то странное ощущение: выходит на сцену дядька и поет.
Не выпивший! Когда-то мы ездили в фольклорную экспедицию. И вот мы приходим в село, просим: «Спойте что-нибудь». А в ответ: «Ну, как же так просто спеть-то?!» Потому что петь нужно в состоянии сильного горя, или большой радости, или — выпить! А когда смотришь на академического певца, то мотивировки не чувствуешь, потому что все губит какая-то подлая, возвышенная манера. <...>
В нотах написано, как нужно петь, каким голосом: отрешенно, не сентиментально, вслушиваясь в себя (а не изучая, кто там на тебя как смотрит). Если это есть, возникает ощущение иносказания, которое говорит о том, что это музыка поставангардного периода.
О том, как сказать новое
Шенберг сформулировал одну мысль, ее можно рассматривать как парадокс: «Для того чтобы сказать то же самое, нужно сказать иначе». <...> Я этот парадокс переворачиваю: для того чтобы сказать иначе, нужно сказать то же самое. Тут есть связь с метафоричностью. Когда ты говоришь то же самое, но с определенным индексом, то возникает какой-то намек или знак, что ты говоришь что-то иное. А иное здесь — это, конечно, тишина, молчание. Это молчание озвучено стихами и музыкой. То есть оно дается через тексты, как будто бы не молчащие. У того, кто прослушает все песни и уйдет без проклятий, должно оставаться ощущение тишины в сознании.