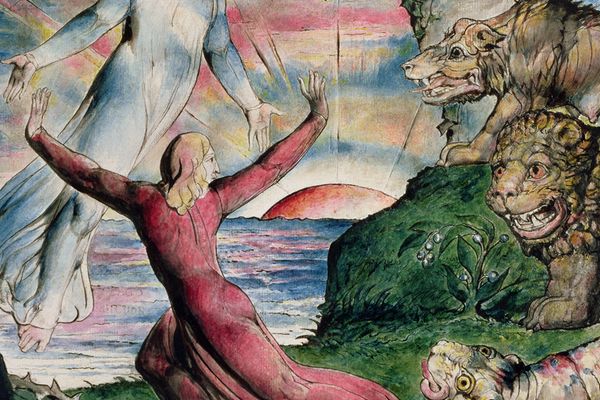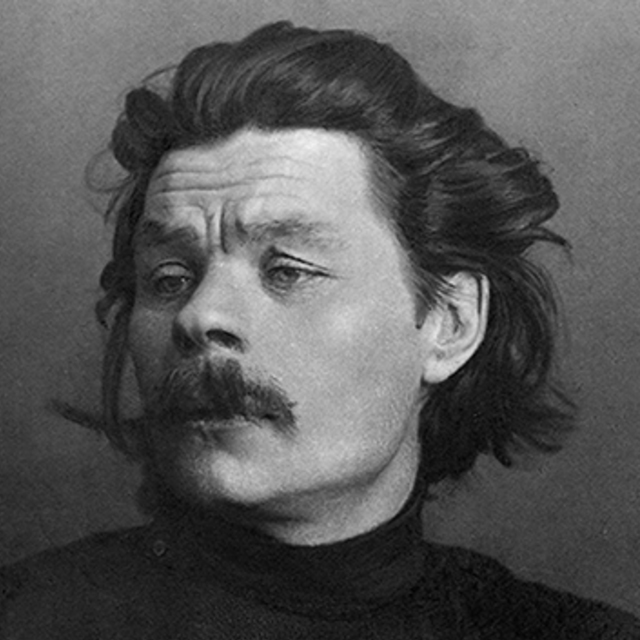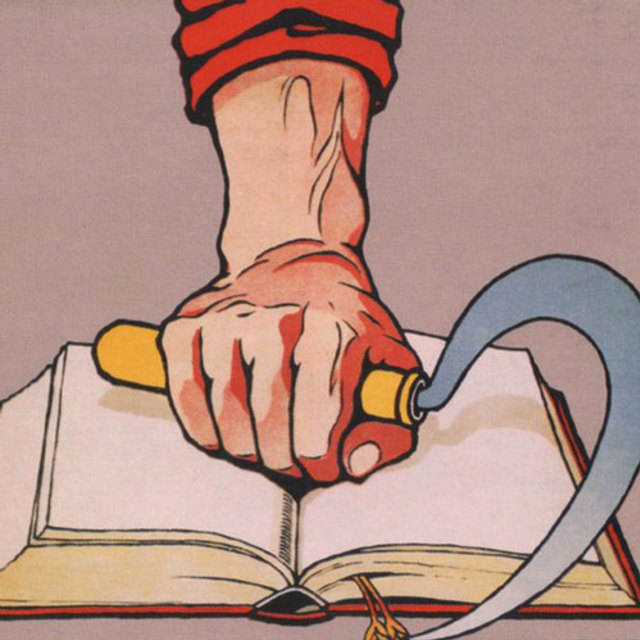Поэтические селфи

Кипренскому
Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых муз, —
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит:
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид.
1827

***
Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум не много совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или бог — или никто!
1832

***
Я за то глубоко презираю себя,
Что живу — день за днем бесполезно губя;
Что я, силы своей не пытав ни на чем,
Осудил сам себя беспощадным судом
И, лениво твердя: я ничтожен, я слаб! —
Добровольно всю жизнь пресмыкался как раб.
Что, доживши кой-как до тридцатой весны,
Не скопил я себе хоть богатой казны,
Чтоб глупцы у моих пресмыкалися ног,
Да и умник подчас позавидовать мог!
Я за то глубоко презираю себя,
Что потратил свой век, никого не любя,
Что любить я хочу... что люблю я весь мир,
А брожу дикарем — бесприютен и сир,
И что злоба во мне и сильна и дика,
А хватаюсь за нож — замирает рука!
1845

***
Я — изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты — предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.
Я — внезапный излом,
Я — играющий гром,
Я — прозрачный ручей,
Я — для всех и ничей.
Переплеск многопенный, разорванно-слитный,
Самоцветные камни земли самобытной,
Переклички лесные зеленого мая —
Все пойму, все возьму, у других отнимая.
Вечно юный, как сон,
Сильный тем, что влюблен
И в себя и в других,
Я — изысканный стих.
1903

Эпилог
1
Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!
От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провел.
Я покорил литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!
Я — год назад — сказал: «Я буду!»
Год отсверкал, и вот — я есть!
Среди друзей я зрил Иуду,
Но не его отверг, а — месть.
«Я одинок в своей задаче!» —
Прозренно я провозгласил.
Они пришли ко мне, кто зрячи,
И, дав восторг, не дали сил.
Нас стало четверо, но сила
Моя, единая, росла.
Она поддержки не просила
И не мужала от числа.
Она росла в своем единстве,
Самодержавна и горда, —
И, в чаровом самоубийстве,
Шатнулась в мой шатер орда...
От снегоскалого гипноза
Бежали двое в тлен болот;
У каждого в плече заноза, —
Зане болезнен беглых взлет.
Я их приветил: я умею
Приветить все, — божи, Привет!
Лети, голубка, смело к змию!
Змея, обвей орла в ответ!
2
Я выполнил свою задачу,
Литературу покорив.
Бросаю сильным наудачу
Завоевателя порыв.
Но, даровав толпе холопов
Значенье собственного «я»,
От пыли отряхаю обувь,
И вновь в простор — стезя моя.
Схожу насмешливо с престола
И, ныне светлый пилигрим,
Иду в застенчивые долы,
Презрев ошеломленный Рим.
Я изнемог от льстивой свиты,
И по природе я взалкал.
Мечты с цветами перевиты,
Росой накаплен мой бокал.
Мой мозг прояснили дурманы,
Душа влечется в примитив.
Я вижу росные туманы!
Я слышу липовый мотив!
Не ученик и не учитель,
Великих друг, ничтожных брат,
Иду туда, где вдохновитель
Моих исканий — говор хат.
До долгой встречи! В беззаконце
Веротерпимость хороша.
В ненастный день взойдет, как солнце,
Моя вселенская душа!
1912

***
На шее мелких четок ряд,
В широкой муфте руки прячу,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут.
И кажется лицо бледней
От лиловеющего шелка,
Почти доходит до бровей
Моя незавитая челка.
И не похожа на полет
Походка медленная эта,
Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.
А бледный рот слегка разжат,
Неровно трудное дыханье,
И на груди моей дрожат
Цветы небывшего свиданья.
1913

Себе, любимому, посвящает
эти строки автор
Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю — богу богово».
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?
Если бы я был
маленький,
как Великий океан, —
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!
О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.
Если б быть мне красноязычным,
как Данте
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.
О, если б был я
тихий,
как гром, —
ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.
Я если всей его мощью
выреву голос огромный, —
кометы заломят горящие руки,
бросаясь вниз с тоски.
Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый, как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!
Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи
бредовой,
недужной
какими Голиафами я зачат —
такой большой
и такой ненужный?
1916 (?)

Из поэморомана «Илья Радалет»
I
— Лаборатория для медицинских исследований —
— Зайду, отдам свою кровь исследовать, —
Пусть посмотрят, из чего состоит моя кровь;
Конечно, там нет ни разных спиралей, ни запятых, ни палочек;
Может быть, найдут в ней что-нибудь новое,
От чего я такой органный, — величественный, простой и радостный...
Сегодня день моего рожденья;
Мои родители, люди самые обыкновенные,
Держали меня в комнатах до девятилетнего возраста,
Заботились обо мне по-своему,
Не пускали меня на улицу,
Приучили не играть с дворовыми мальчиками,
А с моими сестрами сидеть скромно у парадной лестницы
На холщевых складных табуретках.
Отец мой садился рядом со мною,
Рассказывал неинтересное
О каких-то своих турецких походах.
Вечерами я садился на подоконник,
Смотрел на улицу, на фонари керосиновые,
А отец мыл чайные чашки и стаканы,
И не потому, что у нас прислуги не было,
А потому, что ему нечего было делать,
Как всякому отставному воину;
При свете утра и стеариновой свечки,
Когда в комнатах тени желто-голубые,
Я сам научился читать азбуку;
Мне также хотелось учиться музыке,
Но на нашем рояле не действовали клавиши;
Я тихо плакал, когда пели в русском соборе,
И в особенности, когда в костеле орган играл;
У меня не было ни богатой библиотеки,
Ни бонн, ни гувернанток, ни хороших учительниц,
Была картавая белобрысая барышня,
Немка Люция Эдуардовна Виссор;
К гимназическому экзамену
Меня приготовлял бритый восьмиклассник...
Как его фамилия? — кажется, Швейдель.
Был я мальчиком скромным, боязливым,
Не дружился с товарищами,
Перешел в следующий класс с листом похвальным;
Через год меня взяли из гимназии,
Продали за пять рублей мое пальто гимназическое,
Увезли из южного города,
Отдали весной в казенный пансион.
Помню: мои новые товарищи
Меня больно поколотили
За то, что как-то сказал я,
Совсем для себя неожиданно,
Что я выше всякого начальства
И что, по-моему, бога нет...
Нет ничего хуже, чем жизнь в общежитии,
— Зачем меня отдали в казенное зданье, —
Я так завидовал гуляющим гимназистам.
Потом — военная служба, то же общежитие,
Люди для меня из школьных зверенышей
Превратились в двулапых животных.
Потом — война... только глупые или корыстные
Могут подставлять свои лбы под гранаты,
Быть героями в стадных делах;
Я, сидя в окопах, однажды не вытерпел,
Схватил револьвер, обернул дуло тряпкою,
Прицелился, выстрелил в нижнюю часть ноги,
Промахнулся — отлетел только сапожный ремень...
А теперь наконец я свободен,
Могу зажить своею жизнью,
Могу носить не казенное платье,
Могу гулять, когда мне вздумается,
Могу заниматься делами любимыми,
Могу жить в собственной квартире в полном одиночестве!
— Вот почему я такой радостный,
А кровь у меня, как у всех людей,
С разными там инфузорными палочками!..
Но все-таки удивительно,
Если вспомнить мое прошлое,
Отчего я как-то сам по себе знаю все, что мне нужно,
Отчего стал я радостным, успокоенным, дерзающим,
Безгрешным, нечувствующим ни к кому ни малейшей злобы,
Требующим только одного от своих современников —
Они должны знать мою фамилию;
Отчего ощутил себя человеком будущего,
Не любящим ни религии, ни таинственностей, ни отечества...
Пойду в закусню — закажу себе обед именинный...
— Зачем вы, гражданин, толкаетесь и хихикаете? —
Это я толкаюсь? — нисколько. — Ну тогда простите...
И теперь в моей новой, моей радостной жизни
Нужны мне друзья, люди на меня хоть немного похожие.
Хочется крикнуть евангельским голосом,
Как принято, когда хотят сказать торжественное:
— Приидите ко мне все дерзающие,
Величественные, полнотелые, лицом прекрасные,
Свободные и простые,
Разгуливающие праздно по улицам,
Живущие только для того, чтобы жить!
Начало 1920-х
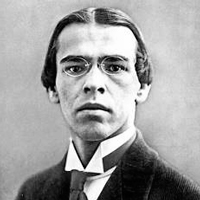
Перед зеркалом
Nel mezzo del cammin di nostra vita.
Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, —
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?
Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть, —
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?
Впрочем — так и всегда на средине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины — к причине,
А глядишь — заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.
Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами, —
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.
1924

***
Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чортова —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он был не лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама...
1935

***
Я уеду, я уеду
по открытию воды!..
Не ищи меня по следу —
смоет беглые следы.
А за мною для начала
все мосты поразведут
и на пристанях-вокзалах
даже справок не дадут.
...Вспоминай мой легкий голос
голос песенки простой,
мой послушный мягкий волос
масти светло-золотой...
Но не спрашивай прохожих
о приметах — не поймут:
новой стану, непохожей,
не известной никому.
И когда вернусь иная,
возмужалой и простой.
поклонюсь — и не узнаешь,
кто здоровался с тобой.
Но внезапно затоскуешь,
спросишь, руку не отняв:
— Ты не знаешь ли такую,
разлюбившую меня?
— Да,— отвечу,— я встречала
эту женщину в пути.
Как она тогда скучала —
места не могла найти...
Не давала мне покою,
что-то путала, плела...
Чуждой власти над собою
эта женщина ждала.
Я давно рассталась с нею,
я жила совсем одна,
я судить ее не смею
и не знаю, где она.
1936
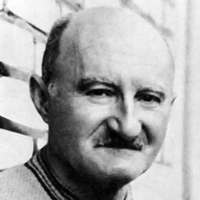
***
Как я им должен быть отвратителен! —
С собачьими глазами.
Медли-тельно-предупреди-тельно
прохаживающийся по казарме.
Внимательнейший: — простите, я вас — не?..
— А, к матери, слоняются тут, как во сне.
Но я не сонный — я заторможённый.
Зато как на меня смотрят мальчики со скрипками,
библейские мальчики со скрипками, —
во все свои лампочки — лампеня —
во все свои — светят — черные и карие,
во все свои — черт знает какие, —
такие, какие и у меня.
1940-е
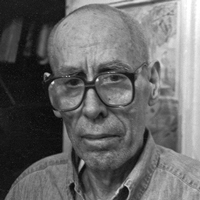
***
Вы не знаете Холина
И не советую знать
Это такая сука
Это такая *****
Голова —
Пустой горшок
Стихи —
Рвотный порошок
Вместо ног
Ходули
В задницу ему воткнули
Сам не кует не косит
Есть за троих просит
Как только наша земля
Этого гада носит

***
Меня не обгонят — я не гонюсь.
Не обойдут — я не иду.
Не согнут — я не гнусь.
Я просто слушаю людскую беду.
Я гореприемник и я вместительней
радиоприемников всех систем,
берущих все — от песенки
обольстительной
до крика — всем, всем, всем.
Я не начальство: меня не просят.
Я не полиция: мне не доносят.
Я не советую, не утешаю.
Я обобщаю и возглашаю.
Я умещаю в краткие строки,
в двадцать плюс-минус десять строк
семнадцатилетние длинные сроки
и даже смерти бессрочный срок.
На все веселье поэзии нашей,
на звон, на гром, на сложность, на блеск
нужен простой, как ячная каша,
нужен один, чтоб звону без.
И я занимаю это место.

Автопортрет
Он тощ, словно сучья. Небрит и мордаст.
Под ним третьи сутки трещит мой матрац.
Чугунная тень по стене нависает.
И губы вполхари, дымясь, полыхают.
«Приветик, — хрипит он, — российской поэзии.
Вам дать пистолетик? А, может быть, лезвие?
Вы — гений? Так будьте ж циничнее к хаосу...
А может, покаемся?..
Послюним газетку и через минутку
свернем самокритику, как самокрутку?..»
Зачем он тебя обнимет при мне?
Зачем он мое примеряет кашне?
И щурит прищур от моих папирос...
Чур меня! Чур!
SOS!
1963

Элегия на рентгеновский снимок моего черепа
Он с Марсия живого кожу снял.
И такова судьба земных флейтистов,
И каждому, ревнуя, скажет в срок:
«Ты меду музыки лизнул, но весь ты в тине,
Все тот же грязи ты комок,
И смерти косточка в тебе посередине».
Был богом света Аполлон,
Но помрачился —
Когда ты, Марсий, вкруг руки
Его от боли вился.
И вот теперь он бог мерцанья,
Но вечны и твои стенанья.
И мой Бог, помрачась,
Мне подсунул тот снимок,
Где мой череп, светясь,
Выбыв из невидимок,
Плыл, затмив вечер ранний,
Обнажившийся сад;
Был он — плотно-туманный —
Жидкой тьмою объят,
В нем сплеталися тени и облака,
И моя задрожала рука.
Этот череп был мой,
Но меня он не знал,
Он подробной отделкой
Похож на турецкий кинжал —
Он хорошей работы,
И чист он и тверд,
Но оскаленный этот
Живой еще рот...
Кость! Ты долго желтела,
Тяжелела, как грех,
Ты старела и зрела, как грецкий орех, —
Для смерти подарок.
Обнаглела во мне эта желтая кость,
Запахнула кожу, как полсть,
Понеслася и правит мной,
Тормозя у глазных арок.
Вот стою перед Богом в тоске
И свой череп держу я в дрожащей руке, —
Боже, что мне с ним делать?
В глазницы ли плюнуть?
Вино ли налить?
Или снова на шею надеть и носить?
И кидаю его — это легкое с виду ядро,
Он летит, грохоча, среди звезд, как ведро.
Но вернулся он снова и, на шею взлетев, напомнил мне для утешенья:
Давно в гостях — на столике — стоял его собрат, для украшенья,
И смертожизнь он вел засохшего растенья,
Подобьем храма иль фиала, —
Там было много выпито, но не хватало,
И некто тот череп взял и обносить гостей им стал,
Чтобы собрать на белую бутылку,
Монеты сыпались, звеня, по темному затылку,
А я его тотчас же отняла,
Поставила на место — успокойся,
И он котенком о ладонь мою потерся.
За это мне наградой будет то,
Что череп мой не осквернит никто —
Ни червь туда не влезет, ни новый Гамлет в руки не возьмет.
Когда наступит мой конец — с огнем пойду я под венец.
Но странно мне другое — это
Что я в себе не чувствую скелета,
Ни черепа, ни мяса, ни костей,
Скорее же — воронкой после взрыва,
Иль памятью потерянных вестей,
Туманностью или туманом,
Иль духом, новой жизнью пьяным.
Но ты мне будешь помещенье,
Когда засвищут Воскресенье.
Ты — духа моего пупок,
Лети скорее на Восток.
Вокруг тебя я пыльным облаком
Взметнусь, кружась, твердея в Слово,
Но жаль, что старым, нежным творогом
Тебя уж не наполнят снова.
1972
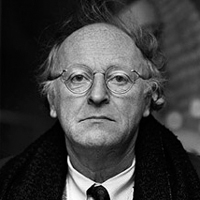
***
Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.
1980

***
Я памятник себе...
Я добрый, красивый, хороший
и мудрый, как будто змея.
Я женщину в небо подбросил —
и женщина стала моя.
Когда я с бутылкой «Массандры»
иду через весь ресторан,
весь пьян, как воздушный десантник,
и ловок, как горный баран,
все пальцами тычут мне в спину,
и шепот вдогонку летит:
он женщину в небо подкинул,
и женщина в небе висит...
Мне в этом не стыдно признаться:
когда я вхожу, все встают
и лезут ко мне обниматься,
целуют и деньги дают.
Все сразу становятся рады
и словно немножко пьяны,
когда я читаю с эстрады
свои репортажи с войны,
и дело до драки доходит,
когда через несколько лет
меня вспоминают в народе
и спорят, как я был одет.
Решительный, выбритый, быстрый,
собравший все нервы в комок,
я мог бы работать министром,
командовать крейсером мог.
Я вам называю примеры:
я делать умею аборт,
читаю на память Гомера
и дважды сажал самолет.
В одном я виновен, но сразу
открыто о том говорю:
я в космосе не был ни разу,
и то потому, что курю...
Конечно, хотел бы я вечно
работать, учиться и жить
во славу потомков беспечных
назло всем детекторам лжи,
чтоб каждый, восстав из рутины,
сумел бы сказать, как и я:
я женщину в небо подкинул —
и женщина стала моя!
1980-е

Долина Дагестана
В полдневный зной в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я
Я! Я лежал — Пригов Дмитрий Александрович
Кровавая еще дымилась рана
По капле кровь сочилась — не его! не его! — моя!
И снилась всем, а если не снилась — то приснится
долина Дагестана
Знакомый труп лежит в долине той
Мой труп. А может, его. Наш труп!
Кровавая еще дымится наша рана
И кровь течет-течет-течет хладеющей струей.
1980-е

***
Я, Павлова Верка,
сексуальная контрреволюционерка,
ухожу в половое подполье,
иде же буду, вольно же и невольно,
пересказывать Песнь Песней
для детей. И выйдет Муха-Цокотуха.
Позолочено твое брюхо,
возлюбленный мой!
1990-е

***
Благодаря видео на YouTube
Все узнали, что я урод.
Я, конечно, узнал последним.
Слава Богу, быть уродом не преступление.
Пойду в «Связной». Положу на телефон.
Прикуплю памяти.
Лет через десять на YouTube
можно будет прослушать телефонные разговоры.
Мне придется признать, что это мой голос и мои слова.
Лет через двадцать на YouTube
начнут транслировать мысли.
Я прочитаю свои последним и ужаснусь.
Позже, позже каждый желающий в онлайне
Сможет смотреть, как я разлагаюсь в земле.
Медленно.
Или сгораю в печи.
Быстро.
Но я этого не увижу
и потому никогда не узнаю, что умер.
Я буду верить, что красив, как бог,
Что голос мой как шелест листвы,
И мысли мои светлы, мудры и бессмертны.
И мы еще встретимся на YouTube.
2009

***
«Когда я... и так далее — приглашу тех,
кто действительно разбирает буквы, и не только.
Но и тех, кто относится с приязнью к иному.
Вероятно даже открою папки, где фотографии.
Не возражаю, мало кому будут известны лица,
к которым склонюсь. Письма, записи, прочее;
их делал за деньги и не только. Кто говорит?
Чтобы увидеть получше, опущу голову (диоптрии).
Но то, что увижу, — мне не понять. Кто увидит?
Себе — ничего. Потому что ничего есть ничего,
если открыть папки, шкафы, столы, мир, мел,
окна, любые перечисления, перевернуть чашку,
разбить очки и расколоть раковину».
Кто за это заплатит? Например, за бумагу? Когда?
Конец 2000-х

***
Было, не осталося ничего подобного:
Сдобного-съедобного, скромного-стыдобного.
Чувства раздвигаются, голова поет,
Грязно-белый самолет делает полет.
Ничего под праздники не осталось голого:
Ты держись за поручни, я держусь за голову,
У нее не ладятся дела с воротником,
И мигает левый глаз поворот-ни-ком.
(Горит золотая спица,
В ночи никому не спится.
— ЮКОС, ЮКОС,
Я Джордж Лукас.
Как вам теперь? покойно?
Что ваши жены-детки?
Все ли звездные войны
Видно в вечерней сетке?
Спилберг Стиви,
Что там у нас в активе?
Софья Коппола,
Где панорама купола?
Ларс фон Триер,
Хватит ли сил на триллер?)
Летчица? наводчица; начинаю заново,
Забываю отчество, говорю: Чертаново,
Говорит Чертаново, Банный, как прием?
Маша и Степанова говорят: поем.
А я ни та, ни ся, — какие? я сижу в своем уму,
И называть себя Марией горько сердцу моему,
Я покупаю сигареты и сосу из них ментол,
Я себя, как взрывпакеты, на работе прячу в стол,
А как стану раздеваться у Садового кольца —
С нервным тиком, в свете тихом обручального кольца —
Слезы умножаются, тьма стоит промеж,
Мама отражается,
Говорит: поешь.
2010

***
Старухе небольшого роста,
Мне все одно и все едино.
Я создавалась так же просто,
Как создавался Буратино.
Не надо говорить напрасно,
Что с возрастом деревенела.
Я скрипка. Пусть вам будет ясно:
Я даже без смычка звенела.
2012