
 Новый курс!Агата Кристи — королева детектива (18+)
Новый курс!Агата Кристи — королева детектива (18+)

22 апреля 1911 года в Петербурге в литературной жизни произошло событие, которое многие современники впоследствии, задним числом, считали началом нового этапа в истории русской поэзии.
В редакции журнала «Аполлон» заседало общество, которое называло себя «Академией стиха» или «Обществом ревнителей художественного слова». Руководил им Вячеслав Иванович Иванов по прозвищу Вячеслав Великолепный — выдающийся поэт, переводчик, литературный критик и теоретик той эпохи, — как тогда было принято говорить, «человек эпохи Возрождения», и я бы не побоялся повторить эти слова по отношению к нему и сейчас.
На
Она прочитала несколько стихотворений, среди которых было стихотворение, которое я сейчас напомню. Оно достаточно известно сейчас и было известно наизусть нескольким поколениям русских читательниц:
Я пришла сюда, бездельница,
Все равно мне, где скучать!
На пригорке дремлет мельница.
Годы можно здесь молчать.
Над засохшей повиликою
Мягко плавает пчела;
У пруда русалку кликаю,
А русалка умерла.
Затянулся ржавой тиною
Пруд широкий, обмелел,
Над трепещущей осиною
Легкий месяц заблестел.
Замечаю все как новое.
Влажно пахнут тополя.
Я молчу. Молчу, готовая
Снова стать тобой, земля.
Когда Ахматова читала это стихотворение, она очень волновалась. Мне рассказывал об этом поэт, который тогда, в 1911 году, стоял в очереди вслед за Анной Андреевной. Они еще не были знакомы и познакомились на этом вечере. И когда он это мне рассказывал в середине 1960-х годов, он все еще помнил, как колыхалась длинная черная юбка Анны Андреевны, потому что у нее дрожала от волнения коленка, когда она читала это стихотворение.
Тем не менее все кончилось, можно сказать, благополучно и даже триумфально. По легенде, Вячеслав Иванов поздравил дебютантку Анну Гумилеву, сказав: «Поздравляю вас, в русскую поэзию пришел новый поэт, поэт-женщина». Именно по легенде, потому что многое из того, что мы считаем верным и даже читаем в учебниках об этой эпохе, мифологизировано и имеет легендарное происхождение. Каждый раз, когда эта история пересказывается — а она пошла, так сказать, по рукам историков литературы на русском и других языках, — добавляются все новые и новые подробности.
Тем не менее в основе этой легенды, как в основе любой легенды, лежало и некоторое реальное зерно. Действительно, стихотворение произвело фурор, как формулировала потом сама Ахматова. Поклонники новой поэтессы повторяли некоторые строчки. Особенно повезло строчкам «Над засохшей повиликою / Мягко плавает пчела…». Звуковой комплекс ПВЛ («повиликою») здесь плавно перетекает в ПЛВ («плавает»). Мандельштам говорил, что у Ахматовой двустворчатые строфы: и звуки, и смыслы в них плавно перетекают из первой части во вторую — и назад. Пчела плавает, а русалка, которая умерла, уже не плавает. И так строится все стихотворение — вторая часть симметрично асимметрична первой части.
Когда новая стилистика входит в литературу, она всегда вызывает одновременно и
И довольно скоро и сама Ахматова, и наиболее проницательные из критиков той эпохи обнаружили возможный источник этого явления поэтики. Дело в том, что в 1910-е годы в русской словесности происходило еще одно событие: дебютировал новый фольклорный жанр — низкий, даже низменный и обладавший дурной репутацией. Речь идет об открытии частушки. Русская критика и русская эстетическая мысль обнаружили, что фабричная хулиганская частушка при всей низменности и сомнительности своей тематики устроена так же замысловато и так же изощренно, как японское хокку, о чем впервые написал Павел Александрович Флоренский в статье 1908 года Имеется в виду вступительная статья к «Собранию частушек Костромской губернии Нерехтского уезда», вышедшему в 1909 году. . Когда стихи Ахматовой пошли в жизнь и обрели широкую аудиторию, один из лучших критиков ее поэзии Борис Михайлович Эйхенбаум написал об этом специальную статью, где речь шла именно о совпадении с частушкой. Любопытно, что в 1915 году эта статья не увидела света. Это сближение было слишком дерзким, слишком непривычным, слишком, я думаю, компрометирующим в глазах любого редактора, хорошо относящегося к поэзии Ахматовой.
Впоследствии Ахматова — сама замечательный филолог — много раз скорее с удовольствием отмечала сходство своих стихов с поэтикой частушки и слышала это от очень многих филологов. В
Надо сказать, что дело не только в частушке. Был еще один жанр народной поэзии, который очень повлиял на устройство стихов ранней Ахматовой, — это народная баллада. Народная баллада строится так, что
С русалками, которые упоминаются в этом стихотворении Ахматовой, связаны очень многие народные баллады, былички, разные фольклорные нарративы, в некоторых местах они дожили до нынешних времен. Это истории про девушек, покончивших с собой из-за несчастной любви, после смерти превратившихся в русалок и не находящих себе покоя в новом русалочьем облике. Этот мотив проникал в стихи Ахматовой, ей очень трудно было расстаться с русалочьей темой и потом, например, в стихотворении 1917 года «Теперь прощай столица…»:
Болотная русалка,
Хозяйка этих мест,
Глядит, вздыхая жалко,
На колокольный крест.
Было такое народное поверье, что русалку надо закрестить, или «захстить», как это называется в народе: показать ей крест, и тогда ее душа успокоится, и, значит, ее подводные страдания закончатся.
Само по себе обращение к фольклорным жанрам не было бы таким острым и значительным и не так волновало бы современников, а стихи Ахматовой действительно волновали ее современников и особенно современниц (они пошли по девичьим дневникам, по письмам гимназисток, которые писали своим однокашникам — предметам своей симпатии: «О, как ты красив, проклятый!» — о чем с некоторым смущением и умилением признавались на старости лет читатели этой эпохи). Но дело было не только в том, что так дерзко ворвались в поэзию частушка и народная баллада. Аналогичные процессы происходили ведь в это время и в других видах искусств: например, смелые цитаты из разных форм городского фольклора — из шарманочных напевов, из дворницкой песни и так далее — в «Петрушке» Игоря Стравинского. Дело было в свойстве ахматовского поэтического мегатекста, супратекста, то есть всего корпуса ее творчества, которое впервые было отмечено Лидией Яковлевной Гинзбург, выдающимся российским литературоведом прошедшего столетия. Она говорила о том, что Ахматова строит свою поэтическую систему так, что все время существуют дублеты. Одна и та же психологическая ситуация — ситуация женской любви, женских бед — проигрывается сначала в своем городском варианте, очень часто — в столичном, ведь это все происходит на фоне ослепительных петербургских декораций, Фальконетова монумента, арки на Галерной. И та же самая ситуация затем проигрывается ее фольклорными дублерами — простой девушкой, которая вырывает лебеду, или крестьянкой, которую муж «хлестал вдвое сложенным ремнем».
Впоследствии Ахматова прошла очень большой путь в литературе. Если посмотреть на все, что было ею сделано, то иногда диву даешься, сколько удалось сделать этой, в общем, слабой здоровьем женщине. Это огромная словесная постройка «Поэмы без героя», похожей, как говорят некоторые, на словесный готический собор. Это очень разнофактурная поэма «Реквием»: помимо ее, так сказать, гражданского содержания, пафоса и трагедии миллионов людей, это ведь еще и произведение, замечательно сложенное из разных, как бы нестыкуемых камней. Это замечательные пушкиноведческие работы, требующие большого усилия, больших знаний и очень кропотливого анализа, увенчавшиеся замечательными открытиями по части и пушкинских источников, и устройства пушкинских текстов, и того, что Ахматова называла «тайными комплексами Пушкина». И все это сделала женщина, которая при своем вхождении в русскую литературу 22 апреля 1911 года рекомендовала себя как «бездельница».
Nel mezzo del cammin di nostra vita «На середине дороги нашей жизни» (ит.) — эпиграф к «Божественной комедии» Данте..
Я, я, я! Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, —
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?
Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть, —
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?
Впрочем — так и всегда на средине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины — к причине,
А глядишь — заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.
Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами, —
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.
Это стихотворение написано в июле 1924 года и опубликовано в 1925-м. «Перед зеркалом» — бесспорный шедевр русской поэзии XX века. Но хрестоматийной классикой это стихотворение было не всегда — ввиду изгнаннической судьбы автора и долгой разделенности русской литературы на советскую и эмигрантскую. И, например, я — позволю себе употребить это центральное для стихотворения слово, — еще не зная стихов Ходасевича, сначала познакомился с одним из его отзвуков в советской поэзии, но уже оттепельной, 1950-х годов, — стихотворением Беллы Ахмадулиной «Это я». Оно начинается так: «Это я — в два часа пополудни / Повитухой добытый трофей». А заканчивается — «Слившись с ними, как слово и слово / На моем и на их языке». И лишь много позже, уже сам находясь в эмиграции, я узнал и первоисточник. А в 1987 году, в начале перестройки и решительного снятия разделяющего железного занавеса, в Лос-Анджелес одной из первых приехала Ахмадулина. И в ответ на мою догадку о влиянии Ходасевича ответила честным: «А что, может быть».
В самом «Перед зеркалом» отсылка к авторитетному интертексту дана прямее некуда. Стихотворение предваряется эпиграфом — первым стихом «Божественной комедии» Данте Алигьери, великого поэта-изгнанника. Образы из первой песни «Ада» проходят и в самом тексте: средина рокового пути, пантера, Вергилий. Кстати, с упоминанием о Вергилии интертекстуальная глубина текста увеличивается уже за счет собственной ориентации Данте на более древнюю классику. Вся «Божественная комедия» полна отсылок, цитат и перифразов из античной поэзии, преимущественно римской.
Мы попытаемся различить две литературные тени, необъявленно мерцающие в ходасевическом «Перед зеркалом». Но начнем с того, что это стихотворение не только и не столько об изгнании, сколько о проблеме, связанной с ним и с тем, что называется кризисом среднего возраста, беспокоившим уже и Данте, — проблеме идентичности.
В «Перед зеркалом» поэт не узнает самого себя. Но это еще и метасловесный разговор о словах: «Я, я, я! Что за дикое слово!» Речь идет не только о «я», но и о слове. Две темы переплетены. Теряется сознание собственной идентичности — теряется и осмысленность самих слов, и прежде всего слова, наиболее непосредственно связанного с идентичностью, — местоимения первого лица «я».
Поэт не узнает себя в зеркале, мысленно он видит себя в нем иным, начиная с того, каким он был в детстве, когда впервые посмотрелся в зеркало и осознал свою личность (напрашивается ссылка на известную статью Лакана о зеркальной стадии развития ребенка «Стадия зеркала, как образующая функцию Я» — статья философа и психолога Жака Лакана 1949 года.). И удивление поэта обращается на само слово «я», которое становится для него «диким». Но лингвистам это слово хорошо известно именно своей особой шифтерной Шифтер — слово, меняющее свое значение в зависимости от того, кто, где или когда его произносит. Например: «я», «свои», «тогда» и т. п. семантикой. Ведь, по замечанию одной исследовательницы, как зеркало отражает любого, кто в него смотрится, так и «я» обозначает всякого, кто его произносит. Такая синонимия зеркала и «я».
Словесный поворот экзистенциальной темы выражается и в нажиме на очень важные, хотя, казалось бы, всего лишь служебные слова «неужели» и «разве». Они задают тон повествования и его композицию и выражают удивленное, протестующее отторжение говорящего от того, что ему приходится видеть, осознавать и говорить. Эти лейтмотивные, ключевые в стихотворении слова очень специфически русские, на многие языки они вообще не переводятся без потерь. То есть их отчужденность от того, что говорится, одновременно составляет суть их значения, их языковую и национальную идентичность. Таким образом, переходя от «я» и «зеркала» к «неужели» и «разве», Ходасевич делает
Разумеется, слова «разве» и «неужели» могут встретиться где угодно. Но в контексте размышлений перед зеркалом о собственном старении, детстве, матери, разговорах, молчании, правде (список можно продолжить) они обнаруживаются в одном очень влиятельном, хотя и не поэтическом тексте. Зачитаю несколько цитат из этого текста. Можно угадывать, что за текст, — я нарочно почистил то, что его выдает:
«И сколько [он] ни наводил после шурина на разговор о его внешнем виде, шурин отмалчивался.
<…>
[Он] стал смотреться в зеркало — прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная».«И он начинал опять спрашивать себя: „Неужели только она правда?“
<…>
„И правда, что здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели?“
<…>
Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: да, правда.
<…>
И каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью».«Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он всегда был Ваня с мамá, с папá, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного с полосками мяча, который так любил Ваня! Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание?»
Это, конечно, «Смерть Ивана Ильича» Льва Толстого. Возникает естественный вопрос: знал ли, любил ли Ходасевич эту повесть (кстати, опубликованную в год его рождения, в 1886 году)? Мог ли он опираться на ее текст с такой буквальностью, что иногда кажется, будто словарь стихотворения «Перед зеркалом» наполовину позаимствован из этой повести? Начитанность Ходасевича, конечно, не вызывает сомнений — но, более того, в 1920 году он обратил на Толстого особое внимание:
«В конце 1920 года, в Петербурге, перечитывал я Толстого. Я начал с „Анны Карениной“, перешел к „Крейцеровой сонате“, потом к „Смерти Ивана Ильича“, „Холстомеру“, „Хозяину и работнику“ и т. д.».
Одним из побочных результатов этого перечитывания стала статья Ходасевича об Анненском. С первым ее вариантом он выступил 14 декабря 1921 года в Петербургском доме искусств, ДИСКе, на вечере, посвященном памяти Анненского. Вся статья построена на систематическом сопоставлении Анненского с Иваном Ильичом из толстовской повести по линии отношения к смерти. Причем предпочтение Ходасевич отдает Ивану Ильичу, потому что тот в момент смерти сумел чудесно преодолеть ее верой. Повесть Толстого — и на самом видном месте весь пассаж о Кае-человеке — цитируется и обсуждается в статье очень детально.
Таким образом, всего за несколько лет до создания «Перед зеркалом» Ходасевич пристально обдумывал «Смерть Ивана Ильича», причем именно в плане соотнесения с опытом поэта — правда, другого поэта, не себя, а Анненского.
А завершается статья Ходасевича двумя абзацами, более-менее впрямую, чуть ли не текстуально предвещающими «Перед зеркалом»:
«Но вот — жизнь вдруг озаряется, понятая
по-новому ; cтарое „я“ распадается, вместе с ним распадается и смерть… <…> Это и есть очищение, катарсис, то, что внутренне завершает и преобразует трагедию… <…> Оно наступает иногда очень поздно, но никогда не „слишком поздно“. Так было с Иваном Ильичом.
Драма есть тот же ужас человеческой жизни, только не получающий своего очищающего разрешения… В драме занавес падает раньше, чем герои успели предстать зрителю преображенными. Драма ужаснее трагедии, потому что застывает в ужасе, потому что она безысходна.
<…> …Драма, развернутая в его [Анненского] поэзии, обрывается на ужасе — перед бессмысленным кривлянием жизни и бессмысленным смрадом смерти. Это — ужас двух зеркал, отражающих пустоту друг друга».
Получается, в ходасевическом «Перед зеркалом» ясно вырисовывается Толстой с его Иваном Ильичом и Каем-всечеловеком, а они, в свою очередь, приводят за собой и проблематику взаимоотношений, схождений и отторжений двух поэтов — Ходасевича и Анненского.
Анненский — очень большая и богатая тема, требующая отдельной лекции. Более того, названными именами интертекстуальная клавиатура «Перед зеркалом» опять-таки не исчерпывается. Так, в недавней работе той же исследовательницы, которая обратила внимание на сущностное родство зеркала и местоимения «я», был продемонстрирован целый слой отсылок ко второму великому итальянцу-изгнаннику — Петрарке, в частности по линии работы с зеркалом. Правда, в отличие от Данте, Петрарка, как и Толстой с Анненским, в тексте не назван. Но в подтексте, в зазеркалье стихотворения все они — а возможно, и многие другие, например неизбежный Пушкин с его «Свет мой, зеркальце! Скажи / Да всю правду доложи» и «Ах ты, мерзкое стекло! / Это врешь ты мне назло» — незримо присутствуют и действуют.
«Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.
Ни город.
Ни вся земля наша».
Этот финал запоминается прежде всего благодаря его резюмирующей семантике. Но едва ли мы обращаем внимание на его почти стиховую организацию, на переход от повествовательной прозы к прозе маркированной. Между тем рассказ Солженицына так не только кончается — почему он так кончается, понять просто, — но он еще и очень похоже начинается. Первый абзац:
«На сто восемьдесят четвертом километре от Москвы, по ветке, что ведет к Мурому и Казани, еще с добрых полгода после того все поезда замедляли свой ход почти как бы до ощупи. Пассажиры льнули к стеклам, выходили в тамбур: чинят пути, что ли? Из графика вышел?»
Заметно, что второй абзац ощутимо короче:
«Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пассажиры усаживались».
В третьем абзаце сжатие еще больше:
«Только машинисты знали и помнили, отчего это все».
Последняя строчка, данная с нового абзаца, состоит из двух слов назывного предложения: одно из них — служебное, другое — местоимение.
«Да я».
Вот к этому самому «да я» текст как будто сходится клином. При этом текст, по крайней мере при первом чтении, абсолютно никому не может быть понятным. Что там случилось в этой самой конкретной точке? Почему это помнят машинисты? И самое главное: не только почему этот самый «я» помнит, но и кто такой, собственно говоря, этот самый «я»?
Надо сказать, что вопрос остается в силе и по прочтении рассказа полностью. Солженицын устами рассказчика Игнатича сообщает нам, что Матрену любили не все и отношение к ней у односельчан было скорее ироническое и настороженное. Но в рассказе есть персонажи, которые, безусловно, Матрену любят — это прежде всего ее воспитанница Кира. Ее состояние после гибели Матрены не вызывает никаких сомнений в теплоте и серьезности ее чувств.
Мне кажется, это довольно важный момент для понимания рассказа. Почему «да я»? Потому что постоялец Матрены Игнатич — не только человек, прошедший войну и лагерь (эти мотивы введены очень мягко, но и очень точно). И он не только человек, сумевший медленно, отнюдь не сразу, но оценить душевную красоту Матрены — и, кстати, додумать это лишь после ее смерти. У него есть еще одно примечательное свойство: он писатель. И это тоже введено мягкими намеками — описываются его ночные штудии, и уже не при первом упоминании о них сообщается: «Писал свое». Вообще за столом можно и тетрадки проверять — он по специальности учитель, работает в школе, — но именно «писал свое».
Собственно, это рассказ о встрече русского писателя с русской провинцией. И только русскому писателю дано и поручено рассказать о русской праведнице и о ее загубленной жизни, тем самым ее воскресив. Он для этого существует.
Уже в первой части рассказа появляется чрезвычайно выразительная фраза, когда Игнатич получает второе направление на новое место. Первое было в Высокое Поле — одно название грело душу, но жить там было невозможно. А вот второе направление он получает в населенный пункт, называемый Торфопродукт, и замечает: «Торфопродукт? Ах, Тургенев не знал, что можно
Тургенев не знал — и Игнатич с Солженицыным знать не хотят. Разумеется, «Тургенев не знал» — это отсылка не только к крестьянскому эпосу Тургенева, но, прежде всего, к стихотворению «Русский язык»:
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»
Смысл такой: приходишь в отчаяние от того, что делается на родине, если бы не русский язык и русская словесность, способная передавать наши человеческие боли, радости и так далее.
Рассказ «Матренин двор» перенасыщен реминисценциями из русской классической литературы: это и Тургенев, и Некрасов, и архаические тексты — там есть отчетливый отзыв былины о неудачной женитьбе Алеши Поповича, есть реминисценция «Слова о полку Игореве», цитируются и Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов. Такая плотность реминисценций для рассказов Солженицына совершенно не характерна, как не характерна для них и литературная маркированность, вот этот самый зачин и концовка. В «Одном дне Ивана Денисовича», «Для пользы дела», «Кочетовке» он сразу бросает читателя в действие. Сильная концовка бывает — но отнюдь не с такой внутренней отбивкой, как здесь.
Итак, в рассказе необычайно много реминисценций из русской классики, которая прямо опознается. Больше всего бросается в глаза, конечно, уже названный Тургенев. При этом, конечно, важны и рассказ «Смерть», и рассказ «Певцы» из «Записок охотника». Можно вспомнить, как Матрена не хочет признавать за своего Шаляпина, который балует голосом, и проникается романсами Глинки. Это ровно ситуация «Певцов», когда один, рядчик из Жиздры, называется «лирическим тенором» и
И так же очевидна отсылка к Некрасову. Дело не в том, как звали настоящую хозяйку, у которой Солженицын жил Матрена Захарова (1896–1957) — крестьянка из деревни Мильцево. Солженицын жил в ее доме после возвращения из ссылки, когда работал в Мильцево школьным учителем. Послужила прототипом Матрены из рассказа «Матренин двор»., — важно то, что это имя не может не вызывать ассоциаций и с крестьянкой Матреной Тимофеевной из «Кому на Руси жить хорошо», и с теми тремя Матренами, которые возникают в «Пире на весь мир». И ясно, что за рассказом о том, как Матрена буквально коня на скаку останавливает, могла стоять реальная ситуация и реальная Матрена могла реальному Солженицыну все это пересказать, — но здесь это работает так же, как и сюжет с горящей избой «Коня на скаку остановит, / В горящую избу войдет!» — цитата о русской крестьянке из поэмы Некрасова «Мороз, Красный нос»..
Или, скажем, два плаката, один из которых — об урожае, а другой — о пользе книжной торговли, и буквально написано, что красавица с плаката «протягивала мне Белинского, Панферова». Конечно, это сложно переосмысленная цитата из «Кому на Руси жить хорошо» Эх! эх! Придет ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?. Переосмысленная не только с иронией по отношению к лубочным картинкам или по отношению к чаяниям Некрасова, но и с другой составляющей. В «Кому на Руси жить хорошо» Яким Нагой выносит из горящей избы те самые ненавистные лубочные картиночки, тогда как Матрена бросилась спасать свои фикусы.
Таких отсылок много, и из Гоголя, и из Лермонтова тоже есть цитаты. И Солженицын был счастлив, когда узнал, что Твардовский, выступая на
Вот эта самая плотность реминисценции очень важна. И, на мой взгляд, одной из высших точек является эпизод, о котором я уже говорил, — это ночные бдения Игнатича. Писатель и старуха в одной избе, шорох тараканов и мышей, эти странные, неведомо что сулящие звуки — это был их особый мир. Конечно, здесь очевидна пушкинская перспектива «Зимнего вечера» Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна? с некоторым продолжением во «Вновь я посетил…», где старушки-няни уже нет, а Пушкин пишет так, как будто она есть: «Не слышу я шагов ее тяжелых, / Ни кропотливого ее дозора». Ясно, что мы слышим. А с другой стороны, это, конечно, тоже пушкинские «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», с «жизни мышьей беготней», со странными звуками ночи и с вот этим самым: «Я понять тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу» или «Темный твой язык учу».
Эти литературные знаки, как и сама плотность реминисценций, выводят нас к чрезвычайно важной и,





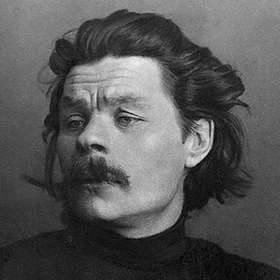
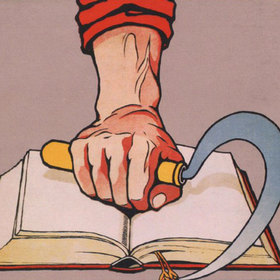
















Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости