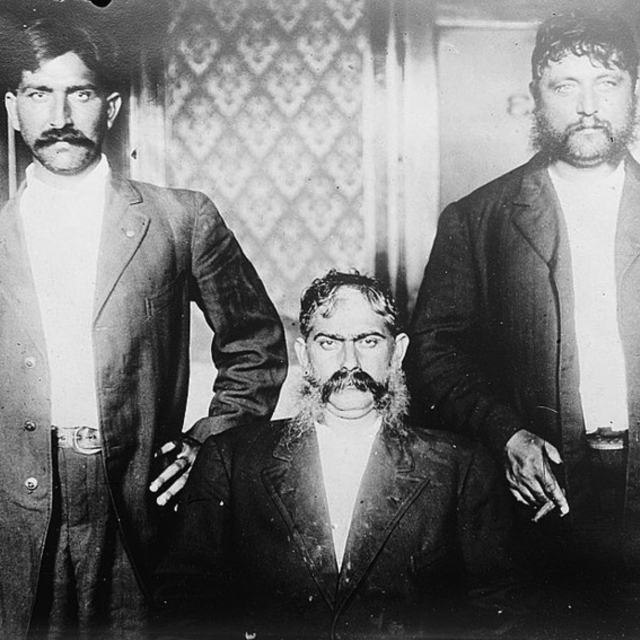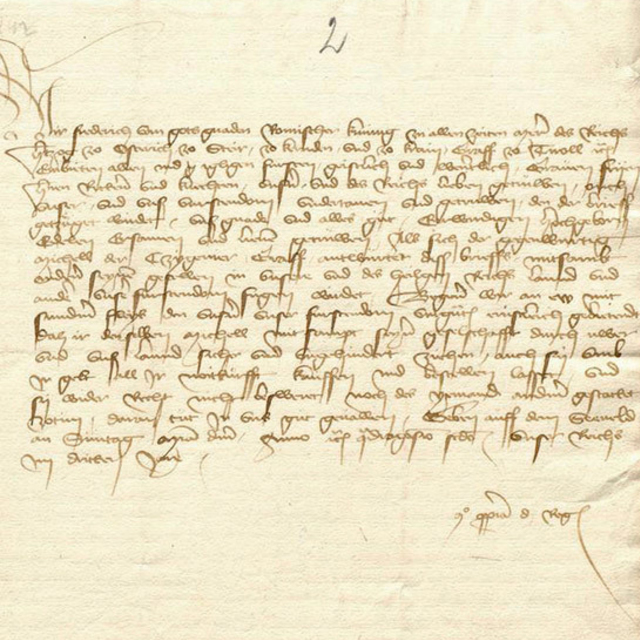Геноцид цыган глазами свидетелей

«Цыгане действительно сохранили кое-какие нордические признаки,
но они произошли от самых низших слоев населения этого региона.
В процессе миграции они впитали в себя кровь окружавших их народов
и таким образом стали расой, в которой смешались черты Восточной
и Западной Азии, с примесью индийских, среднеазиатских
и европейских черт. <…> Причиной такого смешения стал их кочевой образ жизни. В целом влияние цыган на Европу чужеродно».
«§ 1. Цыгане и им подобные кочевники — бродяги — имеют право
на передвижение лишь при наличии у них письменного разрешения, выданного соответствующими полицейскими властями. Разрешение действительно в течение одного календарного года и может быть
в любой момент аннулировано…»«§ 2. Цыгане и бродяги не имеют права странствовать с детьми школьного возраста. Исключение может быть сделано соответствующими полицейскими властями при наличии условий, необходимых для обучения детей…»
<…>
«§ 9. Цыгане и бродяги старше шестнадцати лет, которые не способны доказать, что имеют постоянную работу, могут быть направлены соответствующими полицейскими властями в исправительно-трудовые лагеря сроком до двух лет из соображений общественной безопасности».

«Цыганский вопрос можно будет считать решенным, только когда большую часть асоциальных и бесполезных цыган смешанного происхождения соберут в крупные лагеря трудового назначения,
где будут приняты действенные меры против их дальнейшего воспроизводства. Только так можно избавить будущие поколения немецкого народа от этой тяжелой ноши».
«С целью удаления с немецких земель поляков, русских, евреев и цыган <…> считаю необходимым передать все функции уголовно-процессуального порядка в отношении [этих людей] Гиммлеру.
Я пришел к этому заключению, поскольку понимаю, что суды не могут эффективно участвовать в уничтожении этих людей… <…> Годами держать их в тюрьме не имеет смысла…»

«Летом 1943 года моим родителям сказали, что они должны переехать из Мюнхена в Польшу просто потому, что они синти. Всего нас было около ста человек, это вся родня со стороны отца и матери. И мы все ехали в одном вагоне. Никто не знал, куда и зачем нас везут. Оба моих дяди — офицеры немецкой армии — надели в дорогу свои военные мундиры, а дедушка, ветеран Первой мировой войны, прикрепил на мундир ордена и медали, полученные им за доблесть и храбрость. Это никого не спасло и ничего не значило для нацистов, сопровождавших поезд: они били прикладами по голове стариков с медалями на груди, беременных женщин и детей. Для них это были только люди последнего сорта — синти, цыгане, угрожавшие чистоте арийской расы. Через две недели, когда умиравшие от духоты, жажды и голода люди приехали в Аушвиц, из вагонов буквально выпала почти сотня мертвых — их тут же отправили в печи крематория. Остальным присвоили номера и вытатуировали их на руке; грудным детям номер ставили на бедре: на крошечных ручках штамп не помещался. Нас сразу начали бить — просто потому, что мы не умели выполнять команды, не сразу встали прямо. И постоянно оскорбляли: я до того никогда не думал, что моя национальность — это ругательство. <…> Через полгода, уже зимой, заключенным выдали одеяла, кишевшие вшами: такого количества этих насекомых я не видел больше никогда в жизни. Кто-то сказал: это доктор Менгеле специально дал нам такие одеяла, чтобы проверить стойкость цыган к болезням, которые переносят вши. О Менгеле цыгане уже отлично знали: на цыганских и еврейских детях он постоянно ставил опыты, особенно на близнецах. Моих двоюродных братьев Менгеле заставлял прыгать с 10-метровой высоты — наблюдал, как ломаются кости, как деформируется позвоночник. Мне врачи-эсэсовцы часто делали какие-то уколы, от которых потом болело все тело…»

«Это было в Псковской области. Мы жили все вместе — все мои родные: мать, отец, бабушка Авдотья, дедушка Александр, дядя Григорий и его дети Таисия и Иван, дядя Василий и его дочери Валя и Анна. И пришла нам повестка, чтобы на три дня брали продукты, а если есть, например, корова, то с собой не брать. Хоть отец мой был и неграмотный, но мужик был дальновидный. Цыган собралось очень много, все спрашивают: „Куда нас?“ А немцы говорят: „Мы отправим вас в Бессарабию, вы же цыгане“. Ну, цыгане поверили, говорят, поедем в Бессарабию. А отец мой говорит: „Какая Бессарабия? Куда они нас погонят, если везде бомбят, дорог нету, поезда не ходят? Пойдете вы землю есть, всех расстреляют, как собак! У меня есть лошадь, сажайте детей и едем в лес скрываться. Убьют что в затылок, что в лоб“. А цыгане темные, всему верят. Говорят: „Все едут в Бессарабию, а мы что, всех умней?“ Отец бился недели две, убеждал цыган. А они ему отвечают: „Видишь, мы ходим по воле, никто нас не трогает. Не пойдем в лес, и ты вернись, с нами поедешь“. А ходили они свободно потому, что немцы ждали конвой. Ну, мой батя забрал мать, нас — детей, сказал: „Если что, помирать вместе будем“. И осталась в живых только одна семья — наша, всех остальных немцы под конвоем, с собаками, увели. Всех расстреляли. Недалеко от Новоржева есть лесок, там ямы были вырыты. Всех бросили в эти ямы, кровь наружу сквозь землю выходила. Многих зарыли живьем. Целую деревню цыган там оставили. Только моих родственников девять человек там погибло».

«Наверное, кто-то выдал, что табор пришел в деревню. Немцы подъехали на мотоциклах с люльками и сразу стали оцеплять. Крестьяне попрятались в домах, а цыганам куда деваться? Со всех сторон пути перекрыты. Тогда женщины разбежались по огородам и притворились, будто копаются на прополке. Но разве обманешь? На цыганках юбки яркие, цветные. И дети по деревне голые бегают. Стали всех сгонять на середину. Отец спрятался в чьей-то баньке и через щели все видел. Он немного понимал по-немецки. Крик стоял. У цыганок серьги с кровью вырывали. Отцовой сестре Томке пальцы выламывали — стаскивали кольца. У цыгана — звали его Филипп — что-то пытались выведать. Привязали его — ладонь положили на изгородь, на слегу — пальцы по очереди рубили топором. С девушек, которым лет по 15–16, сорвали одежду. Насиловали их, а родня тут же стоит — выстроена под автоматами…»
«Страшно было наблюдать, как цыгане играют веселые марши, под которые измученные заключенные возвращаются в бараки и несут на себе умерших или умирающих товарищей. Зрелище пыток под музыку было невыносимым. Но я также помню, как под новый 1939 год из дальнего барака вдруг поплыли звуки скрипки, словно напоминание о других, счастливых днях, напевы венгерских степей, вальсы Вены и Будапешта, звуки дома».

«Около десяти часов вечера в цыганский лагерь, находящийся от наших бараков всего в двадцати метрах, стали въезжать машины. Цыгане жили в бараках целыми семьями, с детишками, бабушками, дедушками. Мы привыкли к ним, как соседям, переговаривались через проволоку, обменивались новостями. Жили цыгане в еще более тяжелых условиях, чем мы. Мизерный паек получали не полностью: его разворовывали „старшинки“ из своих же цыган. Исхудавшие детишки жалобно просили у нас через проволоку чего-нибудь поесть, и мы ежедневно прикармливали их, чем могли. Природная жизнерадостность цыган, несмотря ни на что, прорывалась сквозь тоску и уныние: оттуда часто доносились музыка, песни… <…> И вот цыган увозили. Машины из бараков одна за другой направлялись в сторону крематория. Когда об этом узнали оставшиеся цыгане, лагерь огласился воплем. <…> Нам в лагере много раз приходилось видеть расстрелы, повешения, и не было случая, чтобы приговоренный кричал или просил о помиловании. Он знал, что это бесполезно, и мужественно принимал смерть на глазах у десятков тысяч других заключенных. Цыгане тоже не просили пощады, но они сопротивлялись, кричали.<…> После подъема, выйдя из барака, каждый с ужасом глядел на лагерь цыган. Вчера там была жизнь, а сегодня пустые, с раскрытыми дверями бараки, разбросанная одежда и лужи крови. Команда заключенных под надзором эсэсовцев убирала следы злодейской расправы».

«23 апреля 1942 года перед вечером из гор. Смоленска в дер. Александровское прибыли 2 немецких офицера и, явившись к старосте, предложили ему составить посемейный список жителей бывшего Национального цыганского колхоза „Сталинская Конституция“ с подразделением на русских и цыган с включением в него всех мужчин, женщин, стариков и детей. 24 апреля в 5 часов утра прибывшим из гор. Смоленска карательным отрядом в количестве до 400 человек, возглавлявшимся группой офицеров, дер. Александровское была оцеплена, потом гестаповцы обошли все дома и всех жителей деревни, как русских, так и цыган, выгнали полураздетыми из домов и погнали на площадь к озеру. Немецкий офицер, владевший русским языком, достал из кармана список жителей деревни, взятый им у старосты деревни, и стал из толпы вызывать граждан, сортируя их на русских и цыган. После сортировки русские были отправлены домой, а цыгане оставлены под усиленной охраной. Потом офицер из оставшейся толпы выделил физически крепких мужчин, им выдал лопаты и в 400 метрах от деревни предложил вырыть две ямы. Когда мужчины были отправлены рыть ямы, туда же немцы погнали женщин, детей и стариков, избивая их прикладами, палками и плетками. Перед расстрелом осужденные были подвергнуты осмотру, женщин и мужчин раздевали, и все, кто имел смуглую кожу, были расстреляны. Расстрел был осуществлен так: вначале расстреляли детей, грудных детей живыми бросили в ямы, потом расстреляли женщин. Отдельные матери, не выдерживая дикого ужаса, заживо бросались в яму. Трупы расстрелянных закопали мужчины, потом они сами были расстреляны и немцами закопаны во вторую яму. Всю лучшую одежду расстрелянных, а также различные ценности немцы увезли с собой в Смоленск. Всего было расстреляно 176 человек. Из этого количества 143 человека установлены: 62 женщины, 29 мужчин и 52 ребенка; 33 не установлены за отсутствием посемейных книг».
«Вся наша деревня была цыганская. Лидию Крылову спас немец. В этой деревне стояла часть вермахта, и один офицер по уши влюбился в красотку-цыганку. Когда людей собрали вокруг ямы, он подошел к солдатам и сказал, показывая на Лидию: „Она русская“. У немцев не было приказа расстреливать русских, и они спросили: чем докажешь? Он ответил: есть такой русский писатель по фамилии Крылов, он басни писал, она Крылова — значит, русская. Солдаты потребовали документы, офицер сел на коня, поехал в Смоленск за справкой и привез бумагу, что она русская. На ней не оказалось печати, подписи генерала: так офицер четыре раза ездил туда-сюда, а солдаты ждали возле могилы. <…> На обелиске указана дата расстрела, количество погибших — 176 человек, но там нет ни слова о цыганах. Хотя все местные жители об этом знают».

«Я во время войны жила в деревне Кореневщина — рядом
с Александровкой. У нас тоже жило много цыган, но там никого
не тронули. Председатель колхоза был цыган, хороший такой, он сказал: „Никуда не выходите, ни в город, никуда, а то постреляют“.
А в Александровке забрали почти всех».
«Немцы пришли в Остров в 1942 году. Мне было 13 лет, сестре 11. <…>
…После Саласпилса, кто жив остался, кого не расстреляли, отправили в Польшу. Тухенген. Лицманштадт (Лодзь). Там тоже лагерь был большой. Там много всяких было. Но мы, цыгане, просили, чтобы нас в один барак поселили, чтобы мы вместе были. Поляки хорошие попадались: они отпускали нас попросить хлебушка и одежду нам давали. И вот когда нас отпускают, мы идем туда, где люди живут, и просим хоть кусочек хлебушка, хоть кусочек мыльца. И мы разрежем его на несколько частей, чтобы хоть лицо помыть и руки, потому что уже невозможно было… <…> А потом, когда нас освободили, мы были в американском лагере. Там мы сделали свой цыганский ансамбль, а американцы нас поддерживали и материи дали на кофты цыганские. Нас американцы отправили во Францию выступать. Это уже в 1946-м было, наверное. Мне было уже лет семнадцать. Война кончилась. Мы были в Версале. Там нас кормили хорошо. Там такие сады были, бери сколько хочешь».

«Как-то у меня и моей подруги порвалась нить в станке, и нам сказали, что мы навредили намеренно. Нас привели в лагерь, построили девочек и мальчиков, ровесников, поставили скамейку и били нас плетками. Потом дали плетку мальчику, моему двоюродному брату, и сказали ему, чтобы он меня отстегал. Он сказал: „Она мне своя“ — и отказался меня бить, и его за это наказали. Дали плетку другому мальчику, и тот меня отстегал, у меня до сих пор шрам на ноге от тех побоев. <…> Были мы в Саласпилсе до января 1945 года. Наша армия уже наступала, и немцы решили нас уничтожить. Они нас заперли, подкатили к нашему бараку бочки с бензином, но началась бомбежка, и немцы, испугавшись, уехали. Им было уже не до нас. Мальчики наши, которые постарше, вылезли в окно и откатили бочки подальше от барака. Потом они открыли ворота, и наши воспитатели помогли нам уйти. Мы нашли незанятый дом, куда и забрались. Жили мы в этом доме несколько дней, спали, прижавшись друг к другу. Потом пришли наши войска. Нас накормили, одели, мы еще некоторое время жили в нашем лагере. Потом нас увезли в Варшаву, и дальше в Киев, в детский дом. Возили нас в разные госпитали, мы пели и плясали для раненых. Ну а потом наши родные нашли нас, приехали за нами и отвезли домой».