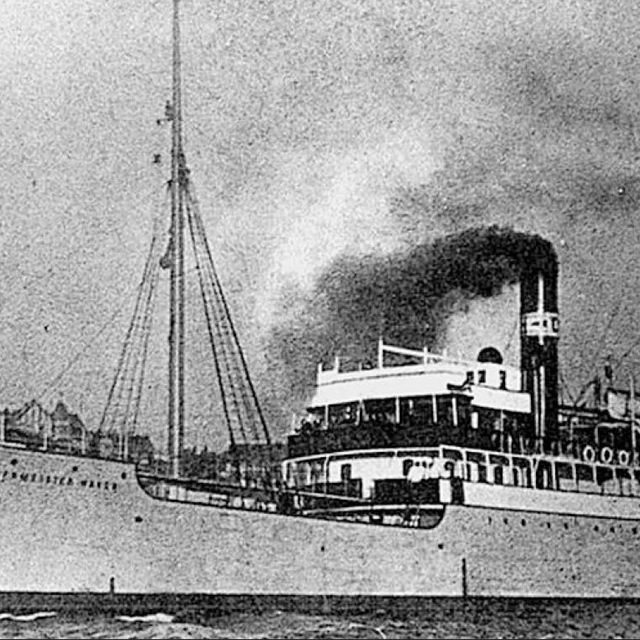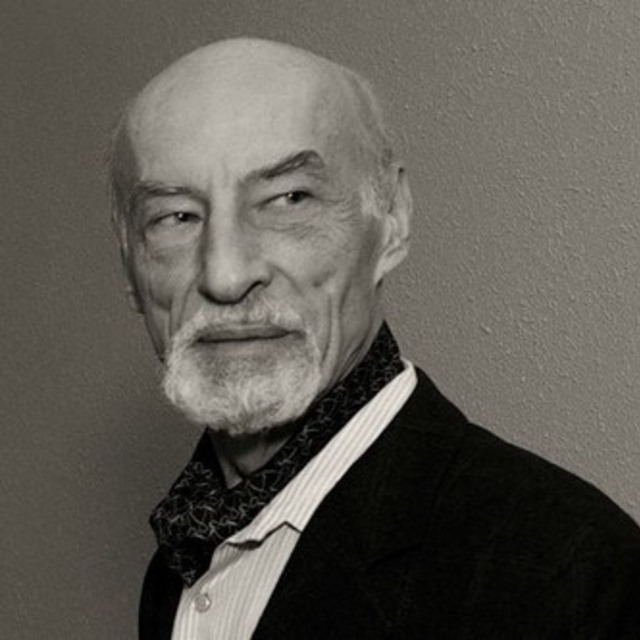Вячеслав Глазычев о времени без надежды

О ВНИИТЭ ВНИИТЭ — Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики.
Самый восхитительный момент — 1965 год, когда на выставке, которая тогда именовалась ВДНХ, в павильоне, где красовалась баранья голова, которую директор повелел спилить, возник Институт технической эстетики. Поскольку, к счастью, никто не понимал, что это такое, я, как наглый молодой человек, постарался туда встроиться. И встроился сразу в отдел теории, хотя что такое теория, тоже никто не понимал, а у меня уже было три или четыре статьи.
И вдруг нас приглашают на шоу, как сегодня бы сказали, где Георгий Петрович Щедровицкий и его младший тогда ассистент, мой друг Олег Генисаретский устраивали представление на доске с изображением фигур с флажками,
с блоками, с вопросами друг другу. Народ напрягся, никто ничего не понимал, но прислушивался с большим интересом.
После этого мы встретились, поговорили и как-то снюхались. В кружке я не участвовал, хотя несколько раз бывал на посиделках. За этим чувствовалась определенная, очень жесткая культура понимания, поэтому мы довольно быстро сошлись. И я был таким младшим товарищем и учеником. К счастью, у меня было три учителя. Один был восхитительный интуитивист Евгений Абрамович Розенблюм — художник, дизайнер, архитектор, человек, не умевший писать, но в диалоге прекрасно умевший излагать мысли. Второй был Карл Моисеевич Кантор Карл Кантор — российский философ
и искусствовед., тогда зам. главного редактора журнала «Декоративное искусство СССР», который меня и познакомил с Георгием Петровичем Щедровицким. И третий уже Георгий Петрович. В этом треугольнике я мог сохранить баланс.
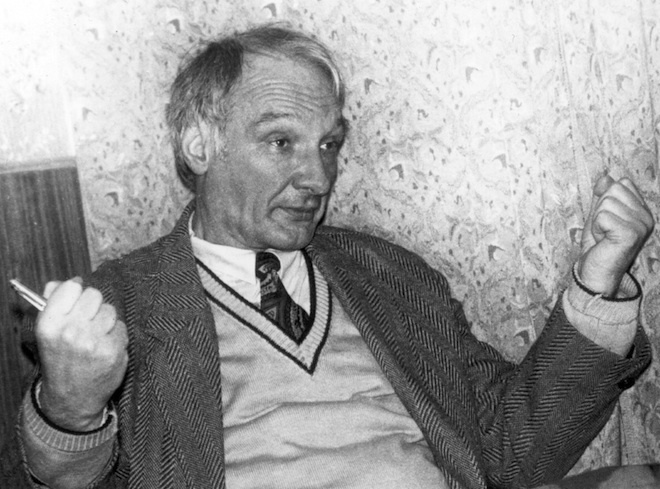
О Щедровицком
Самое ценное было то, что можно было позвонить Георгию Петровичу
в одиннадцать вечера и сказать: «Юра, правильно ли я понимаю, что отношение деятельности и культуры — это примерно как река, которая промывает русло в теле горных пород?» Он: «Ну, почему бы и нет?» Мне этого хватало, поэтому контакты были не очень частыми.
Он вообще-то мечтал стать актером. Это мало кто знает, но это его собственное признание. С юности он видел себя в этой роли. В какой-то степени он, конечно, им был — и актером, и режиссером. Организовать массовое действо, дискуссию, подрезать по сухожилиям любого зазнайку любого возраста — это было совершенно блистательно. И я очень ценил эту дистантную дружбу.
И считаю его своим учителем. Хотя учеником его, строго говоря, я не был.
О времени
Это было по-своему очень плодотворное время чистого мышления.
При полном отсутствии даже мысли о возможности практической реализации при нашей жизни это было очень напряженное осмысление. Жадное поглощение мирового опыта, который кусочками уже можно было брать, читать, переводить, осмыслять и обсуждать. Это больше не повторится. Это был единственный период, когда достаточно большое число молодых людей могли ускоренным образом мужать в интеллектуальном отношении. Поэтому они сделали безумно много, каждый по-своему.
О Мамардашвили
С Мамардашвили мы не были накоротке, хотя знакомы были. Говорить с ним было интереснее, чем его читать. Он всегда был шире своего текста. А прежде всего он был обаятелен. Если не затрагивать грузино-осетинских или грузино-абхазских дел. Здесь из него вылезал зверь, вдруг слетала вся цивилизованность, вся утонченность мышления. Никуда от этого не уйти, это правда. Но говорить с ним на сюжеты машины культуры, механизмов культуры — античных ли, средневековых ли, или Нового времени — было, конечно, одно наслаждение. Во-первых, он знал в десять раз больше, чем я тогда мог знать. Но главное — у него была воистину своя, очень отстраненная, позиция. Это редкость. У него была независимая линия.
О застое
В моем ощущении двери прихлопнулись в 1972-м. Не после Праги, а после процесса Даниэля — Синявского. И тогда возникло ощущение, что у нас есть одна функция: свечка должна гореть. Мы не знаем, когда придут те, кто будет жить иначе, но нужно это дело стараться воспроизводить, сохранять и двигать вперед.
Это была стоическая позиция, я бы сказал. Без надежды на успех, но надо жить, надо делать свое дело и надо стараться, чтобы факел не погас. Выспренно звучит, прошу прощения, но примерно так переживалось.
Время конца 1970-х — начала 1980-х воспринималось одним-единственным образом: потолок начинает придавливать голову, когда подбородок касается груди, и процесс этот может быть бесконечным. Удержать спину и хребет любым способом оказалось принципиально важным.
Это было психологически тяжелое время. Именно потому, что поверить в то, что оно может измениться, не было никакой возможности и никаких рациональных оснований. Но надо было продолжать свое дело. И, в общем, продолжали. Я писал книги. Эти книги издавали. Цензура играла с нами
в игры. Там были тоже неплохие люди, которые, вообще-то, подыгрывали. Если ты подсунешь грамотно белую уточку и ее можно будет вычеркнуть, то все остальное пройдет. Это была сложная и тонкая игра. Меня брали на военные сборы. И какой-нибудь полковник ГРУ, уводя под локоток в кусты, мог произнести такую фразу: «Что вы там себе думаете, нам безразлично.
Но вы русский офицер».
Еще раз о Щедровицком
Наступил момент, когда Георгий Петрович был среди подписантов очередного протестного письма. И я задавал ему искренне совершенно вопрос: «Как ты мог подписывать, зная, что обрушишь все дело, которому ты отдал столько лет жизни?» Ответ был неожиданный в значительной степени: «Этим людям я не мог отказать». Этический диктат своего круга — штука чрезвычайно серьезная. После этой истории его спас мой учитель и друг, о котором я говорил, — Евгений Абрамович Розенблюм. Человек далеко не самый храбрый в житейском смысле, он взял Щедровицкого на работу, иначе тому автоматически грозило попасть в трутни и тунеядцы. Это был невероятно мужественный поступок. И надо заметить, Союз художников, под которым была вся эта лавочка под названием «Экспериментальная студия», сделал вид, что ничего не заметил.

Еще раз о Мамардашвили
Насколько я понимаю, у Мамардашвили была та же позиция: главное — сберечь, донести, делать свое дело, просачиваться в поры. И все, что ее подсекало под корень за счет неадекватной реакции властей предержащих, воспринималось как досадное препятствие. Исторически мы оказались неправы. По жизни это была понятная позиция. А для меня тогда совершенно осознанная. Это не мешало помогать людям, попадавшим в беду, по мере сил. Но согласия по этому поводу не было. Я верил — насколько я понимаю,
и Мераб в это верил, — что важнее разъедание системы изнутри за счет обогащения словаря, утончения понятий, выведения разговора в высшие философские горизонты. Теория малых дел, если угодно. Она казалась наиболее продуктивной.