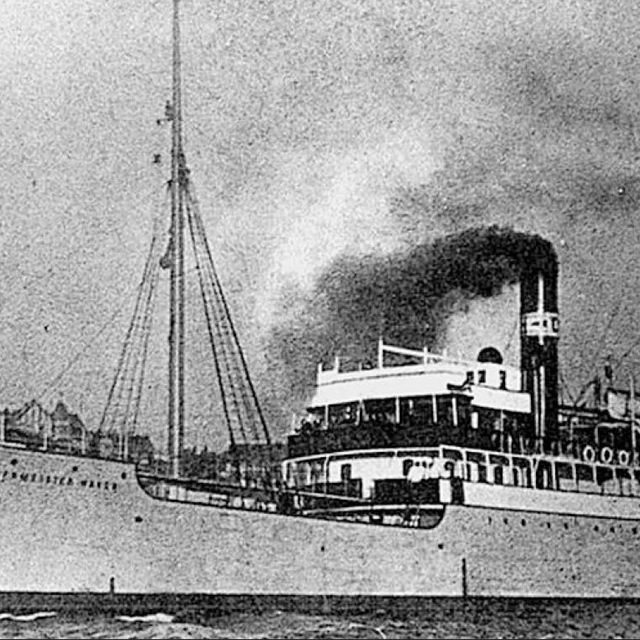Десять шестидесятников о своей молодости
-
 Генри РезникАдвокат
Генри РезникАдвокат -
 Юрий МамлеевПисатель, драматург, поэт, философ
Юрий МамлеевПисатель, драматург, поэт, философ -
 Виктор ГолышевПереводчик англо‑американской литературы
Виктор ГолышевПереводчик англо‑американской литературы -
 Леонид ЮзефовичПисатель, историк, сценарист
Леонид ЮзефовичПисатель, историк, сценарист -
 Владимир ВойновичПисатель
Владимир ВойновичПисатель -
 Евгения УраловаАктриса
Евгения УраловаАктриса -
 Марк РозовскийДраматург, композитор, режиссер
Марк РозовскийДраматург, композитор, режиссер -
 Гарри БардинХудожник-мультипликатор, актер
Гарри БардинХудожник-мультипликатор, актер -
 Юлий КимБард, поэт, композитор, сценарист
Юлий КимБард, поэт, композитор, сценарист -
 Марлен ХуциевКинорежиссер, сценарист, актер
Марлен ХуциевКинорежиссер, сценарист, актер
Генри Резник (р. 1938), адвокат
О созревании
Я воспитывался в интеллигентной семье, по счастливой случайности не стал блокадником: за месяц до начала войны отца направили ректором в Саратовскую консерваторию, и я прожил в Саратове 15 лет. Но меня, ребенка из семьи, в которой проросли корни старинных еврейских родов, с кучей академиков, ученых, в 11 лет постигла прыгучесть, и я бросил все силы на спорт. Поэтому я как бы немножко задержался в эмоционально-культурном созревании. Происходит «дело врачей», моя семья — сплошь евреи, но это меня не затрагивало эмоционально, потому что интересы были другие. Четырнадцать-пятнадцать лет, я такой красивый — волейбол, баскетбол, первые романы с девочками.
О сексе
Я стал мужчиной в 16 лет. С оттепелью это очень даже связано, в то время происходило. Из рассказа Бабеля значительно позже я узнал, что первый половой контакт должен быть с опытной женщиной, в публичном доме. Я уже выезжал на соревнования, за сборную команду школьников России, это был 1955 год, и у меня был роман с одной очень красивой девочкой. Остановились мы тогда в гостинице «Южная» в Ростове. Это было очень сильное для того времени чувство, мы целовались. А один из наших тренеров был «ходоком». Мы пошли с ним купаться на Дон, и он познакомил нас с девицами легкого поведения. И после купания одна из них пришла ко мне в гостиницу (причем в комнате было по четыре человека). Вспоминаю, как у Окуджавы: «Когда ласкать уже невмочь, / и отказаться трудно… / И потому всю ночь, всю ночь / не наступало утро»…
Рано утром, после того, как ночью у нас все произошло, я пошел провожать эту особу. И это время из другой комнаты выходит пописать моя любовь, потому что в номере не было туалета. Это была катастрофа. Вымолить прощение я не смог. Я страшно переживал, потом еще долго писал ей письма.
О родителях
Родители рано расстались, но отец продолжал жить в квартире с нами, во второй комнате (наша коммуналка была в доме обкома, там еще две семьи жило). Только в 14 лет я понял, что родители в разводе. И просто они как-то решили меня до совершеннолетия не травмировать: мама с бабушкой — в одной комнате, я с отцом — в другой. Они вежливо между собой общались, и я не замечал, что совместной жизни у них нет. Когда мне исполнилось 16 лет, отец из дома ушел.
О журналистике
В 1956 году я поступал на факультет журналистики и утаил, что был капитаном сборной команды школьников страны по волейболу. Дело в том, что высокие спортивные достижения везде открывали дверь: спорт был витриной советского образа жизни. И я бы мог куда угодно поступить без всяких знаний. Но я утаил, потому что, если бы сказал и меня взяли, пришлось бы играть за команду университета, а она была слабой. Поэтому я рассчитывал поступить своими силами, а играть за другую команду. Но меня срубили на устной литературе, и я не поступил. Мне задали вопрос: «В каком платье была Наталья, когда приехал граф Нулин?» Я, естественно, не помню, сказал: «В желтом». А мне ответили: «Если вы хотите стать журналистом, должны обращать внимание на детали» В «Графе Нулине» Пушкин не дает указаний на то, какого цвета платье было на Наталье..
О жизни в Ташкенте
Я не поступил и уехал в Ташкент. Там я столкнулся с теми, кто возвращался из лагерей. Это был потрясающий, интернациональный город, как старая Одесса. Греки, персы, армяне, славяне, евреи. Жизнь была веселая. Когда я приехал, в 1957 году, виноград, сливы, яблоки, груши продавались ведрами: ведро слив — 30 копеек. У меня было огромное количество денег. Я был членом молодежной сборной команды Советского Союза и решил там создавать команду. Я получал стипендию как член сборных команд. Всего выходило порядка 600 рублей (400 рублей была зарплата рабочего); еще студенческая стипендия — 290 рублей. Потом я числился в трех местах тренером и, кроме того, получал талоны. Я желудок себе посадил за год, потому что вырос в полуголодном Саратове, мясо первый раз попробовал в 11 лет. А тут — узбекский дастархан: плов, лагман, мампар, самса, все это жирное, вкусное. Выпить немерено можно. В общем, деньги проедались-пропивались. Я был молодой кудрявый плейбой.
Мы, волейболисты и баскетболисты, считались спортивной богемой: для занятий индивидуальными видами спорта надо было неукоснительно соблюдать режим, а мы могли позволять себе временами расслабляться.
Я снимал квартиры. Когда из очередной меня выставляли за шумное поведение, меня принимало общежитие. Одним словом, я жил в Ташкенте материально обеспеченным, свободным и отвязным.
О спортивных стилягах
Я не был стилягой. Но припомню одну ситуацию. 1957 год. Тогда ходили комсомольские патрули с ножницами, которые резали узкие брюки и узкие юбки у девушек. И вот мы идем втроем с приятелями-боксерами, мастерами спорта. На мне клетчатый пиджак. И у меня 45-й размер ноги. Брюки в 23 сантиметра на фоне таких ботинок — узкие. И вот привязался патруль. Назревает конфликт. Грозятся порезать. Мы сворачиваем в парк, и там такой аттракцион — бить по колотушке, чтобы она взлетала как можно выше. Мой приятель-боксер подходит и пять раз подряд добивает до самого верха. Комсомольская ватага тут же рассосалась.
О культуре
Я восхищался стихами Евтушенко — блестящий поэт. Окуджавой, бардовскими песнями. Я не понимал, почему в официозе их не существует: на радио их нет, по телевидению нет, пластинки не издаются. Они как бы в загоне. Евтушенко постоянно дают по башке. В чем дело? А все официальное — оно ж просто рвотное. И тогда пришло осознание того, что ты живешь в несвободном обществе, ты под властью догм, лживых, скучных, которые вообще никакого отношения не имеют к твоей жизни.
Об абстракционизме и партии
Комсомольцем я не стал по чистой случайности: принимали группами, а я находился на соревнованиях. А когда стал следователем в МВД Казахстана, меня решили рекомендовать в партию. Меня пригласил секретарь парторганизации для беседы. Говорит: «Генри Маркович, вы такой у нас активный, выдающийся спортсмен, пора в партию». Я отвечаю: «Спасибо, огромное, но я не смогу». «Почему?» «А я, — говорю, — считаю, что недостоин. Не могу перед партией быть неискренним и откровенно вам сознаюсь: мне нравится абстрактная живопись». Вы не представляете, какой ужас родился в его глазах. Ведь недавно Хрущев устроил погром выставки современного искусства в Манеже В 1962 году Никита Хрущев посетил выставку художников-авангардистов в Манеже, где подверг их творчество резкой критике, в частности использовав нецензурные выражения.. А я продолжаю: «Понимаю, что это нехорошо. Но ничего с собой поделать не могу!» Напряг свои познания скудные: Пикассо, «голубой» период, «розовый» период. Так я от членства в КПСС избавился.
О влиянии книг
Когда я вернулся в Москву, в аспирантуру, судьба меня свела с критически мыслящими, все понимающими об этой самой стране людьми: с писателем Борисом Балтером, поэтом Наумом Коржавиным, юристом Ингой Михайловской. И конечно, уже был самиздат, Милован Джилас — «Нью
класс» Книга югославского политика и литератора Милована Джиласа «Новый класс. Анализ коммунистической системы» (1957) о предпосылках возникновения в социалистических странах нового
класса — партийной номенклатуры.. В списках антисоветской литературы эта книжка была на первом месте, потому что автор был вторым человеком Югославской компартии, заместителем Тито. Вторая книжка — «Технология власти» Авторханова Книга Абдурахмана Авторханова «Технологии власти» (1959) рассказывает о функционировании механизмов советской партократической машины власти.. И после этих книжек я уже постиг цену советского режима. А потом был 1968 год, который окончательно сформировал Генри Резника — антисоветчика.
Юрий Мамлеев (р. 1931), писатель, драматург, поэт, философ
О гуманитарном
Я получил лесотехническое образование, потому что это было просто. В школе я проявлял себя в гуманитарных предметах, но учитель по физике сказал: не стоит поступать в гуманитарный, это опасно, лучше получить любой диплом инженера, и можно работать в любой сфере. В сталинское время было легко попасть в тюрьму за гуманитарное. Литература вообще была главным оружием, потому что влияет на русских людей всегда. Недаром иностранцы говорили, что русский человек создан Достоевским.
О запрещенке
Обсуждался общий круг гуманитарных проблем, прежде всего все запретное. От православного богословия до мистических учений Востока. Был такой странный период, когда в Ленинской библиотеке внезапно открылся доступ к мистической литературе разного порядка. Все что хочешь было! Потому что руководство решило, что такие знания могут интересовать только историков. Подумали, что советская молодежь уже настолько перевоспитана в духе атеизма-материализма, что это никого не заинтересует, и открыли архивы. Их стали читать, они стали попадать на свободу, но недолго, может, года три-четыре, а потом спохватились, увидели, что они вызывают острый интерес, и запретили.
О простых людях
Очень интересный контакт был у меня с так называемыми простыми людьми. Я ходил на завод, общался с ними. Они рассказывали о жизни, о каких-то переживаниях своих, о футболе, о спорте, о детях, о том, как лучше дочек одеть.
Алкоголь занимал, конечно, огромное место в жизни. Было очень много пивных ларьков, на улице стояли пивные бочки. Но интересно, что и работали хорошо. Я просто удивлялся, когда иногда для интереса заходил на фабрики-кухни при заводе: они были очень качественные. Там была очень хорошая еда. Вкусная. Мясо все время. Каждый день они ели мясо. Супы, борщи — все это было за гроши. И я обращал внимание, что в обеденный перерыв всегда откуда-то из-под полы появлялась бутылка водки, они по 100 грамм выпивали и поддавши шли на вторую смену. И работали тем не менее! И все как-то двигалось. Разумеется, при таком образе жизни производительность труда не была классной, в отличие от космической или военной промышленности, где все было на самом высочайшем уровне.
О духовности
В советское время одежда была очень качественная, но неартистичная. Хорошая, из настоящей, натуральной материи. А все, конечно, мечтали о западных шмотках. Нам было все равно, что носить, нас интересовали другие вещи, духовные, а в обыденной жизни — футбол.
О проблемах
Я не мог публиковаться. И для меня была главная проблема в том, как это вообще сохранить? Потому что писатель все-таки должен публиковаться. Нельзя все время жить в самиздате и прятаться. Или, как Венечка Ерофеев, оставаться здесь, а печататься на Западе. (Но ему было хорошо, потому что у него совершенно аполитичная была литература.) Или же в начале 70-х появилась возможность уехать и публиковаться на Западе. Ну, так мы с женой и поступили, потому что вышел закон о том, что публикации на Западе без официальной санкции будут преследоваться в уголовном порядке.
О героях
Героев было много. Все наше окружение. Особенно Леонид Губанов Леонид Губанов — поэт, создатель неофициального литературного кружка «СМОГ». — действительно выдающийся человек. Он вел совершенно независимую жизнь, нигде не работал, не соглашался на сделки с властью и публиковаться на Западе не соглашался. Говорил: сначала на Родине! Он выступал потрясающе, подобно Есенину и Маяковскому.
О диссидентах
Мы не спорили о политике, как диссиденты. Нам казалось, что бороться с властью то же самое, что бороться с землетрясением. Рано или поздно любая власть, любая цивилизация кончается и начинается другая. А бороться не следует. Не надо мешать работе Господа Бога. То, что началось, обязательно кончается. Конец неизбежно будет, а когда — уже не в нашей власти. Но тогда многие думали, что советская власть навечно, и считали, что надо уезжать, что не дадут дышать. А между тем уже дни советской власти были сочтены.
Надо признать, что в Советском Союзе было очень много хорошего и люди в большинстве были порядочные и честные, часто погруженные в жизнь культуры. Главные минусы были в господстве одной идеологии, которая уже изжила себя, и в отсутствии необходимых реформ, которые придали бы политической жизни большую адекватность. Разумеется, реформы были необходимы, но проводить их надо было без разрушительных и фатальных последствий.
Виктор Голышев (р. 1937), переводчик англо‑американской литературы
О технарях
В 1954 году я поступил в МФТИ, учился до 1961-го. Занятий было очень много, иногда по 50 часов в неделю. Институт был типа монастыря, что меня очень угнетало, потому что девушек совсем не было. У нас в группе только одна девушка училась, не выдерживали они учение. Кто-то с ума сходил: большая умственная нагрузка.
О политике
С политикой мне все было ясно класса с шестого: как преподается история, география, литература — все было совершенно испорчено. Поэтому наше поколение шло в инженеры. Так что не было у нас разговоров о политике. И я знал, что в группе должен быть человек, который доносит, поэтому особо разговоров не вел. Ну и политика меня не касалась, это было далеко. У меня были свои проблемы. Я огорчался, что мне не нравятся две трети наук, которые я учу.
Помню у нас в МФТИ уроки марксизма, и на эти семинары надо было ходить. Если не ходишь — тебя потом завалят на экзаменах, даже если будешь знать. И у меня там приятель был — донской казак, который уже пришел из армии, он там был штурманом в авиации. Поступил довольно взрослым. Он все время на этих семинарах заводил тему, почему у колхозников нет паспортов. А я же тогда начитался прагматистов и все время рассуждал, что никакой истины нет, что она все время меняется. Вот целый семестр занятий был испорчен этим.
О первых американских книгах
Большое впечатление произвела американская выставка 1959 года Первая Американская национальная выставка открылась в Сокольниках 25 июля 1959 года. На ней советские граждане впервые увидели американские автомобили, бытовую технику, одежду, косметику и пепси-колу.. Выставка книг и большая художественная выставка. Привезли какие-то абстрактные картины. Мне даже снилось, что я украл с выставки две книжки — Томаса Вулфа и Керуака. Про Керуака я очень хорошо помню, потому что мне приятель сказал, что есть такие битники и есть писатель Керуак. Я их потом прочел, но без кражи уже. Но у американцев можно было, по-моему, книжки красть. Совершенно спокойно они смотрели на это. Покупать же нельзя было. Но я уже иностранные книжки и до этого видел, поскольку в Москве есть Библиотека иностранной литературы.
О джазе
С 1955 года «Голос Америки»* стал передавать «Джазовый час». Час удовольствия. Было большое потрясение, когда, кажется, в 1963 году Бенни Гудмен привез свой оркестр. Это было в каком-то огромном спортивном зале. Когда ты видишь людей, фамилии которых ты знаешь, и знаешь, как они играют, — это очень сильное впечатление. Когда слушаешь живых артистов, а не радио, ты как будто сам в этом участвуешь.
*«Голос Америки» признан иностранным агентом.
О бедности
Я ходил в папином старом пиджаке, пока локти не протер, я его носил года два. И в каких-то лыжных штанах. Но так все тогда одевались. Хотя у меня семья не бедная была: отец был начальником главка в автотракторном
министерстве Главное управление Министерства автотракторной промышленности СССР.. Мы втроем жили: отец, бабка и я. Я с бабкой в одной комнате жил. Мама отдельно жила, в том же доме, но другом подъезде. Она к нам в гости ходила, и я к ней. Между родителями отношения сохранились человеческие, несмотря на развод.
О стилягах
Меня изумляло: когда какой-то человек стал в институте в узких брюках ходить, его обличили в стенгазете. До сих пор помню его фамилию. Послевоенная жизнь довольно аскетическая была. И непонятно было, почему так озабочены люди штанами. А еще надо было носить кок Кок — прическа стиляг со взбитым или завитым вихром надо лбом. и белое кашне — и на «Бродвей», улицу Горького «Бродвей», «стрит» — так на американский манер называли улицу Горького (ныне — Тверская) стиляги, хиппи, панки и байкеры.. Мне не казалось, что те, кто это носит, дураки, просто это не для меня. Никем другим тебя это не сделает.
О кулуарных разговорах
Это теперь кажется, что обязательно должны были быть разговоры. А их не было! Все понятно было, и обсуждать было нечего. Ну, я точно скажу, что ничего в институте мы никогда не обсуждали. У меня в группе, например, учился кореец из Средней Азии В 1937 году «в целях пресечения проникновения японского шпионажа» на территорию СССР несколько сотен тысяч советских корейцев были депортированы из пограничных районов Дальневосточного края в Казахскую и Узбекскую ССР.. Только на последнем курсе узнали, что у него, оказывается, отец сидел. Не интересовались. Потому что политика происходила с одной стороны, а ты жил с другой.
О бардах
У меня был приятель, которого выгнали из ВГИКа, художник. Он жил у меня какое-то время. У него никаких доходов не было. Я ему давал рубль в день. Я шел на работу, а он уходил. Не знаю куда — к корешам, наверное. И к концу месяца уже зарплаты моей не хватало. То есть ему рубль в день и мне рубль в день — это 60 рублей в месяц. А зарплата у меня была всего 90 рублей. Когда молодой, ты довольно нетребовательный. В общем, когда к концу месяца нам денег не хватало, мы куда-нибудь налаживались в гости. Была одна компания молодежная — учительница, и с ней всегда были ученики. И мы к ним поехали в гости, просто пожрать. Приехали, а они там пели эти песни туристские, которые я терпеть не мог. Вот это то, что «барды» называлось. Я их всю жизнь не любил. Они еще и без гитары, хором. Ужас. И наконец, вынесли саму еду — миску рубленой капусты. Мы были сильно разочарованы.
О переменах
Не сильно отличалось то время от другого. Никуда поехать не можешь, никаких книжек нормальных не напечатают. Ну, только иногда: помню, например, когда Дудинцева напечатали — «Не хлебом единым» Роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» рассказывает об изобретателе, ведущем борьбу с бюрократией. Опубликован в 1956 году.. А так все было пропитано той же самой коммунистической идеологией. Убожество той жизни умственной сейчас трудно себе представить. Единственное место, где можно было вроде существовать — это в технике, в науке. А все, что касалось гуманитарных дел: кино, книжки — это было подчинено идеологии. Фальшь-то, ее прекрасно понимаешь. Идеологически не было оттепели, ты все равно чувствовал, что это неправильный строй, что где-то есть свобода. Вот несвободу ты чувствовал. Какие-то там дружины, посылание на целину. Картошка. Ну а как — вот берут людей и посылают на целину. Ну вы представьте себе, что вас сейчас взяли и послали картошку копать, допустим.
О проблемах
Ну, какие проблемы? Девушку надо найти. Если в институте у тебя их нет под руками? На улице я никогда не умел знакомиться. Один раз попробовал, и ничего не получилось. Дичь какая-то сюрреалистическая получилась. Но это правда проблема: ты молодой, у тебя лишние соки, а учишься в монастыре, общества нет никакого. Потом уже, когда ты там взрослый стал, кончил институт, тогда какой-то круг образуется. А так ты с утра едешь туда, вечером возвращаешься уже без задних ног. Я думаю, что вот это была главная проблема. Даже вовсе не политическая. Бродский сказал: в это время единственным способом частного предпринимательства было в кино пойти или с девушкой завязать роман. Все остальное было общественное.
О запахе
Ты выходил из столовой, а пиджак отцовский фланелевый весь вонял подгорелым маслом, жареными какими-то макаронами, котлетами. Жуткая столовая! Тебе там тетка подает котлету с макаронами, а у нее все лицо в сыпи какой-то. Она еще пальцем котлету придерживает! А когда у нас военные сборы были, я каждое утро приходил в столовку и брал хлеб и стакан молока. И каждый раз молоко кислое было. Вот месяц я пил кислое молоко по утрам.
О другой еде
Ходили в «Якорь» на углу Большой Грузинской и Горького. Или в «Арарат». Я там чинно ел — рыбу, бифштекс. На десерт кофе. И это было недорого. «Националь» был еще. В «Национале» иностранцы жили. Как у меня рассказик выйдет — так мы с друзьями шли в кабак. Каждый раз.
О коммунизме
Выпустили из лагерей выживших — это было главное. Некоторых я знал. Некоторых сажали еще на моей памяти, ни за что. Оттепель касалась интеллигентных людей в основном. А я наблюдал, что устроили в провинции. Я как раз был в Тарусе в это время: жратвы никакой не было, только консервы молдавские. И денег тоже не было. Ели какую-то фасоль. Хрущев начал борьбу с частной собственностью, потому что к коммунизму сильно рвался. Куры, гуси исчезли, коров запретили пасти где попало. Так что, с одной стороны, книжки и выставки, а с другой — ужесточение. У меня приятели на радио работали, у их просто хохма была — «до коммунизма осталось 864 дня», потом — 863. Каждое утро они так начинали. Никто в это не верил, конечно.
О конституции
Я диссидентом не был. Не понимал зачем. Потому что требовать, чтобы соблюдалась конституция, ну это смешно. У кого ты требуешь? У тех, кто ее не намерен соблюдать.
Об оптимизме
А про фильмы советские — это такая идеология, если ты невеселый, то хрен твой фильм поставят. При Хрущеве этот оптимизм был заложен как
начальное условие для производства любого художества. Скажем, в 1990-х годах, наоборот, надо было одну чернуху видеть в жизни. А тогда, если ты не оптимист, никуда не пустят, не дадут ни снимать, ни играть. Это совершенно понятно, никакого Германа тогда не могло быть.
Леонид Юзефович (р. 1947), писатель, историк, сценарист
О детстве в пригороде Перми
Детство я провел в Перми, точнее в Мотовилихе. Сейчас это район города, а раньше был отдельный поселок при старинном пушечном заводе. Мы с мамой переехали туда из Москвы, когда она вышла замуж за моего отчима. Он меня усыновил и заменил мне отца, соответственно, так я и буду его называть. Мне тогда было два года. Во времена моего детства Мотовилиху отделяли от Перми картофельные поля, кладбище и лог, по которому текла впадавшая в Каму маленькая речка Егошиха.
Наша Мотовилиха была похожа на уездный город. Возле завода — еще дореволюционные, двухэтажные каменные дома с магазинами, дальше — деревянная застройка и бараки. Мы поначалу жили с отцом в его номере в заводской гостинице. А бараки — это пристанище для тех, кто в годы индустриализации из деревень переселялся в город. Среди бараков стояло несколько пятиэтажных кирпичных домов конца 1920-х. Когда в 1952 году родилась моя сестра, отцу дали двухкомнатную квартиру в одном из них. Кстати, во всех домах, построенных до начала 1960-х, однокомнатных квартир не существовало в принципе. На кухне у нас была железная печь, на ней в ведрах грели воду в банные дни. Горячей воды не было даже у самого большого начальства. Дрова хранились в подвале, где у каждой семьи имелся свой дровяник. Лет через десять у нас появилась дровяная колонка, что было большой роскошью. Топили ее по субботам. Мыться раз в неделю считалось верхом гигиены.
О дворе и фонтанах
Двор был центром жизни не только для детей. Мужчины там играли в домино, женщины собирались вечерами, разговаривали. Какого-то особого пьянства я не помню. Всех дворовых пьяниц мы, дети, хорошо знали, и было их немного. Музыка нашего двора — трофейный аккордеон. До школы я гармошку слышал изредка, а баяна вообще не слышал. В каждом дворе был свой сапожник, инвалид войны. У нас был безногий дядя Горя Воронов. Горя — от Георгий, но у меня он ассоциировался с горем лишиться ног.
В центре нашего двора находился сквер, и в нем — фонтан с гипсовыми мальчиками. Таких фонтанов было много, они казались символом предстоящей нам всем счастливой жизни, где всегда будут цвести сады, бить фонтаны. Идиллически провинциальные представления о будущем. Но очень трогательные. Неслучайно в центре ВДНХ стоит знаменитый фонтан «Дружба народов» — как бы самый главный фонтан СССР. От тех фонтанов, над которыми он царствовал, теперь мало что осталось.
О способе одеваться
В 1954 году я пошел в первый класс. Помню портрет Сталина на первой странице букваря. У мальчиков была форма типа гимназической — китель с пуговицами, но Сталин умер, и тут, видимо, уже имели место некоторые послабления. Мама сказала учительнице, что не хочет, чтобы я в этом ходил — я и не ходил. Никто меня за это не преследовал. А потом форму для мальчиков отменили, оставили только для девочек. Ужасом моего детства были вельветовые штаны, застегивающиеся под коленками, как у аристократов в XVIII веке. Маме они казались очень элегантными. Она заставляла меня их носить, а я хотел обычные длинные брюки.
О детском питании
Основные продукты питания — картошка, макароны и гречневая каша с молоком. Бабушка заставляла сыпать в нее сахар для питательности. Она заставляла меня все есть с хлебом. Считалось, что так сытнее. Все абсолютно! Даже макароны бабушка заставляла есть с хлебом. Мама была более прогрессивных взглядов — она сахар в гречку не добавляла. И говорила, что не нужно есть макароны с хлебом и картошку с хлебом, ведь там и там — крахмал. Получается, что ешь хлеб с хлебом. Такие были баталии между бабушкой и мамой.
Мясо стало дефицитом в провинции, наверное, с конца 1960-х. Вначале мясо, потом колбасы. Рыбу можно было купить, икру — нет. В моем детстве красная икра была нормальной едой, лакомой, но не особо деликатесной. Черная икра тоже продавалась свободно, правда, она была значительно дороже. А красная икра — помню, бабушка давала мне ее с вареной картошкой, ложку столовую. Потом она исчезла из магазинов, зато ненадолго появились консервированные крабы. Очень дешевые, потому что их никто не хотел покупать. Люди не знали, что это такое. А когда распробовали, крабы тут же и закончились — пошли на экспорт, а все экспортные товары в СССР достать было трудно.
В конце 1950-х у нас в школе, в подвале, стояли вольеры с кроликами. В обязанности дежурного класса входило их кормить, чистить клетки. Кроличье мясо использовали в школьной столовой. Это было обычное блюдо. Кроликов продавали на рынке, я все у мамы просил, чтобы она купила мне кролика, чтобы он у нас жил. Так и не допросился.
О литературе
Мама любила стихи Есенина, Блока. Синий томик Блока в малой серии «Библиотеки поэта» побывал с ней на фронте и вернулся обратно. В юности я его почти весь знал наизусть. А отец — технарь. Когда мы к нему приехали из Москвы, у него, как посмеивалась мама, было 11 книг — 10 томов «Энциклопедии машиностроения» и «Война и мир». Чтение моего детства — это книги из районной и заводской библиотеки.
О кино
Поход в кино был достаточно дорогим удовольствием. Детский билет стоил 10 копеек, а школьный завтрак — пять. Телевизоров еще не было, а фильмы в репертуаре кинотеатров менялись нечасто. Успешная картина могла идти недели три, причем на всех сеансах — с раннего утра до позднего вечера. И еще не на каждый фильм пускали детей. В общем, кино — это редко.
Меня всегда волновали костюмные фильмы. Любимой была одна из первых наших цветных картин — «Мамлюк», экранизация повести какого-то грузинского классика. Режиссера тоже не помню, а сюжет следующий: в Грузии горцы похищают двух маленьких братьев, и через много лет один становится мамлюком в армии египетского султана, второй — солдатом у Наполеона. Они встречаются в битве под пирамидами, и один брат убивает другого. Этот фильм я смотрел раза три. Он меня потрясал невероятной по моим тогдашним понятиям исторической экзотикой.
Еще очень нравился фильм Сергея Юткевича «Великий воин Албании Скандербег». Это албанский национальный герой, он воевал с турками в XV столетии. Позднее фильм Юткевича пересмотреть не удавалось, по телевидению его никогда не показывали. После ХХ съезда КПСС в Албании отказались поддержать Хрущева с его разоблачением Сталина, и все связанное с этой страной ушло из советского культурного поля. До сих пор помню, как в этом фильме турецкая конница врывается на базар. И крупным планом: копыта идут по месиву из раздавленных помидоров, как по крови.
Об анекдотах
Из анекдотов, которые рассказывали в школе, помню только серию про Пушкина и Лермонтова. В этом школьном фольклоре они учились в одном классе. Первый был озорник и пройдоха, а второй — простак, его жертва. Анекдоты бывали довольно неприличные. Пушкин запросто мог сочинить матерный стишок. Мог громко пукнуть на уроке и сделать так, чтобы учитель наказал за это Лермонтова.
О галстуке как социальном маркере
О благосостоянии семьи можно было судить по пионерскому галстуку. Были сатиновые галстуки, а были шелковые. Шелковый — светло-алый. Его показывают в фильмах про Советский Союз, но такой галстук носили обычно дети обеспеченных родителей или самые аккуратные девочки. У большинства детей галстуки были сатиновые, более темные. Их нельзя было завязать аккуратным узлом, узел всегда немного морщился. Наша семья считалась обеспеченной, отец был начальником ствольного цеха, но я отказывался носить шелковый галстук. У мальчиков это считалось постыдным. Вообще носить новые красивые вещи было стыдно, потому что стыдно было быть богатым. Существовал такой розыгрыш — тебе говорят: «Cкажи „чайник“», ты послушно повторяешь: «Чайник». А в ответ: «Твой отец — начальник! Ха-ха-ха!» Почетнее было происходить из пролетарской семьи, но материально, конечно, сыну начальника цеха жилось лучше, чем сыну токаря или фрезеровщика. Впрочем, их разница в доходах и образе жизни была не слишком велика. Моя мама, будучи врачом, глазным хирургом, стирала дома в корыте, а полоскать ходила на ключ. Я ей помогал. Воскресными вечерами на нашем ключе полоскали белье женщины из разных социальных слоев, это был своего рода женский клуб.
Владимир Войнович (р. 1932), писатель
О переменах
Я учился в сержантской школе авиационных механиков в Польше. Тогда в авиации не было рядовых, потому что Сталин очень любил авиацию. При нeм говорили «сталинская авиация». И для авиаторов были особые условия: лучше кормили, платили большую зарплату. Авиамеханикам — кем я должен был стать — платили 500 рублей в месяц, в то время как рядовые других войск получали 30 рублей. Но как раз, когда мы сдавали экзамены, умер Сталин, «отец авиации», и нас выпустили рядовыми, а зарплату снизили через два месяца до 300 рублей. Это все равно было в 10 раз больше, чем у рядовых других родов войск.
О литературе
В 1956 году появился сборник «Литературная Москва». Там был напечатан рассказ Даниила Гранина «Собственное мнение». Очень смелый по советским понятиям. Человека на службе вынуждают совершить какой-то беспринципный поступок, выступить против безвинного человека. И он не смеет протестовать против этого. Он думает: я дослужусь до чего-нибудь и тогда смогу высказать собственное мнение. И так он служит, делает карьеру, и чем выше он поднимается, тем меньше он может выражать своe мнение. Очень смелый рассказ, стал тогда литературной сенсацией.
О стройке
Я не поступил в Литинститут и устроился работать на стройку. Я был из тех, кто понаехал. Это был элемент оттепели: наверху решили, что люди живут очень плохо и надо строить отдельные квартиры. Вот тогда, именно в 1956 году. Я и устроился на работу, потому что иначе в Москве было строго с пропиской: нигде иногородних не прописывали никаким образом. И вот объявили, что будет большое строительство, и людей со строительными специальностями принимали на работу. А я был столяр-краснодеревщик и устроился плотником на стройку. Уже через несколько лет Москву было сложно узнать. Я построил дом 13 в Аптекарском переулке, там потом жили актеры Николай Рыбников и Алла Ларионова.
О жилищных условиях
К 1960 году мы с женой и дочкой поселились в семейном общежитии. Это выглядело так: в одной комнате жили две семьи. Семья из пяти человек жила у окна, а мы — у двери, и они через нас ходили. Из имущества у нас была широкая кровать, кухонный стол и две табуретки. Мы ссорились с соседями, только когда я курил. Я тогда не понимал, что это вредно и может кому-то мешать.
О фельетонах
Я сначала устроился в газету, она называлась «Московский водопроводчик». Газета была многотиражная, орган трестов «Мосводопровод» и «Москанализация». Я там писал фельетоны. Темы были разные: я помню, как писал, например, про лабораторию, в которой исчез весь спирт. По истечении испытательного срока меня выгнали, но не потому, что я его не выдержал, а потому, что управляющему нашим трестом понадобилось устроить в газету своего племянника.
Мои фельетоны вызывали большое неудовольствие тех, про кого я писал. Я подписывался разными псевдонимами. Один был «В. Нович», а второй — «Олег Чухонцев». С настоящим Олегом мы учились вместе в институте. Мне присылали письма о том, что товарищ Олег Чухонцев не разобрался, написал неправду. Я брал письмо, запечатывал в редакционный конверт, отправлял Чухонцеву и писал строгие предупреждения, мол, «товарищ Чухонцев, редакция вас предупреждает: ещe будете так делать, то вам выговор». Он смеялся.
О деньгах и песнях
Потом я устроился на радио: в переходе метро мы с моим приятелем встречаем писателя Яна Полищука — он работал в журнале «Крокодил» и на радио. И он говорит: слушайте, ребята, мне нужен молодой, талантливый, без особых амбиций человек на должность младшего редактора, согласный на маленькую зарплату, где бы такого найти? И тогда мой приятель, с которым я был, говорит: вот молодой, талантливый, без амбиций, согласный на любую зарплату, — указывая на меня. Так я устроился на работу на радио. Младшим редактором. Это была редакция сатиры и юмора Всесоюзного радио. Пятницкая улица, радиокомитет — тогда это было очень важное здание. Радио тогда было главнее телевидения, потому что телевидение еще не было развито. Вышло так, что я стал писать песни, очень много писал, иногда по три штуки в неделю. И первая же песня стала знаменитой с первого дня, когда прозвучала в эфире. Потом Хрущeв процитировал ее, когда встречался с космонавтами, и мне за нее даже хотели дать Ленинскую премию (правда, потом расхотели). За песни я стал получать много денег. До этого зарабатывал только тем, что иногда стишки какие-то печатал. Помню, мы жили в коммунальной квартире, где 25 семей, у меня была соседка, бывшая вагоновожатая, Полина Степановна. А я писал лeжа. Иногда она заглядывала ко мне в комнату, видела, что я лежу, и говорила: «Этот все лежит и лежит. Разве денег так заработаешь лeжа?»
У меня была зарплата тысяча рублей, за каждую песню я получал еще по тысяче. А я их писал по три штуки в неделю, они еще распространялись где-то в ресторанах, на пароходах, и мне за исполнение тоже платили. Я стал получать огромное количество денег, и соседка та все говорила: «Интересно, откуда же у него столько денег? Себе пальто купил, жене пальто купил». Я тогда купил еще мотоцикл и поставил в коридоре, к еe ужасу.
А в 1964 году мне дали квартиру благодаря песням: главный начальник нашей радиостанции позвонил в Московский комитет партии и сказал, что есть такой человек, который пишет такие замечательные песни, но живет в ужасных условиях, в коммунальной квартире. И тогда мне дали квартиру на Шереметьевской улице. Как раз хрущeвку, пятиэтажный дом без лифта, трехкомнатную квартиру на четвертом этаже, и я был счастлив.
О ресторанах
В Москве в то время было всего несколько ресторанов. Тогда люди мало ходили в рестораны, ходили только более-менее обеспеченные, и то довольно редко. А рестораны были хорошие. Был замечательный ресторан «Арагви», грузинский, очень вкусный ресторан, очень популярный. Было кафе «Националь». Туда ходили литераторы, и даже если у них не было денег, официантки им иногда в долг давали, иногда бесплатно кормили, потому что они были завсегдатаи. Юрий Олеша был завсегдатаем «Националя», поэт Михаил Светлов, актер Ливанов.
Когда меня приняли в Союз писателей, у меня появился круг друзей, известных в то время. Я дружил с Самойловым, Левитанским, Слуцким, Тендряковым, Некрасовым Давид Самойлов — поэт фронтового поколения, переводчик.
Юрий Левитанский — поэт фронтового поколения, переводчик.
Борис Слуцкий — поэт фронтового поколения.
Владимир Тендряков — писатель.
Виктор Некрасов — писатель, диссидент, лауреат Сталинской премии.. Любимым был у нас ресторан Центрального дома литераторов (ЦДЛ). Там очень хорошо кормили. Я брал все время бифштекс с луком и всегда просил, чтоб поменьше бифштекса и побольше лука. Были котлеты пожарские, потом цыплята табака, котлеты по-киевски. А в «Национале» давали жюльен, очень вкусный. А в Доме журналистов в определенные месяцы появлялись раки и чешское пиво. Это было событие.
О пиве
Я дружил с Беллой Ахмадулиной и с еe мужем Борисом Мессерером. И они
О глушилках
Тогда были очень популярны «Голос Америки»*, «Немецкая волна»*, Би-би-си, радио «Свобода»*. Их глушили. Когда включаешь, то в радио такой звук «бу-бу-бу-бу-бу», и надо было ходить с радиоприемником по квартире и прикладывать его к батарее, переворачивать вниз антенной. Так лучше звук почему-то шел. За городом лучше было слышно. Некоторые даже специально выезжали за город. Так мы узнавали, что происходит на земле.
*«Голос Америки», «Немецкая волна» (Deutsche Welle) и Радио «Свобода» признаны иностранными агентами.
Евгения Уралова (р. 1940), актриса
О заботах
Я жила в Ленинграде в рабочей семье. Папа работал на заводе. Политику дома не обсуждали, но напряжение все равно чувствовалось: папа был евреем. Но при детях — ни слова. Поэтому что такое оттепель? Я узнала это слово, когда уже приехала в Москву. Я переехала в 1965 году, когда погиб молодой человек, за которого я собиралась замуж, и оставаться в Ленинграде я больше не могла. В Москве я познакомилась с Визбором. И вот тут уже услышала про оттепель.
А пока я в Ленинграде училась в Театральном институте, голова другим была забита. Целый день репетиции, библиотека, театры, фильмы. Мне еще приходилось работать, потому что я училась на вечернем факультете. Работала дворником, лаборантом. В лаборатории судебной экспертизы мы делали срезы, изучали их под микроскопом — вот это было интересно! Мне там очень нравилось, и меня даже приглашали перейти на учебу в Медицинский институт.
О смерти Сталина
Я помню, как умер Сталин. Мне дали выучить и прочитать по школьному радио стихотворение в его честь, и я этим очень гордилась. А в последний момент мое выступление отменили. Я думаю, это было из-за моей тогдашней фамилии — Трейтман. Я очень переживала. В школе все из-за смерти рыдали. А дома не рыдали. Там молчали, поджав губы.
Еще помню, когда умер Сталин, я подумала: «Ужас! А как же лозунги?» Меня это больше всего беспокоило. Как же мы теперь будем кричать, «великий Маленков»? Но это некрасиво, не звучит. «Великий Сталин! Вождь и учитель Сталин!» А «Маленков» — это как? Идиотское абсолютное переживание. Просто в Ленинграде дети были, мне кажется, гораздо наивнее, проще, а может быть, тупее в политическом смысле московских.
О жизни в коммуналке
Мы жили на улице Ленина, на Петроградской стороне. Комната у нас была 13 метров 20 сантиметров. Жили папа, мама, брат Сенечка и я. Брат был болен. У него был детский полиомиелит, и мама им постоянно занималась. Он заболел из-за меня. Случилось это вот как. Сенечка был маленький, мама попросила меня приглядеть за ним, а я отвлеклась, и он перевернул на себя только что снятый с плиты кисель. У него был ожог, ему делали инъекции в ногу и, видимо, занесли заразу. Я всю жизнь это помню и всю жизнь чувствовала себя виноватой, хотя в семье меня ни разу не попрекнули.
Когда мы после войны вернулись в Ленинград из эвакуации, наша квартира уже была занята детским садом, и мы поначалу жили в сарае. Потом папа встретил фронтового товарища, который устроился домоуправом. Товарищ поспособствовал тому, чтобы уже в другой квартире уплотнили жильцов и выделили нашей семье комнату. Думаю, не надо объяснять, что в новой квартире нам не были особо рады. Это притом что папа у меня был замечательный человек и очень много помогал нашим соседкам. Когда их мужья пили и попадали в милицию, папа всегда их вытаскивал. Но их отношение к нам так и не изменилось. На праздники мы собирались все вместе, ставили стол в коридоре, выносили каждый свой стул, но соседки никогда не присоединялись.
В комнате у нас была родительская кровать и большой шкаф с узорами, который папа сам сделал. И кушетка с раскладушкой, на которой мы с братом спали по очереди: неделю он, неделю я.
В нашей коммуналке были дежурства. В конце каждой недели дежурная комната мыла все места общего пользования — уборную, кухню и пол в коридоре. У нас было четыре человека в семье, и мы должны были мыть четыре недели подряд. Папа всегда это делал сам. Ночью. Все ложились спать, и он ночью мыл всю квартиру. Папа был чудесный. А когда к нам кто-то приходил, он говорил: «Ну, ты посмотри, вот если тебе что-то нравится, то ты возьми, пожалуйста!» Вот такой он был.
О XX съезде и оттепели
Дома не обсуждали политику, поэтому ни про какой съезд я не слышала. Он мимо меня прошел. Это в каком году вообще было? В 1956-м? А-а-а, это тот год, когда я в школьном драмкружке Недоросля играла.
Вот уже когда я в Москву приехала, то услышала «оттепель, оттепель». Обычно про нее говорили на кухне. Шепотом. Но недолго я слышала это слово: после 1968 года оно исчезло из обихода. Когда танки вошли в Чехословакию, все стали опять бояться посадок, бояться книжек. Не разговаривали, не встречались. Так и кончилась оттепель.
О внешности
Никакого культа фигуры в 1960-х не было. И в театральный мы поступали совсем разные. Моя подружка поступила вообще с весом сто килограмм! Мы не знали причесок, что такое каре. Ну, я по крайней мере. Не красились. Только иногда ленинградской тушью за 40 копеек.
Когда я поступила в театральный, то стала сниматься на «Ленфильме» в массовках. Три рубля за съемочный день. Людмила Гурченко, которая играла главную роль в фильме про блокаду, сказала: «Ты что ходишь в таких ботинках?! Иди купи в том магазине английские туфли». Туфли были на таком каблучке наборном, коричневые в полосочку. Мы с мамой насобирали денег у знакомых и купили.
И юбчонка у меня была такая в складочку, и мальчиковая черная рубашка. Это был мой самый красивый наряд. А так я ходила в свитере, который сама связала, и в юбке, перешитой из старого пальто, весь институт.
Об икре
Икру я ненавидела и, когда мама делала бутерброды, кричала: «Реже, реже!» И мы все в школу ходили с этими бутербродами. Она какая-то копеечная была. Самая дешевая была — наверное, селедка была дороже. И мы стреляли друг по другу икринками на перерывах.
О потрясении
Я уже в институте училась, когда встретила свою одноклассницу на улице. Она спрашивает: «Ты посмотрела „Летят журавли“? Иди!» Я пошла вместо какой-то лекции в 9 утра и так три сеанса подряд просидела, не могла встать. Ни один фильм не произвел на меня такого впечатления. И я когда смотрю сейчас фильм, всегда плачу. Особенно когда героиня бежит или когда герой падает — и вокруг вот это небо.
О гигиене
Были ленинградские «Ланолиновый» и «Спермацетовый» кремы. Стоили 17 копеек и 18 копеек. Ими мы мазались иногда, если не забывали. Никаких шампуней не было, голову мыли детским или хозяйственным мылом. Чтобы волосы не выпадали, втирали сок от лука. Воняло так, что невозможно было рядом находиться. А потом в институте на танцах мы потели, и шел запах прелого лука. Подмышки у всех пахли. Я помню, мне кто-то подарил дезодорант. Я сначала думала, что это духи. И белые круги у всех под мышками были. Никто ничего не брил. Какая-то врач сказала, что нужно взять пасту Теймурова, от запаха ног, — подмышки мазать. И мы с девчонками мазались. Трусы носили — длинные трико.
О романе с Визбором
Мы снимали «Июльский дождь» в Витенево, где у нас случился роман. Когда съемки заканчивались, мы с ним ходили по лесу, всю ночь гуляли, разговаривали.
Как свадьбу играли? Расписались, выпили шампанского с его приятелем, он был у нас свидетелем. Я побежала на спектакль, а он на работу. Вот и вся свадьба. Я была в костюмчике голубеньком, мама мне сшила. Узенькая юбочка. Все свои наряды я помню. А о чем говорили — нет.
О сталинских высотках
Сталинские высотки казались таким отвратительным вкусом! Все говорили, что это отвратительная архитектура. Их называли «тортом». Они такие пышные!
Об Ахматовой
Когда я была маленькая, Ахматова жила на улице Ленина. Ее комната была на первом этаже, и она всегда около окна сидела и работала. А мы там катались на велосипедах, орали, и она открывала форточку и говорила, чтоб мы ей не мешали: «Дети, выйдите вон». Куда выходить — непонятно, но так уж она говорила. Мы с ней не ругались, но нас раздражало, что какая-то старуха сидит и мешает нам.
А потом, много лет спустя, когда она была уже совсем пожилой, мы ездили к ней на дачу в Комарово. Она выходила к нам, мы садились на скамеечке и говорили про стихи. Мы с Наташкой из института что-то читали наизусть. И тогда она уже производила впечатление нечеловеческое. Можно было только открыв рот смотреть, какая она была величественная, неземная и недосягаемая.
О первом полете в космос
Мне был 21 год, я была в институте, и кто-то прибежал и сказал, что человек полетел в космос. Как?! В какой космос? Никто не рассказывал, что готовился полет. Все стали выбегать на улицу. Бежали на Невский, кричали «ура!». Это было ликование и потрясение.
О гастролях
Летом вместо отпуска я ездила с театральной бригадой на концерты. Это Росконцерт организовывал. Так театральные актеры зарабатывали деньги. Играли по деревням, по маленьким городкам. Играли Бунина, Чехова, Островского — всю классику. В навозе в длинных платьях перед трактористами в шесть утра. Потому что в половину седьмого или в семь они выезжали на тракторах копать или сажать.
Лежат эти трактористы на земле с бодуна, сальные, вонючие. Под ногами — навоз. Играешь. А что делать? Или выходишь вечером, после дойки, — все устали, в зале две старухи беззубые сидят. И Бунина играешь. Хлопают. «Деточка!» И яичко тебе даст.
Марк Розовский (р. 1937), драматург, композитор, режиссер
О своем вольномыслии
Лично для меня оттепелью стало то, что я в школе сделал доклад о вольнолюбивых мотивах в поэзии Пушкина. У меня была потрясающая учительница — Лидия Герасимовна Бронштейн. Учительница литературы. Потрясающий человек. Маленькая, сухая… Я ее обожал. И она меня, смею так думать, любила. А до этого, помню, я на школьном вечере решил прочитать стихотворение Есенина. Есенин был запрещенный. А я этого не знал. И я вышел и стал читать «Письмо к женщине». Если бы я был взрослый и смотрел на себя, я бы хохотал. Понимаете? Когда мальчишка говорил про свою «шальную жизнь»… Но мне так нравились стихи Есенина! И на конкурсе мне сказали, что Есенина нельзя! Я имел оглушительный успех, но мне не дали премию. Я спросил почему. Лидия Герасимовна говорит: «Есенина нужно для второго тура поменять. Нужно что-то другое». Я опять говорю: «А почему?» И тут я услышал это слово в первый раз — «эротика». Что это такое, никто в восьмом классе не знал толком, но я понял: это какая-то секретная любовь. Нельзя! На следующий день я приготовил другой сюрприз. Я выучил поэму «Девушка и смерть». При этом я спросил: «А Горького можно?» Учительница говорит: «Горького можно!» Но это было легкомыслие с ее стороны. Потому что она не знала, что я вредный начитанный мальчик. И то была еще большая эротика, нежели у Есенина. Я имел еще больший успех. И тогда мне подарили первый приз, но без премии. Такая вот оттепель.
О лексиконе
Стиляги возникли еще при Сталине, и это были первые цветочки. Они собирались на плешках. Одна была у метро, где площадь Революции. А вторая — у здания гостиницы «Москва». Что такое плешка? Такая тусовка, где толпились молодые ребята, стиляги. И там кадрили девочек. А если они не кадрились, то гуляли по улице Горького до Пушкинской площади, по «Бродвею», и искали их, как волки, в городе. Потом знакомились и развозили их на «хаты». А на хате — три станка, два станка, как повезет. Станок — это кровать в комнате, их бывало и по четыре. Тогда все у всех происходило в одной комнате. Выпиваешь с девушкой бутылку портвейна «Три семерки» — и на станки. Нет, сначала были танцы, прижимания, целования. А если это на всю ночь, то, значит, там гасили свет и уже все затихало постепенно. Ну и некие шевеления из разных углов. С хохмами, даже со сменами, пересменами. У Высоцкого в «Романе о девочках» об этом рассказано весьма правдиво. Еще был «шестигранник». Это в парке Горького такой танцзал. И там играл живой оркестр Самойлова Международный филармонический оркестр под управлением Д. И. Самойлова.. Они играли два бальных танца советских: быстрый танец краковяк и падеспань, их танцевали, как фокстрот. Танго под занавес давали.
Борьба против стиляг — это результат борьбы с космополитизмом. А вместо победы над космополитизмом страна получила космополитов действительно, потому что стиляги — реакция на зажим всего иностранного. У меня было черное пальто, обязательно белый шелковый или батистовый блестящий шарфик. Обязательно нужно было поднимать воротник. Дальше, было кепи — этакая кепочка с разрезом. Этот разрез именовался вульгарным словом, которым мы обозначали женский половой орган. Простите за детали, но мы же учились в мужской школе! Ну и черное бобриковое пальто с поясом — смесь дворового блатного стиля с откуда-то вылезшим пижонством. Ботинки на каучуке или на микропорке, узкие брюки, китайские галстуки… Обалдеть!
А в кармане у меня была «дура». Потому что послевоенное детство — мы все же были такие немножко приблатненные. И у меня был, представьте, кастет на случай драки. Поначалу, когда мы были маленькие, регулярно случались драки со «спецами». «Спецы» — это ребята, которые учились в военных училищах и которых в выходные выпускали из училищ в город. Они дрались поясами с пряжками, а мы — дурами. Пару раз мне съездили по морде, пару раз и я кому-то. Когда я смотрю на фанатов футбола, которые сегодня группкой идут, вот так же в те времена группка «спецов» шла. Стиляги ходили по тротуару. А они ходили по центру проезжей части. Но сами коллективные драки происходили в темных дворах, рядом с «Бродвеем», то есть с улицей Горького, ныне Тверской. Еще кое у кого была писка — бритва. На моих глазах одного пописали. Не попи́сали, а пописа́ли. То есть бритвой по лицу — чик-чик! И парень схватился за свое лицо. И у него, я запомнил на всю жизнь, как кровь хлынула между пальцев. Вот такие сцены, жестокие, страшные. Тоже оттепель. Стиляжничество, конечно, каралось. И был такой знаменитый «полтинник» у нас — 50-е отделение милиции. Всех стиляг и всех драчунов если ловили, то допрашивали там. Стригли наголо прямо в милиции. Кок под запретом, длинные волосы, набриолиненные, прощайте. Шпана оставалась шпаною.
О трехдневных собраниях
Когда я поступил на факультет журналистики, меня потрясло, что там комсомольское собрание длилось трое суток. На ночь, конечно, расходились. Но на следующий день оно продолжалось. Были поставлены вопросы ребром. Как жить факультету журналистики дальше? Почему нам не преподают стенографию? Почему нам не преподают машинопись? Очень острые темы, сегодня смешно, а тогда такие споры, такие страсти. И на этом комсомольском собрании старшекурсники рьяно выступали: почему нас неправильно учат, почему мы не можем стать профессиональными работниками будущей советской партийной печати? Еще у нас на журфаке были потрясающие звезды поэзии. Я ахнул, потому что такой был поэт, с футуристическим уклоном, Горюшкин, поэт Апенченко. И Сережа Дрофенко. Ну, Сережа Дрофенко вообще потом стал большим поэтом, в журнале «Юность» печатался. Горюшкин я не знаю, где работал, но у него, помнится, были такие замечательные строчки: «Поцелуй горячий, как шерстяной носок». Все это читалось на комсомольском собрании. Читались стихи. И проблемы обсуждали, и стихи читали. Ну, сегодняшним языком я бы сказал, что это был такой комсомольский майдан.
О журфаке
Учили нас, однако, неплохо. Потрясающие были лекторы. Архипов Владимир Александрович Архипов — профессор кафедры истории русской литературы и журналистики МГУ,
с 1966 по 1968 год — завкафедрой. читал завораживающе — блестящий знаток русской литературы. Александр Васильевич Западов Профессор, с 1963 по 1997 год — заведующий кафедрой редакционно-издательского дела МГУ. читал древнерусскую литературу. Блистательный курс древнерусской литературы. Елизавета Петровна Кучборская Профессор кафедры зарубежной журналистики и литературы МГУ. — античную литературу сверхартистично преподавала. Каждая ее лекция была концертным номером. Мы их обожали. Потому что мы, ничего не знавшие и ничего не понимавшие, вдруг столкнулись с высшей культурой российской. А когда с друзьями делали капустники начиная с первого курса, они нас поддерживали. Смеялись и восторгались наравне со студентами. Потом мы поехали на целину. Вот это была настоящая оттепель! И вообще понимание, первое осознание себя лично ко мне пришло именно на целине. Это 1958 год уже был. И я должен вам признаться: я ехал на целину правоверным комсомольцем, вернулся же антисоветчиком. Почему? Потому что впервые столкнулся с правдой. Правдой советской жизни. То есть с враньем и демагогией. Оттепель — это уход от иллюзий, это взросление. Это рассвобождение общественного сознания в связи с XX съездом. Роман Дудинцева «Не хлебом единым», голос Паустовского, травля Пастернака, первые публикации Андрея Платонова, Михаила Булгакова, Солженицын, «Теркин на том свете», процесс Синявского и Даниэля, наши танки в Праге, Пикассо и Джоконда в Москве — все это этапы оттепели, переходящей то в заморозки, то к оттаиванию мыслей и сердец.
О теплой крови
Я ехал на целину с открытым сердцем, и мы все такими ехали в товарных вагонах. И на целине я узнал, что почем и кто есть кто. Работали в поле по восемь-десять часов, я работал копнильщиком на комбайне каждый день. Жили в степи, в палатке, потом в землянке, по нам бегали крысы. 83 дня. Жрать было нечего. А в штабном комсомольском домике жратва была, они там жрали консервы. А почему не делились? Сразу возник, так сказать, социальный классовый протест. Дальше могу рассказать страшную историю. Была такая девочка, по имени Инесса Гиббонс. Она училась на филфаке и пела английские песни в клубе, и очень хорошо пела. «Джингл белс, джингл белс…» С большим успехом. Она была дочерью какого-то высокого члена ЦК, кажется, компартии Великобритании, который, видимо, послал ее учиться в Московский университет. Она была очень живая, хорошая девчонка. Я был с ней знаком, мы вместе участвовали в концертах в Москве. И вот мы живем в степи. И поехали за чем-то в райцентр, а это больше 100 километров. Надо было по грейдеру Грейдер — разговорное название дороги, построенной при помощи одноименной машины для выравнивания и перемещения грунта., по степи доехать. Мы сидели на грузовике, в кузове. И вдруг останавливаемся и видим страшную картину. Перевернутый грузовик — и борт грузовика на шее одного из студентов. И простите, голова его в метре от туловища. И кровь. Как вы понимаете, я был потрясен. Но меня потрясла не столько смерть, сколько то, что произошло потом. Нас тут же вызвали в штаб студенческого отряда. И с каждым поговорили. Сказали так: закройте рот. Ни один человек не должен в отряде знать о том, что вы видели. Под страхом исключения из комсомола и исключения из университета. И сказали: подпишите бумагу. Я отказался подписывать. Со мной долго работали. Оказалось, этот парень, чья голова была на том грейдере, — это был брат Инессы Гиббонс. Понимаете? Это был просто несчастный случай — можно было сказать, все бы поняли. Но почему-то под страхом смерти об этом нельзя было говорить. И я молчал. И все молчали. И было стыдно. И мерзко на душе. Оттепель — это пробуждение совести. А тут все как-то бессовестно было. Нечестно. И выводы приходилось делать. Поскольку хотелось думать и осмыслять. То, что происходило с нами и со страной. Бывало, мы по пять суток не ели ничего. Все говорили: как можно? Мы же работаем. Вы же нас сюда привезли, кто-то несет ответственность. Один раз к нам пришел какой-то пастух. Это трагикомическая история. Он к нам корову привел. И как сейчас помню, мы из палаток вышли, и он говорит: «Нате, ешьте». — «Как ешьте?» — «Ну вот, корова вам, ешьте!» Значит, ее надо было убить, разделать. А мы студенты! Мы подоить ее не умели, не то что убить. Ну, нашлись все ж наши богатыри, связали эту корову. Лежит она на боку. Я никогда не забуду этот ее глаз, который на меня смотрит. Черный глаз — она, видимо, понимает, что ей сейчас резанут горло. Перерезали. Кровь хлынула, и наш комсомольский вожак первым подскочил, с кружкой, и эту кровь теплую набрал и пьет! Я говорю: «Ты чего?» Какой бы я там голодный ни был, но для меня, городского щенка, это было дико. Я никогда не забуду, как он обернулся и говорит: «Это гемоглобин, мудак!» Но я так и не попробовал. Теплой крови.
О пятой графе
Когда мне исполнилось 16 лет, в 1953 году, надо было на следующий день идти получать паспорт, мама сказала: «Все что хочешь, сынок, но евреем ты не будешь. Пиши, что грек». Это, конечно, сделало мою жизнь смешной: Розовский Марк Григорьевич — «грек». Тут же мой товарищ пошутил, что я единственный в мире человек, который совершил путь из евреев в греки. А я добавил: «Волоком!» Надо понимать, что это значило: дело врачей, и какой был страх. Оттепель стала прогонять страх, и это главное, что началось в обществе, не знавшем свободы и не умевшем жить в этой самой свободе. Отец-то мой сидел, репрессированный навек, все мое детство — безотцовщина, до реабилитации далеко, так что маму мою можно понять. Хотелось выжить.
О юморе
А когда я пошел работать, в 1960 году, в отдел сатиры на радио, мне кажется, уже не оттепель была, а нечто другое началось, впоследствии получившее название «движение шестидесятников». На радио мы как бы высмеивали. Но разрешалось высмеивать только бытовые неурядицы, человеческие взаимоотношения на уровне очень поверхностном. Я помню анекдот тех лет. Приходит в поликлинику человек и говорит: «Запишите меня к доктору „ухо‑глаз“». — «Наверное, вы хотите к „ухо-горло-нос“?» — «Нет-нет-нет! Мне нужно к „ухо-глаз“». — «А на что вы жалуетесь, больной?» — «Понимаете, большая разница между тем, что я вижу, и тем, что я слышу!» Но по радио мы такое не читали: посадили бы к чертовой матери!
Вот тому, что меня взяли туда работать, я до сих пор удивляюсь. Меня принимал лично товарищ Кафтанов на работу, то есть главный! У него был огромный кабинет. И огромный стол, пустой совершенно, на нем только мраморный бокал, а в нем — остро отточенные карандаши! Очень остро! Вот если взять карандаш и так ткнуть, скажем, в горло, то можно проткнуть человека. А он был такой грузный человек, килограммов на сто сорок. Кафтанов — председатель Гостелерадио. Меня посадили в такое мягкое низкое кресло, тогда были в моде торшеры, первые кожаные кресла. И вот помню: я сел в кресло, и мой нос где-то на высоте его пупка. Значит, он наверху где-то, а я где-то внизу. Вдруг он из-под стола вынимает мое дело. Листает и говорит: «А почему вы грек?» Я отвечаю: «У меня мама — гречанка». Он засопел, сделал паузу. «А папа у вас кто?» — «А папа — инженер!» Вот так я сморозил. Я же не мог сказать, что папа еврей. Так я попал в разряд «верных сынов отечества». В главную редакцию пропаганды Всесоюзного радио. Это я-то, со своими убеждениями! Я тогда уже, конечно, не принадлежал им. Да и страна уже дышала другим воздухом. Климат будто поменялся.
И через год я ушел, меня сам Катаев пригласил в журнал «Юность», я стал редактором «Пылесоса» — отдела сатиры и юмора журнала «Юность». И тут началась другая совсем жизнь, потому что журнал «Юность» — популярнейший молодежный журнал. Рядом с Аксеновым, Балтером работает вся великая поэтическая когорта: Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Рождественский. Будучи редактором, я стал публиковать своих друзей. Гришу Горина, Аркашу Арканова, Витю Славкина, Сашу Курляндского, Аркашу Хайта, Эдика Успенского. Сейчас это известные писатели, лауреаты всякие, их знает сейчас страна, а тогда это были авторы капустников, сделавшиеся писателями, драматургами, мастерами слова.
О еде и туалете
Анекдот тех лет расскажу. Приходит товарищ из ЦК к доктору. Говорит: «Доктор, помогите». — «А на что вы жалуетесь, больной?» — «Понимаете, вот как поем из пайка черной икорки, на утро меня несет всем черным. Все черное из меня выходит, понимаете? Поем красной икорки — утром все красное-красное. Белой рыбки поем, покушаю вечером — все белое из меня вылезает, понимаете. Что делать, доктор?» Доктор ему и говорит: «А вы ешьте такое же говно, как все, и все у вас будет в порядке!» Вот это и ели. Картошку и капусту ели, я их до сих пор обожаю. А слово «грейпфрут» мы даже не знали. Страна, в которой, с одной стороны, Гагарин в космосе, а с другой — у 90 процентов страны нет канализации.
Гарри Бардин (р. 1941), художник-мультипликатор, актер
О детстве
Мы приехали в 1947 году в Латвию из Энгельса. Мой отец был морской офицер. И мы переехали в Лиепаю и жили в воинской части. Спали на бетонном полу, на карте мира в разных частях света. А потом папе выделили помещение, оставшееся от владельца небольшого магазина, бежавшего вместе с немцами. Заброшенный магазин. Из двух комнат и кухни. У папы были золотые руки — он все улучшал этот дом. Мама и папа были молоды, мы с сестрой были маленькие и не замечали отсутствия комфорта. И у нас была печь, в которой жарили на золе картофель. Пылала печка, свечи горели. У меня ощущение такой красоты и такой вкусноты от картошки с солью.
О латышском национализме
В Латвии оттепель не чувствовалась: наоборот, там по лесам ходили «лесные братья», все еще партизанили. Случалось так, что они даже по ночам вырезали казармы матросские. Было неспокойно. В моей школе учились половина русских детей, половина — латышских. На больших переменах швыряли каштаны друг в друга. Шли бои между русскими и латышами.
О новой музыке
Пока мы жили в Латвии, оттепель не очень чувствовалась, потому что это Европа. Но когда мы переехали в Киев, в 1960 году, я почувствовал: да, поменялся вектор. Я это отчетливо понял, когда увидел записи Ива Монтана. Это было ошеломительно, потому что после наших солистов Краснознаменного ансамбля Александрова, которые были под стать Кобзону, такие поющие ящики. И вдруг появился гибкий, пластичный, с мужской харизмой замечательный актер! Поющий! Который давал настроение! Который прекрасно владел аудиторией. Это было на экранах кинотеатров Киева, телевизоров еще не было. Мы ходили с родителями. В фойе кинотеатров тогда играли оркестры и пели заштатные певцы из Москонцерта.
О женской моде
В смысле одежды публика особо не изгалялась. Да и одежды особо не было никакой. Я помню, на маме были румынки — такие полуботиночки с вынесенным на верх каракулем. Фетровые шляпки на женщинах. Потом, в 1960-х годах, когда мы переехали в Киев, появилась потрясающая молодежная мода. Она появилась после Фестиваля молодежи и студентов в Москве. Например, юбка колокол. Под эту юбку надевалась еще юбка, специально накрахмаленная. И этот колокол держался. Это было необычайно соблазнительно. Я женскую красоту оценивал довольно рано.
Об ощущении оттепели
«Я шагаю по Москве» — самый оттепельный фильм. Ощущение Гены Шпаликова Геннадий Шпаликов — киносценарист, кинорежиссер, поэт. — ощущение времени. Оно точно совпало с нашим мироощущением. Появилась свобода! И самым ярким выражением этой свободы там идет самый несюжетный эпизод: когда герой — на велосипеде, под зонтиком, героиня — босиком. Она идет, а он держит зонтик над ней и едет вокруг нее зигзагами по мокрой улице Москвы. Это ощущение весеннее. Я не могу его передать словами, но это ощущение счастья.
О прическах
Во время оттепели появилось разнообразие в прическах. Хвост стали делать, завязывали ниточкой. Хвост назывался «лошадь хочет писать» — такой вздыбленный. Еще в моду вошла подмалевка глаз карандашом чуть дальше ресниц. Бенгальские глаза. И туфли на шпильках еще появились. А до этого ведь мода и не существовала. Принято было просто не высовываться.
О партии
Мой папа был правоверный коммунист. Он вступил в партию под Сталинградом. Это для него было святое. Потому что в армии промывали мозги чисто. И к XX съезду партии он отнесся очень настороженно. Но я в ту пору уже что-то начал соображать и сказал папе, что Сталин — это цветочки, а ягодки — Ленин. На что он говорит: «Хватит с меня Сталина. А Ленина оставь мне, Ленина не трогай».
Об оппозиционной газете
В школе в Латвии я в старших классах пел и танцевал. И световую газету выпускал. Это я на фотопленке смывал эмульсию и чертежным перышком рисовал шаржи на учителей, на педагогов, на директора школы самого, на учеников. И комментировал потом под эпидиаскоп, проецируя на экран. Было настоящее шоу, в котором разрешалось критиковать директора! И смеяться над ним! Это был 1957 год.
О самых памятных культурных событиях
В 1964 году в Ереван, где я служил, приехал Шарль Азнавур. Я был в увольнении, пошел на его концерт. Он из Эчмиадзина Эчмиадзин — город в Армавирской области Армении. привез свою бабушку, посадил в первый ряд и пел для нее, старался. Он был молодой, чуть больше 30 лет. Что он вытворял!
Еще была выставка американской графики в Ереване. Я попросил у знакомого гражданскую одежду, потому что солдатам нельзя было на американскую выставку. И пошел на выставку. Тут же меня вызвали в первый отдел Первый отдел — отдел в советских организациях, осуществляющий контроль за секретным делопроизводством и обеспечением режима секретности.. И пальцем перед носом, что я нарушил как бы святая святых.
Театр Станиславского в 1964 году — это было яркое впечатление. Смотрю «Двое на качелях» Гибсона Пьеса «Двое на качелях» американского драматурга Уильяма Гибсона. Написана в 1958 году.. И там играет худенький молодой актер. Замечательный! С длинной, непроизносимой фамилией, которую потом все произносили легко. Это был Армен Джигарханян. Мы потом подружились. Мы и сейчас перезваниваемся, и он озвучивает героев во многих моих мультфильмах.
О двух правдах
Помню, что после XX съезда за анекдоты уже не сажали. В этом смысле появилась определенная мера свободы. Потому что до этого нас предупреждали: не рассказывайте анекдоты. Страх сидел в наших родителях. О чем бы мы ни говорили, о чем-то остром, но всегда присовокуплялось: ну, это ты здесь говоришь, дома. До XX съезда существовала домашняя правда и уличная.
О конце оттепели
В 1964 году я поступил в Школу-студию МХАТ. Наше общежитие было в Дмитровском переулке. Был октябрь. Грохот: где-то неподалеку шли танки. Потом мы узнали из газет, что сняли Хрущева при поддержке вот этой бронированной техники. Я думаю, там и закончились наши надежды. Потому что дальше пошло «забалтывание» и развенчание. Маразм постепенно нагнетался, а мы стали жить своей параллельной жизнью: они жили своей жизнью, бубнили свои речи на съездах, а мы — своей жизнью.
О водке и искусстве
Первый стакан водки я выпил на заводе в Киеве. Закурил на заводе. А в театральном продолжил. Водка «Московская» стоила два восемьдесят семь. А закусывали жареной килькой. Я называл это «хор имени Пятницкого». Водка была вкуснее этой кильки. Иногда брали плавленый сыр «Дружба», китайский. И буханку черного хлеба. Либо одно, либо другое, либо третье. Нужно было успеть до десяти, до закрытия «кишки» — длинного магазина на Тверской (сразу с Камергерского если поворачивать — направо). Брали пол-литра на пятерых, мы не напивались, нам нужно было для разгону, чтобы начать беседы о высоком, об искусстве. А беседы шли уже «под сухую». Мы читали стихи. У Суховерко Рогволд Суховерко — актер театра и кино., сейчас он артист «Современника», были толстые общие тетради со стихами Мережковского, Гиппиус, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, выписанными вручную. И он меня познакомил с этой стороной жизни, чего я был лишен до этого.
О театральной Москве
Студенческий билет открывал двери в любой театр. Если не было у нас мастерства Актерское мастерство — предмет в театральных вузах. вечером, то шли прямо с сумкой, в которой треники, в театр. А после театра к себе в общежитие. Мы делились на москвичей и иногородних. У них свои дома, семьи, а у нас общежитие. Но они тяготели к нам и от родительского диктата спасались в общежитии. У нас была вольница в общежитии. И там возникали и романы.
О бедности
Девочки штопали колготки: не могли купить новые. А девочки — будущие артистки, они должны были выглядеть хорошо. Бедность без осознания бедности, потому что нам не с чем было сравнивать. Не было детей олигархов. Никто не приезжал на роллс-ройсах на занятия по мастерству актера. Некому было завидовать. Мы были бедные среди бедных.
О запахах
Папа — это «Шипр». А мама — «Красная Москва». И папа с упорством кретина каждый раз дарил на Восьмое марта маме «Красную Москву». Очередную красную коробку, в которой умещалось мыло, пудра и одеколон «Красная Москва». Мама делала вид, что рада. Но я думаю, что эти подарки уже давно достали. Был еще тогда запах «Белая сирень» — рижская фабрика, кажется, выпускала. Очень хороший, кстати, запах, очень модный был. Все пахли одинаково. И всех одинаково хотелось. Вот в чем-загадка-то!
Юлий Ким (р. 1936), бард, поэт, композитор, сценарист
О Камчатке
На Камчатке оттепель никак не отразилась. Я там жил в глухом рыболовецком поселке Ильпырском, который находился на 60-й параллели, как и Ленинград. Каждое лето — белые ночи, а по ночам — полярное сияние. Этот поселок сейчас уже кончил свое существование С 1994 года — село Ильпырское., новейшее время его сделало ненужным. Безветренных дней у нас было не больше десятка в году, и потому шум прибоя раздавался все время.
В поселке был рыбокомбинат и тысячи две населения. Комбинат был хороший: свои морозильные цеха, свои икорные цеха. Так что он продукцию выдавал и был даже относительно богаче других, потому что содержал роскошный клуб, например, и прекрасный детский сад.
На нашем замечательном рыбокомбинате был свой устоявшийся быт, свои незыблемые правила. Там было легко: все диктовала простота отношений человека и природы. Поселок кормился рыбой. В этом смысле он был таким же, каким мог быть до революции, после революции и даже сейчас. Что касается новых мыслей и веяний, то они, конечно, доходили — в виде журналов и книг. У меня учились ребята в вечерней школе, мотористы, моряки. Я преподавал литературу и историю и давал им читать роман «Три минуты молчания» Роман Георгия Владимова. Был опубликован в журнале «Новый мир» в 1969 году., который вышел в «Новом мире».
На уроках я спокойно рассказывал и о культе личности, и обо всем, что мне удалось тогда узнать. Сразу после доклада на XX съезде пошли статьи — сначала небольшой струйкой, а потом уже широким потоком, в разных журналах. Правда о строительстве социализма, о Великой Отечественной войне, о Гражданской войне. Сразу столько отпетых «врагов народа» было реабилитировано. В кратком курсе Сталина, по которому мы учили историю Советского Союза, были враги Тухачевский и Якир «История ВКП(б). Краткий курс» — учебник по истории партии, опубликованный в 1938 году. Концепция создана под руководством Сталина. Согласно учебнику, многие военачальники Красной армии времен Гражданской войны, среди которых — Михаил Тухачевский и Иона Якир, обвинялись в военном заговоре с целью захвата власти и были репрессированы. . А оказалось, что и Тухачевский, и Якир, и другие были героями — в подлинном смысле этого слова. Я в школе об этом говорил совершенно откровенно. Никаких препятствий не встречал. Тем более у нас была прекрасная директриса, совершенно на уровне нового мышления. И с ней работалось очень хорошо.
О проблемах
Люди на Камчатке жили насущными проблемами — сдали план, не сдали. Удалось самому засолить рыбешку, не удалось. Как с охотой дела? Что растет на подоконнике? И где там что покупать. Весенняя путина несколько раз заставала нас врасплох, и в комбинате резко не хватало рабочих рук. Были сезонные рабочие, но их привозили обычно на осеннюю путину. А на весеннюю рабочих рук не хватало, и тогда весь поселок поднимался и шел на комбинат. И мы тоже. Все старшеклассники, и все учителя — все шли и находили себе какую-то работу. Подносить соль или ее же разбрасывать. Когда я был в Москве, то увиливал от субботников. А здесь было ясно, что от этого зависит жизнь всего поселка. И что ты сволочь будешь, если не пойдешь раскидывать соль по всем этим чанам. Вот я и раскидывал.
О плане
Там был мощный директор комбината, Николай Алексеевич Долгов. Он ведал, в сущности, всей жизнью. Так он устроил свое хозяйство, что приходилось к нему стучаться даже за какой-нибудь мелочью. И с него спрашивали в области. Сначала разрабатывали план добычи рыбы, а потом спрашивали с него. Но рыбу не запланируешь, как картошку: она либо придет, либо не придет. И он обещал, скажем, сто тонн селедки к концу апреля. А рыба подошла только в начале мая. Так его таскали: что же у тебя — план написан, а ты не сдаешь по нему?
О физиках и лириках
Теодор Вульфович Советский актер, кинорежиссер, сценарист. поставил картину «Улица Ньютона, дом 1» по сценарию Радзинского с моим участием и участием Юры Коваля. Мы там с Юрой выступаем в роли бардов. Фильм был про честь и достоинство в науке. В центре — два молодых физических гения. Один гад, а другой честный. Оба физика сделали открытие, после которого перед ними открывались все коридоры. Им предстояло сделать по нему доклад. Очень ответственный доклад, перед очень крупными светилами. И накануне этого доклада честный физик нашел ошибку в расчетах. А бесчестный сказал: мы потом ее исправим, давай сначала сделаем доклад, получим все льготы, а потом начнем работать в лаборатории и потихонечку эту ошибку исправим, а сейчас не надо лезть, отказываться от всего. Но честный настаивал. Кончилось тем, что бесчестный стал делать этот доклад без своего напарника. А напарник узнал об этом, приехал на доклад, вошел и закричал: ты все врешь, ты все врешь! И полил его из огнетушителя, чтобы прервать лживый доклад. И в этом фильме еще была сцена студенческой вечеринки, которая уже не мыслилась без гитары, без бардов, мы их и играли.
В оттепель для молодежи замаячила открытая наука с ее международными связями. Все было распахнуто: пожалуйста, пользуйтесь любыми научными журналами на иностранных языках. И научная мысль мощно двинулась. Она и раньше поощрялась. Но очень часто закрывалась секретными всякими ограничениями. Не могли ученые толком между собой обмениваться данными. А когда появилась полная свобода, научные академгородки просто расцвели. Начальство смотрело сквозь пальцы на их духовную жизнь. В Дубне, в Обнинске, в новосибирском Академгородке они делали что хотели. Барды у них пели, любая литература, самиздат распространялся. И физики с лириками все время спорили, кто из них важнее. Начальство все это до поры позволяло, потом тоже подкрутило гаечки.
Об эстраде
Появились трибуны. Поэзия впервые вышла на большую эстраду. Это не теперешние рок-концерты. Вместо рока на сцену выходил товарищ Евтушенко и читал три часа свои произведения. А его там сменяла либо Белла Ахмадулина, либо еще кто-нибудь. Либо барды со своими гитарами. И на это собирались стадионы! Однажды, я помню, принял участие в таком концерте. Вместе с Андреем Вознесенским я пел свои песни. В Малых Лужниках. Десять тысяч народу там было.
О диссидентских песнях
В 1963 году я сочинил свою первую антиправительственную песенку, где позволил себе посмеяться над Хрущевым и его встречей с интеллигенцией в марте 1963 года. Она называлась «Весенняя вода». Там я довольно добродушно подшучивал над наездом на наших писателей. Потом Хрущева сняли, и у меня появилось еще несколько песенок, уже с этим связанных. Потом пошли какие-то нарушения прав человека, возникла крымско-татарская тема, потом суд над Бродским, потом над Синявским — Даниэлем.
О подписях
В 1968 году я расписался в нескольких документах. В одном даже немножко посоавторствовал — в обращении к деятелям науки и культуры, смысл которого заключался в том, что возрождается сталинизм, опять начинает свирепствовать цензура, идут суды над инакомыслящими. Нас было трое: Илья Габай, Петр Якир и я. Потом был еще документ. Обращение к Международному совещанию коммунистических и рабочих партий в Будапеште. Очень сжатое письмо, на одной страничке, не такое эмоциональное, как предыдущее обращение. Но оно вышло за рубеж и, судя по всему, наделало там шороху. Потому что всех, кто его подписал, выгнали с работы.
О завинчивании и развинчивании
Тяжело сказать, когда именно оттепель закончилась. Ведь театры, поэты и барды, которые появились при Хрущеве, никуда не делись после его отставки. Сталинские запреты так и не вернулись. Просто гайки потихоньку завинчивались, а потом опять развинчивались. Я помню, как в 1975 году в Театре Советской армии репетировалась инсценировка великого романа Курта Воннегута «Бойня номер пять». Афишное название спектакля было «Странствия Билли Пилигрима». Театр находился в ведении учреждения ПУР — политуправления армии, и оно покровительствовало постановке. Но московское начальство, наоборот, препятствовало. Там был такой Г. Иванов, который запрещал репетировать. Говорил, что спектакль у нас получился пацифистский. Советский Союз же тогда боролся за мир, и в этой борьбе все шишки валил на Соединенные Штаты. И Г. Иванов придирался к тому, что американцы получаются слишком миролюбивые. И вдруг летом 1975 года советский космический корабль «Союз» состыковался с американским кораблем «Аполлон». Это была временная разрядка международной напряженности. Тут же было дано разрешение выпускать спектакль. Более того, Г. Иванов тогда сказал: «Может быть, к осени вам американцев придется „улучшать“».
О брюках
Нет, стилягой я не был. Но мы тогда все сузили брюки. И до сих пор их не расширяем.
Марлен Хуциев (р. 1925), кинорежиссер, сценарист, актер
О действительном начале оттепели
Двадцатый съезд был в феврале 1956-го, а между тем в этом феврале мы с Феликсом Миронером уже вовсю снимали «Заставу Ильича». До этого было малокартинье. Значит, жизнь изменилась значительно раньше съезда. Дело не в Хрущeве. В 1953-м появился замечательный министр культуры Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко Пантелеймон Пономаренко — министр культуры СССР с 1953 по 1954 год.. Пантелеймон Кондратьевич был во время войны начальником партизанских отрядов, а тут стал министром культуры! Вот при нeм и началось оживление, которое потом стали приписывать XX съезду. В конце 1956-го вышла картина «Весна на Заречной улице». Уже шла в кинотеатрах.
Так что не Хрущев — наоборот. Если вспомнить какие-то акции, которые он производил, — два заседания с интеллигенцией Никита Хрущев встречался с «творческой интеллигенцией» в 1960 и в 1963 году, а в 1962 году посетил выставку МОСХа в Манеже., потом разгром Манежа — он вeл себя неразумно.
О действительном конце оттепели
Я закончил «Заставу Ильича», картина была замечательно принята министром культуры Фурцевой Екатерина Фурцева — министр культуры СССР с 1960 по 1974 год., и она пыталась еe отстоять, когда фильм повезли показывать Хрущeву. Но ей ничего не удалось! Стукнули так, что после этого я еще два года занимался поправками. Это 1962 год. Тогда я понял, что оттепель кончилась.
Еще хорошо помню полет Гагарина в 1961-м. Я приехал на студию и сказал: «Ребята, с нашей картиной будут неприятности. Мы в космос полетели, а у нас картина про то, что молодые люди мучатся, как жить. Как они могут мучиться, когда у нас такие достижения?» И я был прав.
О консервах
На мои дни рождения у меня собиралось много народу. Бывали и Белла Ахмадулина, и Виктор Некрасов, и Поженян Григорий Поженян — поэт-фронтовик, сценарист, лауреат Государственной премии России.. Однажды даже Высоцкий был. Жена готовила сациви. Каждый год. Я занимал 50 рублей и на них мог накупить всего, чтобы был целый праздник. Но моя жена делала одну глупость. Я никак не мог с ней справиться. Сациви — это горячее блюдо, его надо подавать после закуски! А так как сациви подавали слишком рано, все на него набрасывались, и потом никто не хотел есть консервы, все оставалось.
О Тарковском
Один раз ко мне на день рождения пришeл Тарковский с сыном. Он у меня когда-то был на практике, так что мы с ним хорошо очень знакомы были. И в подарок они принесли огромную головку рокфора. У нас был рокфор, наш, советский, один-единственный сорт. Резкий, настоящий рокфор.
О Шукшине
Тогда существовал обычай обсуждать фильм сразу после просмотра. И вот вышли «Два Федора» с Шукшиным в главной роли, и фильм обсуждали в малом зале Дома кино. Василий Макарович был человек взрывной, что-то произошло, и он там вмазал милиционеру. Его на 15 суток посадили. Мне пришлось его вызволять. И Шукшина привели на обсуждение под конвоем. Он сидел, а милиционер стоял рядом.
О переменах
«Голос Америки»*, запрещенные радиостанции — я этого ничего не слушал. Ну что это такое — под одеялом слушать! Мне было неинтересно. Я просто наблюдал жизнь. Она в чем-то стала лучше, в чем-то — хуже. Я обратил внимание, что молодые люди стали выше ростом, девушки стали лучше смотреться. Одеваться стали немножко красивее.
*«Голос Америки» признан иностранным агентом.
О вежливых милиционерах
Один раз Новый год мы встречали у однокурсника. Он был демобилизованный фронтовик, получал пенсию и имел возможность снять комнатенку недалеко от ВГИКа. Там во время войны я первый раз попробовал водку и вышел на улицу поддатый. И ко мне подошел милиционер. «Вот, — говорю, — встречаем Новый год. Разве не имеем право?» — «Имеете, что вы, конечно! Вы из этого подъезда? Ну вот, пойдeмте, я вас провожу». И проводил меня к подъезду.
О ключевых словах
Не могу сказать, но, говоря о словах, помню, что тогда было очень распространено слово «точно». Если соглашались, то говорили «точно». Это пришло с демобилизованными ребятами с войны, которые так говорили по военной привычке.
О любимом фильме
У меня была любимая картина — «Чапаев». Это был первый фильм, который я видел в детстве. Он и остался любимым навсегда. Потом из любимых фильмов были «Весeлые ребята», «Пeтр Первый», «Мы из Кронштадта».