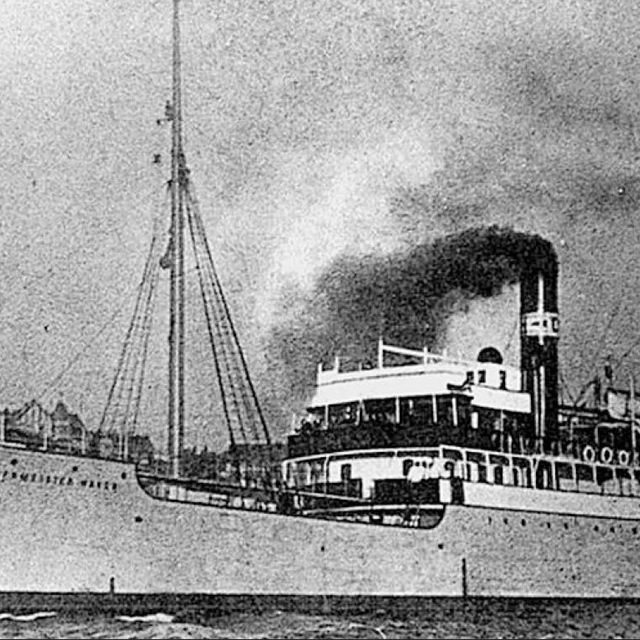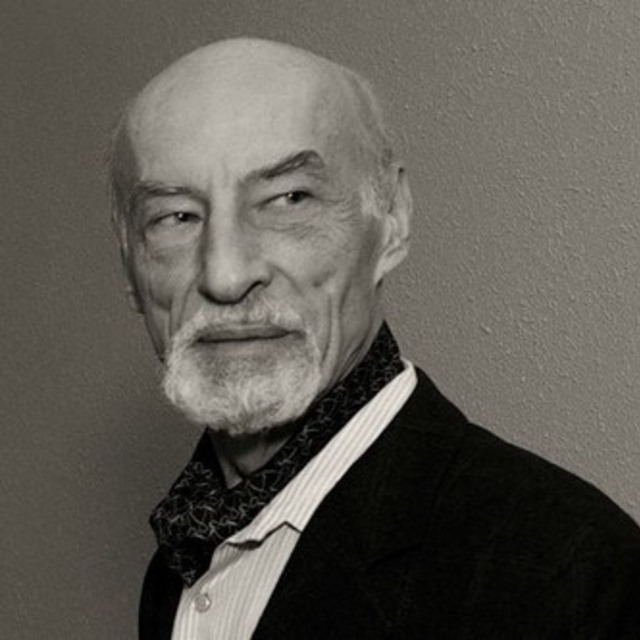Александр Архангельский*: «История сильнее вождя»
Телеведущий и писатель о том, зачем Сталину и Хрущеву были нужны рассадники свободомыслия, о победе проигравших интеллектуалов и о том, как философия 1960-х объединяет российскую элиту

— Как вы стали заниматься послевоенными философами?
— В юности я ходил в Институт психологии на лекции Мамардашвили, Щедровицкого и других. И еще я знал тексты Пятигорского — по тартуским сборникам. Потом, уже во время перестройки, на моем горизонте снова возник Мамардашвили: он тогда спустился с академических высот на грешную публицистическую землю и стал говорить о реальности тем языком, которым обычные советские публицисты никогда не говорили. Позже я работал некоторое время редактором в журнале «Вопросы философии», когда там запускалась книжная серия «Памятники философской мысли».
А спустя годы, в 2010-м, по предложению нынешнего главного редактора телеканала «Культура» Сергея Шумакова, который, в свою очередь, слушал лекции Мамардашвили во ВГИКе, я сделал большой документальный сериал «Отдел» о послевоенных философах. Это сейчас ситуация начала исправляться: вышла монография Нелли Мотрошиловой о философии советского периода, продолжается серия «Философия России второй половины XX века», которую ведет Петр Щедровицкий, — а тогда системных исследований на эту тему было мало, и мы стали брать интервью у всех, кто хоть в какой-то степени был причастен. И из огромного их количества потихоньку начала прорисовываться картина такого явления в философии и в нашей истории.
— Фильм не дает ясного и неметафизического объяснения — как все-таки случилось, что при Сталине зашевелилась жизнь на философском факультете в МГУ?
— Есть формальное объяснение: Сталин — политик мерзкий, но крупный — очень ясно понял, что нужно заниматься гуманитарной сферой, потому что административно страна была подчинена, а гуманитарно — не до конца. Вопросы о власти и о философии, языкознании, исторической науке — это вопросы связанные. Другое дело, что он собирался не развивать гуманитарную сферу, а управлять через нее. Но политик предполагает, Господь располагает: образовался рассадник людей, которые начали в какой-то момент свободно мыслить. Не когда они поступили и учились — потом. Они просто были живыми, чем сильно отличались от своих наставников. И только что завершившаяся общенародная война сыграла в этом внутреннем освобождении огромную роль. Кроме того, традиция не была совсем добита, остались действующие историки философии, как, например, Асмус. Если внимательно читать тексты, рано или поздно начинаешь все понимать. Другое дело, что философия, так же как отчасти филология, — наука, которая передается не от книги к книге, а от человека к человеку. То есть должен быть учитель. У них его не было, они должны были сами осваивать язык философии, учиться мыслить, и на это ушла практически вся их жизнь. Ее не хватило многим, чтобы предъявить себя профессионально. Не случайно профессионально с блеском реализовались прежде всего те, кто ушел в другие сферы — социологию, психологию, педагогику: Грушин, Левада, Зинченко, Давыдов. И те, кто, подобно Зиновьеву, работал во внеидеологической сфере — в области логики. Но и ему, и Мамардашвили, да и Пятигорскому, было тесно в рамках науки; Зиновьев и Пятигорский реализовали себя в философской романистике, Мамардашвили стал великим мыслителем. Не философом в узком современном смысле слова, как, скажем, Хабермас Юрген Хабермас (р. 1929) — немецкий философ и социолог, представитель франкфуртской школы, чьи взгляды оказали влияние на молодежные движения на Западе в 1960–70-х годах., а шире, в каком-то античном смысле. Так что Сталин, открыв институции, запустил механизм, на который не рассчитывал. История сильнее вождя.
— А Институт международного рабочего движения — это чье попустительство?
— Это уже хрущевские дела, и тут опять же чисто практические основания. Хрущев в какой-то момент почувствовал, что нужно создавать сеть институтов, интеллектуально обеспечивающих новую политику. Подумать подумал, процесс запустил, но когда результат начал сказываться, Хрущева уже не было. В политике так всегда: ты делаешь шаг, потом бюрократические препятствия, потом расползание, и тебя уже нет, а процесс пошел. 1966 год — уже никакого Хрущева, когда ИМРД запускали. Еще были ИМЭМО Институт мировой экономики и международных отношений РАН., и Институт США и Канады — целая сеть, которая начинает работать в автономном режиме. Это примерно как Александр I: он создавал Царскосельский лицей же не для того, чтобы выращивать поэтов, а для того, чтобы там формировалась элита для будущих реформ. Создали, запустили, реформы отменились, лицей остался. Так в русской истории довольно часто бывало.
— А тем, кто открывал институты, как-то пригождались плоды их трудов? В виде советов, рекомендаций, программ.
— Советы, конечно, давали. Но они работали не на само Политбюро, а на аппарат ЦК, то есть на тех, кто готовил доклады, съезды. В аппарате были просвещенные люди, которые для собственных интеллектуальных нужд пользовались их наработками. Анатолий Черняев, например, случайным образом оказавшийся после войны и института в аппарате ЦК на довольно высокой позиции, — человек, несомненно, левых убеждений, амбициозный коммунист, но при этом не догматический. Вообще, если у вас есть политические амбиции в авторитарной или тоталитарной системе, то вы должны либо стать диссидентом, который борется с системой, либо номенклатурным работником, который изнутри с ней играет. Если у вас их нет, тогда вы играете в собственную интеллектуальную игру.
— Насколько СССР в принципе пользовался марксистскими установками? Знали ли у нас Маркса хорошо? Или только проходили?
— До войны марксизм, несомненно, был живой. Отчасти потому, что некоторые марксисты бежали из своих стран в Советский Союз: философ Дьёрдь Лукач оставил здесь много учеников; большевик, филолог, общий учитель целого поколения французских славистов Пьер Паскаль (потом он, правда, с большим трудом отсюда удирал). Это не были начетчики, они читали и любили Маркса и развивали, как умели. С конца 30-х традиция угасает, и большинство преподавателей того же философского отделения уже не читали Маркса вживую, а читали пересказы пересказов. Цитировали обычно первый и сороковой тома, когда Маркс еще не вполне Маркс и когда он уже не вполне Маркс.
— А Ленин хорошо знал Маркса?
— Ленин был практиком, он хорошо знал политические статьи Маркса. «Капитал» прочел, понял ли что-нибудь, не знаю. У меня нет ощущения, что Ленин был большим мыслителем. Философские труды Ленина — это анекдот. Он выписывал на полях: Иван есть человек, Жучка есть собака, отдельное есть общее Слова из «К вопросу о диалектике» В. И. Ленина. Полная цитата: «Начать с самого простого, обычного, массовидного etc., с предложения любого: листья дерева зелены; Иван есть человек; Жучка есть собака и т. п. Уже здесь (как гениально заметил Гегель) есть диалектика: отдельное есть общее». . Маркс, хоть философ путаный, как это часто бывает, но двигавшийся от чего-то к чему-то, а в советской системе весь марксизм сводился к тому, что всем студентам читали политическую экономию: один раз понятно — про капитализм (товар-деньги-товар), второй раз непонятно — про социализм. Другое дело, что философами-марксистами были достойнейший Эвальд Ильенков, Теодор Ойзерман, Зиновьев на определенном этапе, Щедровицкий в начале пути. Но в несвободном обществе даже то, что разрешено, не очень развивается. Наоборот, скорее развивается то, что запрещено, потому что разрешенное находится в руках начетчиков и приличным людям не очень удобно этим заниматься.
— То есть каких-то плодов философских марксизм в России не дал?
— Как бывает в России с гуманитарными всплесками, все ушло в литературу. Вот Владимир Сергеевич Соловьев, великий русский мыслитель, лучшие его работы — «Три разговора» и завершающая их «Краткая повесть об антихристе», «История и будущность теократии» — либо утопические сочинения, либо почти литературные, то есть философия в древнем смысле слова, а не в новоевропейском. Русская религиозная философия, за исключением некоторых работ Лосского, Трубецкого и Соловьева, — это все литература, способ философствования, а не философия в том же смысле, в каком Кант. Но это не недостаток и не преимущество, это наша особенность.
— После фильма «Отдел» вы сняли другой документальный фильм, о тайной жизни церкви в 1960–80-х годах, — «Жара». Есть ощущение, что второй фильм с каким-то более оптимистичным финалом.
— Это истории про две разные среды мыслящей интеллигенции. «Отдел» — про людей постарше, более рационалистических. А «Жара» — про религиозные поиски следующего за ними поколения. У того же Пятигорского, у Мамардашвили были какие-то религиозные воззрения, но говорить именно о религиозных исканиях будет нечестно. Для следующих же за ними героев «Жары» это главный вопрос. Их всех объединяет поиск выхода за пределы системы, а способы, в которых они себя ищут, — очень разные, подчас несовместимые. Оба поколения, вопреки обстоятельствам, прожили не ту жизнь, которую им навязывали, а по свободному закону человеческой личности. И мне кажется, что это есть главная победа человеческой жизни. Но я ни там, ни там оптимизма не вижу.
Что касается социальных последствий, я не думаю, что они есть и в «Жаре». Так же как марксисты вряд ли создали бы школу, так и главным героям «Жары», уже ушедшим от нас, вряд ли было бы уютно в современной религиозной жизни.
— Но мыслителям никогда не бывает уютно.
— Поэтому, повторяю, для меня метафизика души важнее, чем наборы идей: люди прожили свою интеллектуальную жизнь так, как они не имели шанса ее прожить. В этом и есть их победа. Для меня это больше культурное явление, чем конкретное явление в философской традиции. Хотя они и для философской традиции сделали много — как минимум оставили пример «отвычки» от стандартного мышления, дали шанс следующему поколению вступать на равных в разговор с европейскими мыслителями, отчасти создав, отчасти возродив язык современного философствования.
— Кто и как теперь пользуется этим их языком?
— Мне известно, что лекции Мамардашвили посещали многие из кинематографистов, Сокуров точно, Сергей Шумаков, которого я уже упоминал, — главный редактор телеканала «Культура». Практически вся современная социология у нас в стране — это продолжение более конкретного грушинского и более теоретического и философского левадовского начал. Индология сегодня невозможна без Пятигорского, он же один из основателей тартуско-московской семиотической школы. Но структурно больше всех влияние оказал Георгий Щедровицкий, потому что он именно ставил перед собой такую задачу и поскольку его методология нацелена на применение в самых разных областях, от Института дошкольного воспитания и Спорткомитета до «Росатома», где работал его сын и архивариус Петр Щедровицкий. Через его Методологический кружок прошла напрямую или косвенно вся российская элита, от основателя Московского дома фотографии Ольги Свибловой и политтехнолога Глеба Павловского до помощника президента РФ Андрея Фурсенко, — то есть, как кажется, несовместимые между собой люди. Кроме того, в последние годы жизни Георгий Щедровицкий занимался игровиками, так что ему в результате мы обязаны еще и модой на деловые игры.
*Признан иностранным агентом.