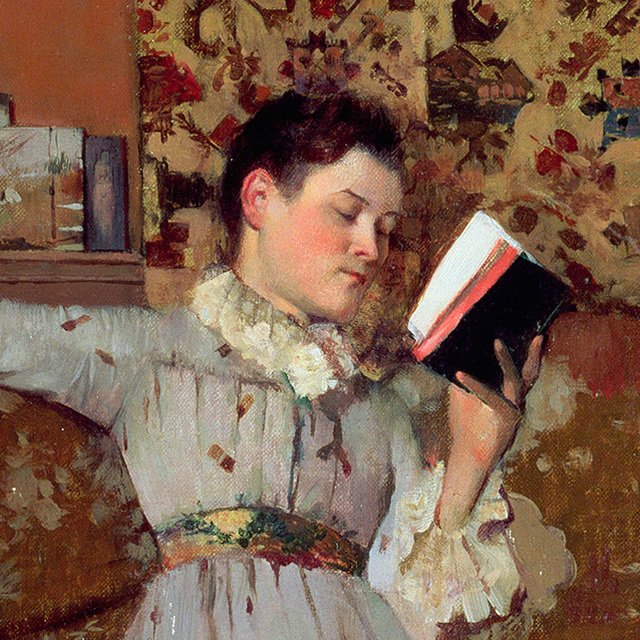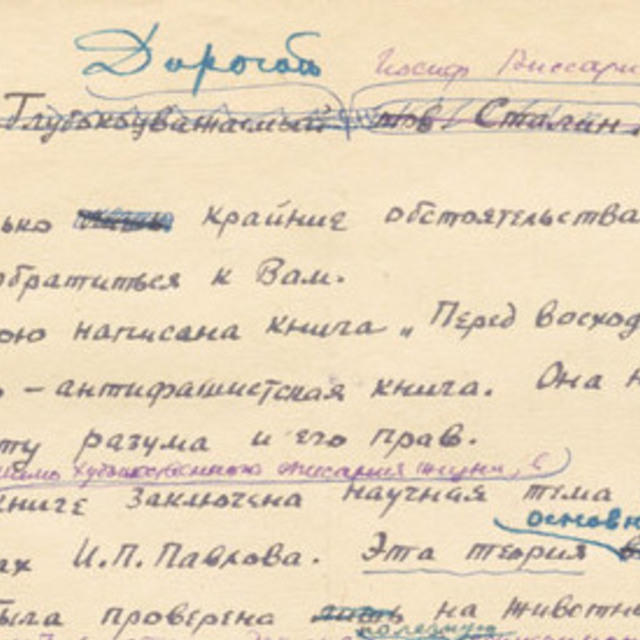Продакт-плейсмент в литературе

Названия конкретных брендов и имена предпринимателей упоминались в русских стихах как прямо с целью рекламы, так и в лирических текстах с иным заданием. Современному читателю, конечно, более интересны тексты второго типа, но и первые представляли собой достаточно масштабное и нетривиальное явление. Вместо убогих анонимных двустиший вроде «Падишах сидит в чалме, / А качество в «Пятерочке» (обратите внимание на изысканную разноударную рифму с разными опорными согласными) страницы газет иногда украшали рекламные стихи профессиональных авторов с аллюзиями на популярные произведения современных поэтов.

Например, в 1912 году известный в свое время писатель-сатирик Аркадий Бухов поместил в «Синем журнале» текст, сочетавший собственно литературную и коммерческую прагматику. Первая его строфа — слегка переиначенная кульминация из хрестоматийной баллады Мережковского «Сакья-Муни» (карикатура на рокового декадента сопровождает текст), а вторая уже делает пародийное стихотворение частью невероятно агрессивной рекламной кампании коньяка товарищества «Н. Л. Шустовъ с сыновьями». Во многом благодаря этой долгой кампании шустовский коньяк и удержался в памяти потомства как непременный атрибут дореволюционной жизни; это позволило возродить бренд в наши дни.
...Я стою как равный пред тобою,
И, высоко голову подняв,
Говорю пред небом и землею:
— Обвинитель строгий! Ты не прав!Чтобы жить беспечно и красиво,
Чтобы ключ здоровья не иссяк, —
Нужно пить не мюнхенское пиво,
А прелестный шустовский коньяк.
Упоминается Шустов (причем с двумя разными ударениями — Шу́стов, что, по-видимому, правильно, и Шусто́в), его коньяк и его заводы и в нерекламной поэзии эпохи — например, у московских футуристов Большакова и Маяковского и даже у юного Набокова.

Бухов был заметным автором «Сатирикона» и продакт-плейсментом только подрабатывал. Но существовали и поэты, специализировавшиеся на рекламе и выпускавшие целые авторские сборники рекламных текстов. Самым известным из них был, пожалуй, поэт Дядя Михей (в миру — гвардии штабс-капитан Сергей Аполлонович Короткий), писавший исключительно о марках папирос и объединявший свои стихи в тематические циклы-травелоги. Например, он жаловался в поэтическом послании из Петербурга:
Друзья! Скажу я вам не ложно:
Жить москвичу здесь невозможно!
На миг останься лишь один,
Сейчас впадешь в ужасный сплин!
Чиновный Питер строг и точен,
В нем люд угрюм и озабочен...
Не будь «Лаферма» папирос,
Давно б он мохом весь оброс,
Но, к счастью, всех «Зефир» спасает:
От сплина сильно помогает!
Боевой офицер Русско-турецкой войны С. А. Короткий, доверенный, рекламный и торговый агент табачной фабрики Шапошникова, работавший также на другие фирмы (например, упомянутый «Лаферм»), родился во Владимирской губернии, но по праву считал себя москвичом: в древней столице он учился в гимназии и в Александровском военном училище. А потом он жил именно в «чиновном Питере», в краях Некрасова и Достоевского, на углу Кабинетной и Разъезжей. Дядя Михей был профессионалом высокого уровня: он объездил все табачные плантации России и Турции, писал специальные работы о табаке, а рекламному делу учился в Париже, Лондоне, Берлине и Вене.
Дядю Михея тоже помнили долго — и как рекламиста, и как поэта. Некоторые марки, которые он воспевал («Весна! Разносят свежесть травы / И дышат нежные цветы, / „Зефир“, „Ю-ю“, „Фру-фру“ и „Ява“. / О, милый друг, закуришь ты!»), перешли, несмотря на легкомысленные аполитичные названия, и к советской табачной промышленности. Злоязычный Георгий Иванов в начале 1950-х утверждал, что сталинская послевоенная культура «шагнула сильно вперед: к блаженной памяти Дяде Михею по форме, грузинским „классикам“ по бараньему усердию к прославлению начальства — по содержанию». А мемуарист нью-йоркского «Нового русского слова» Юрий Большухин писал в 1965 году, что «если бы Дядя Михей дожил до наших дней [в 1965 году ему исполнилось бы 111], то называл бы себя поэтом Серебряного века».
В «настоящей» поэзии Серебряного века, не имевшей прямого рекламного задания, торговые марки встречаются нередко. За этим стояли разные традиции разных времен: полуиронического пушкинского повествования, где находилось место брегету, «Вдове Клико» и одесским рестораторам; юмористической и сатирической поэзии, не стеснявшейся никаких низких предметов и имен собственных, особенно если можно было щегольнуть ими в экзотической рифме; урбанизма у символистов и потом футуристов («витрины», «троттуары» и т. п.); акмеистического культа детали. Эти традиции скрещивались: например, уже упомянутые поэты «Сатирикона» работали с учетом достижений модернистского мейнстрима и наоборот.
Интересно, что акмеист Георгий Иванов скептически относился к продакт-плейсменту не только в исполнении Дяди Михея, но и своего учителя Михаила Кузмина, о котором писал в «Петербургских зимах»:
«Пишет, между прочим, что придется. Сонет-акростих, и поэму, и слова для балета. На одной странице стихи о сивилле, явившейся поэту... а на другой:
Как радостна весна в апреле,
Как нам пленительна она;
В начале будущей недели
Пойдем сниматься у Боасона...
На самом деле собирался идти сниматься. За завтраком у Альбера — об этом проекте заговорили, пришла рифма весна — Боасона, а там и весь „стишок“. Придя домой, Кузмин аккуратно переписал его в тетрадку. Собирая новую книгу — не забыл вставить и этот».
На самом деле у Кузмина не «у Боасона», а «к Буасона» (это три слога! «уа» читается как французский дифтонг), а якобы «пришедшей за завтраком» рифмы нет даже в том тексте, который цитирует Иванов. Имеется в виду фотография «Боасон и Эглер» на Невском проспекте, 24. Куда более приветливо отозвался об этом кузминском приеме Гумилев:
«Пусть упоминаются всё знакомые места — фотография Буасона, московский „Метрополь“, — читателю ясно, что мечтами поэта владеет лишь один древний образ, мифологический Амур, дивно оживший „голый отрок в поле ржи“, мечущий золотые стрелы».

Кстати, о фотографии. Одна из самых частотных торговых марок в русской поэзии — «Кодак». Словно созданное для поэзии заумное слово, придуманное основателем фирмы из любви к букве «к», с которой оно начинается и на которую кончается, слово «кодак», по-видимому, было на грани превращения в имя нарицательное — подобно тому, как впоследствии это случится в русском языке с торговыми марками Unitas или Xerox. В прозе оно отмечено с первых лет XX века. Спустя некоторое время модернистская поэтика уже охотно использовала это слово (причем тоже, как и имя Шустова, с разными ударениями), в том числе для рифмы:
Кипень пены, стручья лодок,
Змеи солнечных рапир ―
И наводит в воду кодак
Оплывающий сатир.
И туристу в розовую руку,
Осеняя крыльями кодак,
Посылает неземную муку
Каждый шест, и крыша, и чердак.
Владимир Луговской изображает туристов: «у каждого был кодак или цейс». Цейс (по названию фабрики «Карл Цейс» в Йене) — столь же эмблематическое название бинокля (например, «Справа наган, / Да слева шашка, / Цейс посередке, / Сверху ― фуражка...» у Багрицкого) — или фотообъектива (например, «цейсовский двойной анастигмат» у Нельдихена).
Из этого поэтического материала эпохи вырастают знаменитые строки Осипа Мандельштама об оптической технике:
Не разбирайся, щелкай, милый кодак,
Покуда глаз ― хрусталик кравчей птицы,
А не стекляшка!
и
Он глядит в бинокль прекрасный Цейса ―
Дорогой подарок царь-Давида...
В цейсовский бинокль у Мандельштама глядит не кто иной, как Зевс (по‑немецки Zeus), — этот каламбур до него уже опробовал поздний Брюсов.

Название растворимого супа «Магги» также означало реалию, для которой в русском языке и культуре не было готового названия (подобно, скажем, «Дошираку» во времена более нам близкие). Оно встречается на первых же страницах собрания сочинений Маяковского: «А если веселостью песьей / закружат созвездия „Магги“ ― / бюро похоронных процессий / свои проведут саркофаги». «Как пилюли проглатывал кубики магги» перед смертью обезумевший герой «Экваториального леса» Гумилева («Жарят Пьера... А мы с ним играли в Марселе...»). Оба эти контекста, хотя и принадлежат знаменитым поэтам, слишком мрачны, чтобы их использовать в современной рекламе золотистых кубиков, о которых помнили и в советское время (хотя бы по картинке в югославском женском журнале: «Драги, то jе Маги!»).
Названия торговых марок и предприятий, когда-то мелькавшие в газетной рекламе, на вывесках, с витрин, а потом исчезнувшие, чем дальше, тем дольше становились приметами уже не модного урбанизма, а призрачного, канувшего в небытие дореволюционного мира. У главного эмигрантского певца «блистательного Санкт-Петербурга» Николая Агнивцева упоминается целая галерея ресторанов и дешевый буфет с первым автоматом по продаже бутербродов «Квисисана» (фигурировавший ранее не только у язвительных поэтов журнала «Сатирикон», но и, скажем, в «Сестре моей жизни» Пастернака; итальянское название дожило в Ленинграде до времен борьбы с космополитизмом и запомнилось еще Найману и Лосеву). У Агнивцева же мелькают и спички Лапшина, и сеть цветочных магазинов «Эйлерс». Название шоколада «Гала-Петер» всплывает в 1920-е годы по обе стороны границы как у ленинградских обэриутов (Вагинова — причем как в стихах, так и в прозе — и Введенского), так и у парижанина Довида Кнута — в том или ином контексте воспоминаний.