Расшифровка «Акт убийства» Джошуа Оппенгеймера
Лена Ванина: Здравствуйте. Меня зовут Лена Ванина, журналист, киносценарист и ведущая подкаста Arzamas, который мы сделали вместе с Beat Film Festival и сервисом Wink от Ростелекома. Это подкаст о документальном кино и о том, как
История у этого фильма такая. В 2001 году Оппенгеймер поехал в Индонезию, чтобы принять участие в съемках фильма о профсоюзе рабочих плантаций. Неожиданно он столкнулся с тем, что рабочие боятся давать интервью. Выяснилось, что многие из них происходят из семей, члены которых были убиты по обвинению в коммунистической деятельности в 1965–1966 годах. Между тем, как выяснил Оппенгеймер, люди, которые эти убийства совершали — а многие из них были бандитами, тесно связанными с властью, — не только остались безнаказанными, но и
Об этом фильме мы говорим с кинокритиком Михаилом Ратгаузом. Миша, привет.
Михаил Ратгауз: Привет.
Л. В.: Очень много тем на самом деле вокруг этого фильма, но я хочу начать, наверное, с самих героев, которых выбирает Оппенгеймер, — с бандитов, палачей, настоящих убийц, которых он, с одной стороны, показывает как палачей и убийц, а с другой стороны вроде как испытывает к ним если не сочувствие, то
М. Р.: Конкретно эта тема принесла фильму достаточно много неприятностей. Я, например, читал текст в The Guardian, опубликованный, когда «Акт убийства» был номинирован на «Оскар», который назывался «Не надо давать „Оскар“ этому snuff movie Снафф-видео — видео, в котором показано реальное, не постановочное убийство человека.». Автор этого текста (достаточно неубедительно, с моей точки зрения) говорит о том, что как вообще возможно смотреть фильм, в котором режиссер не только показывает происходящее с точки зрения палачей, но даже помогает им восстанавливать кинематографическими способами то, что они сделали; как мы можем вообще такое допустить?
Сам Оппенгеймер рассказывает такой анекдот из истории своих съемок. В самом начале этого процесса он пришел к одному из этих палачей — собственно, первому из них, — и после того, как они сделали эту съемку, жена этого человека дала ему жареные бананы. А он их, вежливо ее поблагодарив, выбросил, после того как удалился от дома. Потому что он не мог принять такого дара от таких людей. И, проанализировав свою реакцию, он понял, что на самом деле это реакция лицемерная, что она неправильная, потому что, как он говорит, чтобы понять природу геноцида, мы должны понять природу людей, которые в этом участвовали.
Одна из популярных претензий к фильму «Акт убийства» заключалась в том, что автор не дал слово жертвам. В принципе, мы знаем, что у этого фильма есть продолжение, это фильм 2014 года «Взгляд тишины», в котором он как раз дает слово жертвам. Там жертва — молодой человек, брата которого убили и которого он даже не видел, потому что он родился после него, — отправляется к убийцам, чтобы с ними разговаривать. И это, кстати, фильм, который гораздо скучнее, и хотя он получил приз в Венеции, он произвел гораздо меньшее впечатление — ровно потому, что эта позиция для нас очень привычна. Когда мы смотрим фильмы о такого рода событиях, то нам как зрителям очень просто быть на стороне жертв. Это очень уютная позиция, с очень четким разделением добра и зла. И как раз это разделение представляется Оппенгеймеру крайне сомнительным. Потому что, во-первых, он предлагает нам действительно погрузиться на дно мотиваций этих людей, которые очень разнообразны и хитро сплетены друг с другом, эти мотивации. И с другой стороны, он выбивает нас из состояния этого уюта, к которому мы привыкли, и это, на самом деле, и есть то, что производит такое ошеломляющее и даже тошнотворное впечатление.
«Здесь много призраков, потому что на этом месте погибло много людей. Они умерли не своей смертью. Их привезли вот сюда совершенно здоровыми. Но здесь их избили до смерти. Сначала мы просто забивали их, но было очень много крови, и когда мы потом убирали, здесь стоял ужасный запах. Чтобы крови не было, я придумал такую систему — хотите, покажу?»
Л. В.: Когда эти люди начинают говорить о тех убийствах, которые они совершали, и показывать, как и где это все происходило, мы видим в них отсутствие рефлексии, практически воодушевление. Почему, на твой взгляд, эти люди с такой легкостью, с таким воодушевлением идут на рассказ об этих убийствах?
М. Р.: Здесь есть несколько уровней. Первая, самая внешняя и самая простая перспектива — это перспектива историческая. Собственно говоря, эти события 1965 года в Индонезии оставались окрашенными в почти героические тона. Термин «истребление коммунистов» к тому моменту существовал как исторический термин, как
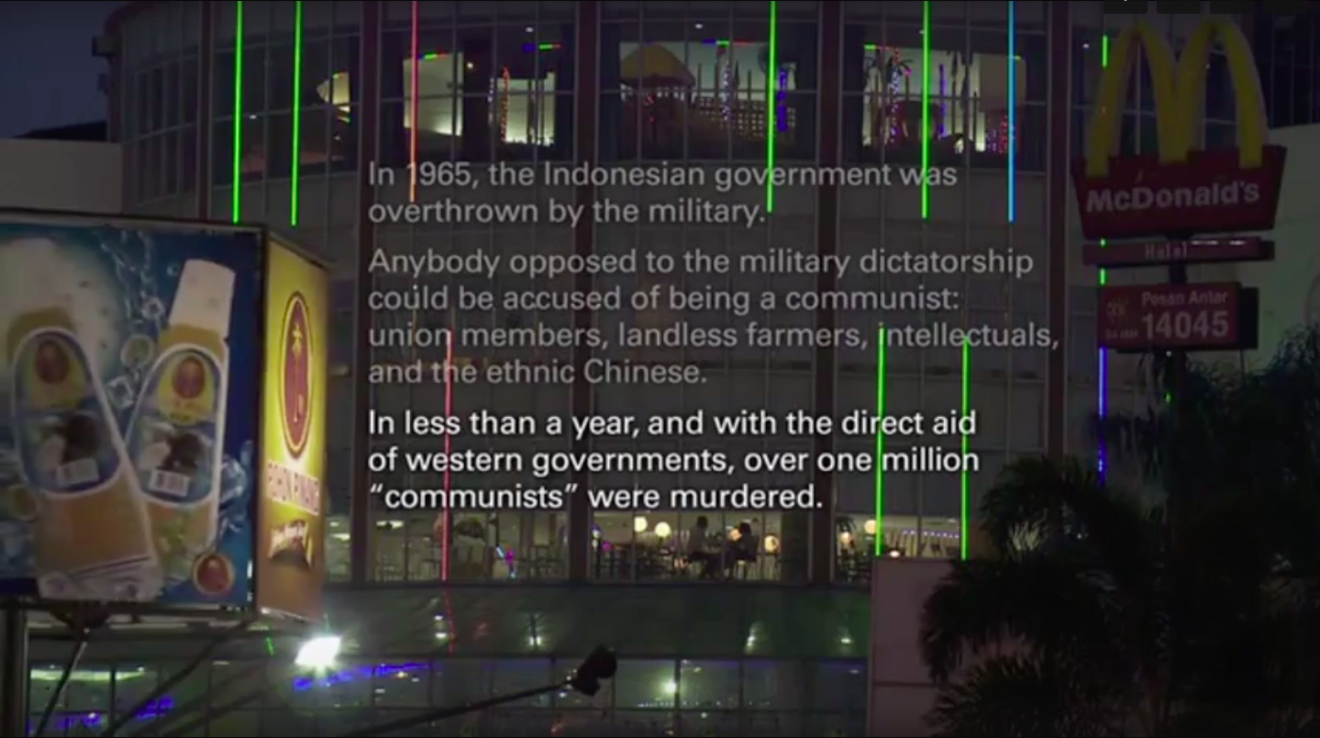
«В 1965 году индонезийское правительство было свергнуто военными. Все, кто противостоял военному диктату, могли быть объявлены коммунистами: члены профсоюзов, фермеры, интеллигенция и этнические китайцы. Меньше чем за год при прямой поддержке западных стран было убито более миллиона „коммунистов“. Армия использовала военные формирования и банды для совершения убийств, и эти люди до сих пор находятся у власти и преследуют своих оппонентов».
Фильм этот произвел в Индонезии совершенно невероятный эффект, потому что это была первая попытка об этом заговорить после сорокасемилетнего молчания. Это определило очень много даже чисто промоутерских усилий Оппенгеймера, потому что он понимал этот фильм как политический жест, причем в таком масштабе, в каком мы кино,
Л. В.: И он самого начала подходил к нему как к вот такому инструменту политической борьбы?
М. Р.: Да, он подходил к этому действительно как к исторической задаче. Он говорит практически в каждом интервью, что он как будто бы вдруг оказался в нацистском рейхе, в котором за 40 лет ничего не произошло и холокост до сих пор считается
Л. В.: То есть ты думаешь, что отсутствие рефлексии у этих героев связано с тем, что до этого им никогда не приходилось в ином ключе думать о том, что произошло?
М. Р.: На историческом уровне это люди, которым просто даны гарантии того, что их деятельность не только не была
Л. В.: Там есть довольно важный, мне кажется, для Оппенгеймера прием, когда он дает им смотреть отснятый материал, когда они, кажется, впервые смотрят на то, что они сделали, со стороны и как будто бы часто в глазах у них он ловит
М. Р.: Ну да, в процессе поиска героя вот этот вот Анвар Конго стал, собственно говоря, главным героем, потому что, как говорит Оппенгеймер, он почувствовал, что в нем боль близка к поверхности.
Л. В.: Да, тут я сразу уточню, что у него было порядка шестидесяти героев, из которых он отобрал несколько совсем главных.
М. Р.: Да. Сначала эти люди с большим удовольствием все показывали сами. И только потом родилась идея, что они будут не просто вспоминать об этом и документально это показывать, а что они будут это делать средствами того кинематографа, на котором они выросли.
Л. В.: То есть они снимут свой гангстерский фильм о тех героических подвигах, которые они совершали в юности?
М. Р.: Они снимут гангстерский фильм, они снимут вестерн, они снимут мюзикл. Вот этот вот самый Анвар Конго, этот главный герой, — это человек, который вырос на голливудских фильмах, причем очень разных. И он рассказывает в одной из сцен, что офис, в котором они пытали людей, находился прямо напротив кинотеатра, то есть им стоило просто перейти улицу, чтобы, выйдя с очередного голливудского фильма, приступить к своей увлекательной работе. Там есть такая сцена, если ты помнишь, где он говорит, что мы убивали счастливо:
«Когда мы смотрели красивое кино, например с Элвисом, мы выходили из зала с улыбкой, танцуя под музыку. Кино поднимало нам настроение. Если мимо проходила девушка, мы свистели ей вслед. Нам было все равно, что подумают люди. Здесь находился штаб нашей военной группировки. Здесь я убивал людей. Если я видел, как допрашивают подозреваемого, я давал ему сигарету. И я все еще танцевал и смеялся. Мы убивали… счастливыми».
И Оппенгеймер рассказывал, что он просто не мог поверить своим ушам. Он несколько раз пытался понять, действительно ли Анвар Конго буквально имеет это в виду, и понял, что на самом деле да. И это дало ему идею сделать этот следующий пласт, который производит на нас особенное, отстраняющее и дикое впечатление. Там есть сцена, где главный герой говорит, что они убивали лучше, чем в кино, круче, чем в кино.

Л. В.: Понятно, что это вопрос к Оппенгеймеру, но все же: этот художественный прием, который он придумывает и который делает этот фильм таким страшным и неповторимым, он был ему нужен для
М. Р.: Когда он работал над этим кино и придумал эту штуку — предложил убийцам снимать свой фильм — перед ним замерещилась мечта о документальном кино нового типа, которое он называет «документальным кино воображения», или «документацией воображения». То есть, кроме вот этих реалистических сцен, где мы видим военизированные формирования, коррумпированных политиков и все остальное, его задача заключалась в том, чтобы понять, как работает воображение этих людей.
То есть цепочка очень простая. Ты приходишь в дом к человеку, и он не просто рассказывает, как он убивал, но еще и играет, проигрывает перед тобой произошедшее с помощью соседей, которые приглашены в качестве статистов, с помощью реквизита — то есть он на самом деле уже находится в перформативном процессе. И если говорить о названии фильма — «The Act of Killing», то ведь корень act имеет отношение к acting (русский перевод этого не передает). Это не только акт убийства как таковой, но это еще и игра в убийство. И если ты помнишь, когда они репетируют с соседями, еще не в игровом варианте, еще не как художественный фильм, а просто пытаются
Этот фильм на самом деле устроен как лабиринт сбоев. Ты не можешь привыкнуть к тем правилам, которые тебе этот фильм предлагает. Во-первых, мы попадаем в абсолютно перевернутый мир — в том смысле, что зло не только не осуждено, но и торжествует. Во-вторых, когда мы смотрим вот эти куски из фильмов, которые снимают герои, мы на самом деле не понимаем, что это вообще такое. Например, эти сцены устроены таким образом, что мы не можем даже примерно восстановить нарратив того фильма, который они снимают.

Л. В.: Вообще нет. И как будто бы это задается самой первой сценой, когда ты видишь, как изо рта рыбы, стоящей на берегу утеса, выходят танцующие девушки в

М. Р.: Ну да, ты не понимаешь языка этой культуры, почему эти люди так выглядят, что там происходит, почему там такие невероятные, непонятные,
Это раз. Два — Оппенгеймер на самом деле в последовательном монтаже убирает психологические цепочки, которые могли бы нам объяснить
Л. В.: Мне кажется, что это отсутствие логических связей как раз создает гораздо более сильный манипулятивный эффект. Когда у тебя нет четких границ, у тебя есть лабиринт, тогда ты не понимаешь, по каким правилам игры с тобой играют, и тогда твои реакции гораздо более живые. Ты не можешь просчитывать. Ты понимаешь, что тебя заставляют то сочувствовать герою, то наблюдать
М. Р.: Это действительно очень многосоставная, очень сложно устроенная вещь. Но одна из тем, которые интересовали Оппенгеймера, — это то, что ведь эти люди живут во лжи, перед самими собой прежде всего.
Мы видим в начале фильма, как Анвар Конго показывает, каким образом он душил на этом балкончике людей, чтобы было меньше крови и запаха. И он танцует и говорит, что для того, чтобы избавиться от того, что он тогда сделал, он слушает много хорошей музыки (в частности, в самой первой сцене очень тихо слышно песню Пегги Ли «Is That All There Is?» — это одна из любимых песен Анвара Конго).

А в финальной сцене фильма (которая, как рассказывает Оппенгеймер, была снята в последний день съемок) Анвар Конго приходит в тот же самый офис, в котором был в начале фильма, — это кольцевая композиция. Он приходит на тот же самый балкон, где такая сумеречная атмосфера, приближается ночь, и говорит: «Да, вот здесь мы убивали людей», — и его начинает тошнить. И мы понимаем, что эта тошнота — это попытка как бы выблевать свое прошлое. Как объясняет Оппенгеймер, это момент, когда главный герой чувствует несоотносимость того образа самого себя, который он всю жизнь, начиная с 1965 года, в себе пестовал, и той реальности, которую он благодаря съемкам этого фильма в себе испытал. То есть его тошнит от невозможности примирить эти вещи. Это физиологическая реакция организма, который нельзя обмануть.

Л. В.: Тут довольно важный момент, который Оппенгеймер во всех своих интервью подчеркивал, — что для него было страшно важно как для режиссера не судить своего героя. Он не судит Анвара, прежде всего его, и мало того — он осуждает, естественно, все, что тот сделал, но даже, кажется, говорит, что любит его как человека, ну или, по крайней мере, уважает его человечность,
М. Р.: Он говорил, что он на самом деле испытывал серьезное чувство вины во время съемок фильма. Потому что, во-первых, он приводил людей в то же состояние, в котором они убивали. И во-вторых, для того чтобы он вообще мог снимать, он должен был все время проводить разделительные операции между человеком и его преступлением. Но, по сути, эти операции похожи на те, которые делают эти люди сами. С одной стороны, он любящий отец и любящий дед, с другой стороны — человек, который убил тысячу коммунистов. И это как бы два человека, которые существуют отдельно друг от друга и не должны друг другу мешать.

Оппенгеймер говорил, что, когда он еще ходил к первым палачам, он понимал, что внуки это все слышали тысячу раз, что это просто охотничьи рассказы. И этот гладкий, законченный, абсолютно литой нарратив так быстро из них вырывался именно потому, что он был привычным делом. Это хорошо сопоставимо с рассказами людей, которые воевали во Второй мировой на правильной стороне добра. И именно отлаженность этого рассказа, именно его гладкость и должна была быть нарушена.
Оппенгеймер в одном месте критикует обычные фильмы — скажем, о холокосте — и говорит про эту самую уютную позицию, которую зритель занимает, понимая, где проходит разделительная линия между жертвами на экране и им самим, который сидит в зале, страшно растроганный и чувствующий себя на правильной стороне, — и теми плохими ребятами с другой стороны, к которым он понимает, что не имеет никакого отношения.
По этому поводу я могу рассказать такой короткий эпизод. Есть такой немецкий режиссер Кристиан Петцольд, который снял фильм «Феникс» — про то, как еврейка, выжившая в лагере, но обезображенная, возвращается в послевоенный Берлин. И Петцольд говорит, что в этом фильме принципиально нет ни одного человека в нацистской форме. И эта женщина сталкивается с кучей разных приспособлений, которыми окружают ее послевоенные немцы для того, чтобы нормализовать ситуацию, — например, ее встречают на вокзале и рассказывают, кто не выжил у них. Фильм этот очень плохо прошел в Германии, и Петцольд говорит, что немцы до сих пор — а это очень недавнее кино — не любят фильмы про нацизм, где нет нацистов в форме. То есть где эта вина не сконцентрирована в одной точке, костюмирована и отделена, а где она как бы растворена в нации.
Л. В.: Мне кажется, что это чуть не самое интересное для Оппенгеймера: с одной стороны, понять природу зла тех злодеев, а с другой стороны, чуть-чуть отзеркалить тебя самого в этом огромном зле.
М. Р.: Там есть очень интересная сцена, которая непонятно для чего нужна фильму, если не понимать, что Оппенгеймер вообще имел в виду. Это очень невинная сцена, где в темноте, на берегу океана, сидит Анвар Конго и рассуждает про карму. И там есть монтажный план, который показывает темный океан, и он говорит: «Кажется, что мы сейчас сидим на конце света и вот эта темнота — она бесконечная».

И Оппенгеймер говорит: это, с одной стороны, его темнота, а с другой стороны, это наша тоже темнота. В The New York Times была рецензия, в которой по отношению к этому фильму употребляется слово «тошнотворный». И это чувство действительно очень близко к тошноте: то, что происходит с Анваром Конго, когда он пытается вытошнить из себя этот призрак, который его преследует, вытошнить настоящего себя, — и вот то ощущение, с которым ты заканчиваешь смотреть этот фильм, оно тоже близко к
Л. В.: Это очень страшно, да.
М. Р.: Это же дикость, понимаешь? И через эту дикость он тебя втягивает в него, он тебя соединяет с ним. И тогда как тебе защищаться от этого? Когда ты такой хороший и никого не убивал.
Л. В.: Здесь мы приходим к такому важному разговору про этот фильм, который невозможно обойти: насколько вообще эта манипуляция оправданна? Ведь если подумать, манипуляция в этом фильме есть на всех уровнях. Режиссер безусловно манипулирует героями, потому что предлагает им еще раз прожить то, что они прожили, и не просто прожить, а снять про это фильм. Он манипулирует мной, зрителем, потому что навязывает мне разные состояния, в которые я погружаюсь. Он манипулирует людьми, которые совершенно случайно оказываются в этих сценах. Опосредованно манипулирует, но все же. Например, для Марины Александровны Разбежкиной одна из самых чудовищных вещей, которые она не может простить этому фильму, — это сцена погрома китайской деревни, куда приезжают эти бандиты и снимают погром. И там не статисты, они приезжают и говорят: «Вы будете коммунистами, вы будете играть коммунистов».

Марина Разбежкина: Здесь очень интересна позиция режиссера. Кто он такой по отношению к ним?
Л. В.: Марина Разбежкина — российский режиссер-документалист и сценарист, основатель современной школы документального кино, одно из важнейших кредо которой — стараться никак не вмешиваться в происходящее, пытаться фиксировать реальность, как можно меньше на нее влияя.
Марина Разбежкина: Здесь очень интересна позиция режиссера. Кто он такой по отношению к ним? Он Господь Бог? Он демиург? Он кто, ставящий этот спектакль? Страшный, кровавый спектакль.
Он же с ними делает ровно то же, что они делали с людьми. Даже если это не кончается смертью, кладбищем, закопанными трупами. Эта его позиция кажется мне очень сомнительной по отношению к реальности вообще и по отношению к этим героям. Они, конечно, не вызывают у меня никакого сочувствия, но это не значит, что мы должны прожить эту жизнь рядом с ними, как они. Все-таки режиссер — это другой человек. Он не тот, который убивает, он не тот, который заставляет убивать.
Я вдруг вспомнила, что меня поразила реакция нескольких детей, которые верили в происходящее как в реальность. Когда его дедушку бьют, ребенок кричит — и для него это, конечно, травма совершенно невероятная. Когда он вырастет, он будет помнить это как реальную жизнь, а не как съемки кино. Или когда один из этих палачей вытаскивает из кровати двух маленьких детей и заставляет их смотреть на то, как дедушка существует в игровой позиции. Это очень страшная вещь, и это в данном случае делает режиссер.
И когда я вижу людей, которые играют жертвы, я вдруг понимаю, что они не играют в этот момент. Что им опять стало страшно. Камера, всё — это же не важно.

М. Р.: В истории новейшего документального кино есть две точки, которые благодаря
Документалисты метода direct cinema, который сейчас мощно представляет школа Разбежкиной и который был придуман примерно в 1960 году, утверждают (или хотят создать у нас иллюзию), что режиссера никакого нет и камеры никакой нет, что мы видим людей в их естественном состоянии, режиссер — это только муха на стене и нам предъявляют реальность как она есть.
Во-вторых, примерно в то же время, в начале шестидесятых годов, было придумано cinéma vérité. И, в частности, был знаменитый фильм Жана Руша, которого Оппенгеймер считает одним из своих учителей, и философа и социолога Эдгара Морена «Хроника одного лета». Это исследование странного племени парижан, антропологическое кино, где люди, герои этого фильма не только не пытаются делать вид, что они живут своей естественной жизнью, но наоборот, фильм заканчивается тем, что герои собираются в зале, смотрят кино с их участием и обсуждают его.
Это ровно тот метод, которым пользуется Оппенгеймер. И, критикуя direct cinema, это кино наблюдения, кино невероятной честности и реализма, он говорит, что в определенной степени это гораздо более искусственная ситуация, когда мы создаем у зрителя иллюзию, что
Л. В.: Но ведь у многих людей, которые критиковали этот фильм, возникал вопрос не к тому, что здесь обнажен прием, а к позиции режиссера-бога, который считает, что он может принимать некие судьбоносные решения за своих героев.

Марина Разбежкина: Я не верю в восстановленную реальность. Реальность для меня, для документалиста, — это то, что происходит сейчас. То, что я могу зафиксировать. Конечно, это небольшое как бы лукавство, и это очень долго приходится объяснять, потому что никакой объективной реальности в отражении, естественно, не существует. Потому что мы ее всегда рассматриваем с
Есть прекрасный фильм —
Это грандиозное кино, потому что режиссер просто за этим наблюдал, он не провоцировал. Он не был палачом в этом случае. А Оппенгеймер вмешивается в реальность: он предлагает реальным людям уйти в свое прошлое. Ведь речь идет не об игровом кино, не о художественном кино, где есть актер, которого учат защищаться, поэтому он и актер, и поэтому это не травмирует его личность, не делает его ни жертвой, ни палачом. Эта позиция Оппенгеймера мне кажется сомнительной очень.

Л. В.: Как ты, что ты про это думаешь?
М. Р.: Я тут стою на стороне режиссера, который действует вне этой… Окей, да, мы понимаем, что у этой позиции есть свои недостатки. Если угодно, художник смерти Анвар Конго, инсценировщик своих убийств, может быть, даже в
Л. В.: Итак, на этом мы заканчиваем — и выпуск, и весь наш мини-подкаст. Меня зовут Лена Ванина. Я благодарю за этот разговор кинокритика Михаила Ратгауза, а также редакторов Ирину Калитеевскую и Алексея Пономарева, звукорежиссера Павла Цурикова, выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, фактчекера Веру Едемскую, а также расшифровщиков Андрея Вольгушева и Наталью Лебедеву. В подкасте использованы фрагменты фильма «Акт убийства» в русскоязычной озвучке, сделанной по заказу телеканала «Культура».


















