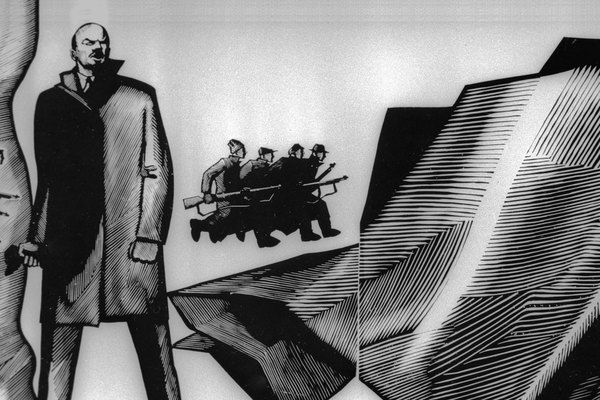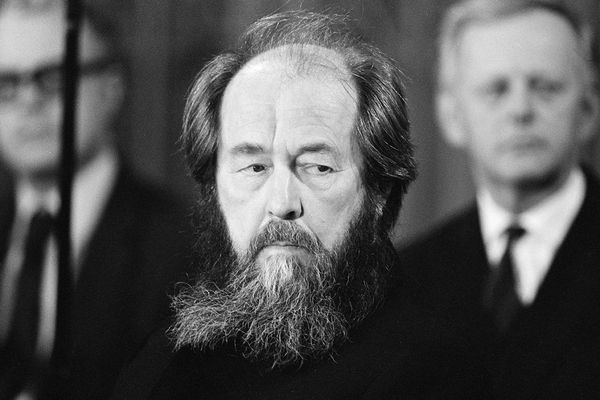Расшифровка Маяковский. «Владимир Ильич Ленин»
В советское время поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин» была в обязательной программе. И с моими первыми классами мы старались прочесть эту поэму серьезно и как могли глубоко. Как ни убивали поэта, навязывая его, расписывая его строчки на лозунги и развешивая их на домах, как ни извращали смысл его произведений, ощущение настоящей поэзии, большого поэта — это ощущение у всех у нас было. Поэтому даже такие, в общем, вполне агитационные пропагандистские и на первый взгляд совершенно партийные вещи, как поэма «Владимир Ильич Ленин» или поэма «Хорошо», мы старались тоже читать добросовестно, всерьез и искать в них голос поэта и особенности его поэтики.
Говоря о композиции этой поэмы, мы неожиданно обнаружили, что она построена абсолютно так же, как Евангелие от Иоанна. То есть на первый взгляд мы сами были ошарашены:
Если б
был он
царствен и божествен,
я б
от ярости
себя не поберег.
Я бы
стал бы
в перекоре шествий,
поклонениям
и толпам поперек.
Это замечательные слова, которые, кстати, в сталинское время не печатались в тексте и вернулись в поэму только после 1956 года. В Евангелии от Иоанна начало звучит так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Поэма Маяковского начинается с поиска слова:
Слова
у нас
до важного самого
в привычку входят,
ветшают, как платье.
Он ищет слово, чтобы описать небывалый феномен, небывалое явление — Ленина. Неужели Ленин — вождь тоже милостью Божьей?
Далеко давным,
годов за двести,
первые
про Ленина
восходят вести.
И оказывается, что и начало капитализма, и африканский невольник, и крепостной крестьянин — все это предвестья появления Ленина:
Хоть для правнуков,
не зря чтоб
кровью литься,
выплыви,
заступник солнцелицый.
Потом появляется предтеча:
Время
родило
брата Карла —
старший
ленинский брат
Маркс.
Все это предтечи, предвестья, все эти страницы окрашены ожиданием Мессии, Спасителя. И наконец, рождение:
По всему поэтому
в глуши Симбирска
родился
обыкновенный мальчик
Ленин.
Не Ульянов. У Маяковского очень четко разделены эти два персонажа:
Коротка
и до последних мгновений
нам
известна
жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
товарища Ленина
надо писать
и описывать заново.
И дальше еще одна перекличка с евангельским текстом. Не фарисеи, не книжники, а простые люди. Маяковский не говорит «нищие духом», но похоже на то: это истинные ленинцы. Это безграмотный рабочий, это крестьянин-сибирец, это горец. И так же как Спаситель стал против целой мощной твердыни старой веры, так против сабель и пушек встал один скуластый лысый, один человек, как будто бы предупреждая, что царства земные падут.
Так вот давно замечено, что у Маяковского библеизмы не случайны. Библеизмы появляются у него именно в революционных стихах и в первых послереволюционных стихах, поскольку для него революция — это новое сотворение мира. И в стихотворении «Революция» (а оно написано между Февралем и Октябрем) он будет говорить о нашем новом Синае, о скрижалях, о том, что рождается новый мир: «Сегодня рушится тысячелетнее „Прежде“». И в поэме «Владимир Ильич Ленин» есть строки тоже очень показательные:
Когда я
итожу
то, что прожил,
и роюсь в днях —
ярчайший где.
я вспоминаю
одно и то же —
двадцать пятое,
первый день.
Что такое «первый день»? Это первый день сотворения мира. Для Маяковского первый день сотворения мира — это 25 октября. Все, что было до, — это доисторическое прошлое. Вообще, прошлое Маяковского мало интересует. И в поэме «Хорошо» начинается для него интерес именно только тогда, 25 октября. Вот только тогда начинается жизнь. Он скорее устремлен в будущее, а не в прошлое. И дальше — деяния, смерть и бессмертие. И вплоть до таких формул, как, например, «гроб революции и сына и отца»:
Ветер
всей земле
бессонницею выл,
и никак
восставшей
не додумать до конца,
что вот гроб
в морозной
комнатеночке Москвы
революции
и сына и отца.
Я думаю, что параллель совершенно очевидна. И не случайно у Маяковского здесь появляется вполне религиозная церковная лексика:
Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слезы из глаз.
Сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени —
класс!
«Причаститься» — откуда вдруг у революционного поэта слово «причастие»? Но здесь, действительно, это не случайно, также как не случайна и тема бессмертия:
С этого знамени,
с каждой складки
снова
живой
взывает Ленин…
Или:
…Ленин
и теперь
живее всех живых.
Это не просто лозунг, это принципиальная позиция. И, наверное, любопытно было бы посмотреть, а насколько эти мотивы у Маяковского нашли продолжение в поэзии следующих шести лет? Все-таки поэма «Владимир Ильич Ленин» — 1924 год, а Маяковский продолжает писать. И здесь, наверное, очень интересно было бы перечитать стихотворение «Разговор с товарищем Лениным» (1929):
Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.
Конечно, можно уподобить этот разговор молитве и общению с иконой. Но я думаю, что комментарий здесь должен быть другим. Я думаю, что здесь речь идет о том, что Маяковский в 1929-м и в начале 1930 года почувствовал, что ему нет места в современности:
С хвостом годов
я становлюсь подобием
чудовищ
ископаемо-хвостатых.
Товарищ жизнь,
давай
быстрей протопаем,
протопаем
по пятилетке
дней остаток.
Вот это ощущение. Ну или в стихотворении «Домой»:
Я хочу быть понят моей страной,
А не буду понят —
что ж.
По родной стране
пройду стороной,
Как проходит
косой дождь.
Он, Маяковский, который всегда подталкивал время; он, Маяковский, который, по слову Цветаевой, «ушагал лет на 200 вперед и
Революция кончилась, а ему без революции, в общем, делать нечего:
Только
жабры рифм
топырит учащенно
у таких, как мы,
на поэтическом песке.
И, собственно, это и предопределило, очевидно, роковой выстрел 14 апреля 1930 года. Разлад со временем — это страшнее отсутствия Лили Брик, это страшнее неудачи выставки «20 лет работы», это страшнее усталости, потому что это означает, что вся жизнь, все идеалы, вся работа перечеркнута. И остается только убить себя.
Маяковский всю жизнь, особенно в первые годы своей работы, очень эффектно, крупно, резко отказывался от старой культуры. Его подпись стоит под манифестом «Пощечина общественному вкусу»: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности». Он в первые послереволюционные годы будет говорить: «А почему не атакован Пушкин?» Он будет рифмовать Растрелли и расстрелы. И он, конечно, глубочайшим образом связан с памятью жанра. Он связан с этой старой культурой. И дело не в анекдотах, что он там на выступлениях читал «Евгения Онегина» наизусть. А дело в том, что без знания старой культуры, того же Пушкина, или Бодлера, или Иннокентия Анненского, Маяковский будет недопонят; Маяковский будет, может быть, просто не понят. Он корнями врос в русскую поэзию, и вырвать его оттуда уже никому не удастся.