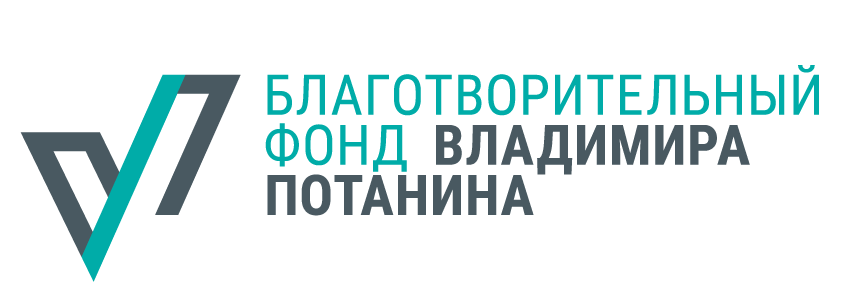Расшифровка Таир Салахов: вахтовики, Каспий и мать
Визитная карточка Таира Салахова была репрезентативна и солидна — профессор ведущих художественных вузов СССР и Азербайджана, лауреат всевозможных советских и постсоветских государственных премий, многолетний член руководства Союза художников СССР, академик многих академий художеств, ну и, разумеется, прижизненный классик.

Поначалу трудно поверить, что эту блестящую, поистине головокружительную карьеру проделал мальчик из многодетной семьи арестованного в 1937 и спустя несколько месяцев расстрелянного партийного работника из Баку Теймура Салахова. Семья узнала о смерти отца только после ХХ съезда КПСС, получив документ о его реабилитации в 1956 году. Но за все эти долгие годы, когда, по словам художника, из страха никто не осмеливался зайти в дом врага народа и не подавал им руки, дети ни разу не усомнились в честности своего отца. Для Салахова стало делом жизни, как он неоднократно говорил в своих интервью, возродить доброе имя отца и матери, и это обостренное чувство справедливости не один раз заставляло его поступать вопреки общему мнению.
Возможно, именно отец впервые пробудил интерес сына к рисованию. Приходя усталый с работы, чтобы угомонить докучливых мальчишек, он придумывал для них интересные занятия — например, конкурс, кто лучше нарисует Чапаева, а пока те увлеченно соревновались, засыпал, положив под серебряную чернильницу рубль — награду победителю.
С годами тяга к рисованию была осознана как желание стать художником, как призвание. В год окончания войны, в 1945-м, Салахов поступил в Азербайджанское художественное училище имени Азима Азимзаде. Окончив его, уехал в Ленинград, мечтая о поступлении в Академию художеств. Вступительные экзамены сдал успешно, однако, как сын репрессированного, принят не был. В Баку все-таки не вернулся — помог случай, и его приняли в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище, а через год он переехал в Москву и поступил в Институт имени Сурикова, который окончил в 1957 году.
Будучи студентом, Салахов женился на студентке театрального факультета Суриковского института Ванцетте Ханум, в этом браке родились две дочери — Алагёз и Айдан.
Один из своих шедевров — портрет своей младшей дочери Айдан — Таир Салахов напишет в 1967 году и сделает это вразрез с традицией жанровых произведений на детскую тему, очень популярных в отечественном искусстве 1940–50-х годов. Эти произведения представляли современный быт и были буквально собраны из множества конкретных, узнаваемых и занимательных деталей, как, например, всем хорошо известные картины Федора Решетникова «Опять двойка» (1952) или «Прибыл на каникулы» (1948).

Замысел портрета родился у Салахова из мимолетного эпизода, тогда трехлетняя Айдан в нарядном белом пальто ловко оседлала только что подаренную ей на день рождения деревянную лошадку — белую, с алой шелковой уздечкой, пышной гривой, лакированными черными копытцами и большими добрыми глазами. Художник перехватил этот момент и перевел быстро промелькнувшую домашнюю сценку в монументальный регистр на холсте. В картину не попали ни дом, полный гостей, ни шумное веселье праздника, как это было принято в живописи недавнего прошлого. На полотне не осталось ничего, кроме ребенка с игрушкой на фоне голубоватой, будто фосфоресцирующей стены.
Очистив пространство от бытовой обстановки и отказавшись от подробного рассказа о радостном событии, Салахов убрал все лишние эмоции и фокусом композиции сделал лицо девочки. Как на парадном конном портрете, Айдан застыла верхом на игрушечной лошадке, глядя на зрителя строгим взглядом испанской инфанты. Неожиданным образом реминисценции барочного парадного портрета соединились с лаконичной, обобщенной пластикой позднего советского модернизма. Созданный живописцем детский образ, в ослепляющей чистоте белых одежд, не по возрасту серьезный и далекий от инфантильности, ясное и бескомпромиссное детское восприятие действительности отвечали целям нового этапа советского искусства. Начало ему было положено на рубеже 1950–60-х годов в творчестве мастеров «сурового стиля», одним из зачинателей и лидеров которого был Салахов. В их этическом кодексе не было места ни фальши, ни пафосу, которым было переполнено искусство
В аскетичном цветовом решении портрета доминирует знаменитая салаховская трехцветка — белый, красный, черный, — которая символизировала для него тему бессмертия творческого гения. Как знать, не было ли это предвидением судьбы маленькой Айдан как будущей «амазонки постмодернизма»? Интуиции художника, как правило, следует доверять, особенно такого, как Салахов, который любил повторять: «Мое отношение к детям и ученикам в первую очередь зависело от их таланта» Таир Салахов: «Мое отношение к детям и ученикам в первую очередь зависело от их таланта» // Артгид. 29 ноября 2013 года.. И Айдан Салахова стала художником и скульптором, в 1989 году открыла первую в СССР частную художественную галерею и до сих пор остается одной из ключевых фигур современного российского искусства.
В одном ряду с портретом Айдан стоит написанный несколькими годами ранее «Портрет композитора Кара Караева» (1960), ставший также одним из манифестов «сурового стиля». Перед Таиром Салаховым стояла во всех отношениях ответственная задача написать портрет Кара Караева (1918–1982) — азербайджанского композитора-новатора, ученика Дмитрия Шостаковича, дважды лауреата Сталинской премии, профессора, академика и общественного деятеля. Портрет должен был запечатлеть облик Кара Караева и продемонстрировать его солидный официальный статус. Поэтому может показаться странным утверждение приступившего к работе Салахова, что в портрете всегда, конечно, важно сходство, но все-таки не это является определяющим началом, художника должна интересовать суть человека, его внутреннее состояние.

Работа над портретом началась в 1959 году, когда в филиале Большого театра СССР шла подготовка к московской премьере балета Кара Караева «Тропою грома». Либретто балета — и это важный штрих, указывающий на актуальность избранной композитором темы, — было написано по роману современного южноафриканского писателя Питера Абрахамса, активно выступавшего против расизма и апартеида.
Как всегда, Салахов начинал с натурных зарисовок, приходил в театр на репетиции, наблюдал за композитором во время работы. После этого прошел почти год, прежде чем у художника сложился окончательный замысел портрета.
Натурные впечатления отошли на второй план. Выбранный вначале статичный квадратный холст был заменен на динамичный горизонтальный. Все пространство картины заполнил массив рояля, обрезанного и справа, и слева, словно являя собой зримый отрезок бесконечности, соизмеримой с масштабом творческих задач, стоящих перед композитором. Кара Караев изображен на фоне рояля, его поза передает напряжение собранной в кулак воли и скрытую внутреннюю энергию. Никакой комплиментарности, ни малейшего намека на творческий беспорядок или артистизм — все предельно рационально, строго и лаконично. Легкий цветовой акцент вносят красные корешки нотных тетрадей — особая салаховская «красная метка». На одном из сеансов Салахов попросил Караева надеть белый свитер, тем самым напомнив о кумире шестидесятников Эрнесте Хемингуэе, чье мировосприятие и особенности писательской манеры рифмовались с живописью мастеров «сурового стиля».
Кара Караев на портрете Салахова — не просто композитор, это творец и мыслитель, его образ воплощает этический идеал шестидесятников, их представление о новом герое и о том, каким должен быть современный художник. Ему претят фальшь и пафос, а творчество становится средством утверждения социальной справедливости.
И все же главной в то время темой для Салахова, как уроженца Азербайджана, оставалась нефть — важная составляющая его национальной идентичности. Еще будучи студентом, каждое лето, уезжая на каникулы на родину, он писал рабочих на нефтяных промыслах, поселок нефтяников в акватории Каспийского моря — Нефтяные Камни. Накопленные впечатления и огромный этюдный материал легли в основу его дипломной работы «С вахты» (1957). В вытянутый горизонтальный прямоугольник художник написал группу рабочих — бригаду, возвращающуюся после смены, быстро идущую по высокой эстакаде, преодолевая сопротивление встречного шквального ветра. Бьющие в эстакаду волны, крикливые чайки, наконец, сама эстакада как постамент для героев — все вместе складывается в образ, полный романтики, где повседневное приравнивается к героическому, что как нельзя более соответствовало духу наступившей оттепели.
Но очень скоро оптимизм вахтовиков сменила мрачноватая романтика «Резервуарного парка» (1959), где на фоне закатного, почти инфернального неба изображены резервуары с нефтью, отражающиеся в мазутном озере, и ссутулившаяся фигура одинокого рабочего. Салахов не боялся показать в живописи непарадную сторону профессии нефтяников, сопряженной с постоянным риском (одну из своих картин он посвятил памяти погибших нефтяников), и, как следствие, заслужил со стороны критиков упреки в том, что в его произведениях «нет радости труда, а есть одно сплошное упадничество».

Центральное место среди произведений на нефтяную тему заняли «Ремонтники», написанные в 1960 году. Картина сразу стала канонической для «сурового стиля» — трое мужчин в ночи на катере, вспарывающем черные воды Каспия, направляются к месту аварии. Художник изобразил огромные фигуры рабочих сидящими, их неподвижность и даже застылость словно притормаживает общее движение в глубину картины, фронтальный разворот композиции, монохромный ночной колорит с преобладанием серого и коричневого превращает запечатленный момент в своего рода памятник. Но есть у этой картины одна особенность, которую не разглядеть с первого взгляда, — это совершенно неожиданная, почти неправдоподобная деталь: один из рабочих держит в руках цветок. И деталь эта не выдумана художником, Салахов сам, впервые увидев, был поражен тем, что нефтяники, отправляясь на вахту, брали с собой цветы. Так и здесь он написал белую розу, этот нежный, живой бутон, который в условиях суровой вахты будет напоминать мужчинам о доме, о семье и о близких, оставшихся на берегу в тревожном ожидании.

В середине 1960-х в творчестве Салахова складывается особый тип национального пейзажа, в котором типичные азербайджанские мотивы преломляются через призму фольклорного мировосприятия. Так вырастает до небес, подобно Вавилонской, Девичья башня («Девичья башня», 1969), заслоняющая собой солнце. Цветные ветряки, как повелось с незапамятных времен в тех краях, качают пресную воду в апшеронских селениях («Апшеронский мотив», 1963), а нахичеванские горы кажутся игрушкой, вылепленной руками сказочного великана («Нахичеванские горы», 1971). У художника появляется заметная дистанция по отношению к тому, что он изображает, и, как следствие, меняется стиль его работ, становясь в ряде произведений все более условным. Меняется и общий эмоциональный фон: чувствуется скрытое беспокойство, тревога, подавленное волнение, выражаемое с подчеркнутой экспрессией. И что немаловажно, Салахов уходит от нефтяной темы.

Десять лет отделяют полотно «Женщины Апшерона» (1967) от не менее знаменитой картины латышского художника Эдгара Илтнера «Мужья возвращаются» (1957). В их сопоставлении, в их непроизвольном диалоге отчетливо проступает историческая дистанция, отделяющая начало оттепели от ее завершения. Илтнер передает драматизм момента, когда жены рыбаков выходят на берег встречать мужей: закаленные годами ожидания, несгибаемые и тем не менее взволнованные, они стоят, подставив лица ветру, они стоят перед зрителем, глядя ему в глаза. У Салахова все женщины, разлученные морем со своими мужьями, братьями, отцами, скорее разобщены, чем объединены, лишь одна из них всматривается в морскую даль. Каждая замкнулась в себе, ушла в свои переживания, но вся их общая затаенная боль прорывается наружу во взгляде еще не старой женщины с худым выразительным лицом, обрамленным широкими седыми прядями.
Не остается места мелочам и деталям, повседневная жизнь словно отступает, и кажется, что время замедляет ход. Ожидание апшеронских женщин — это длящееся состояние, константа их жизни, проходящая через детство, молодость, зрелость.
Одной из этих женщин могла быть и мать Таира Салахова. Ее звали Сона Дарьях кызы Салахова, или просто Сона-ханум. Ей суждено было прожить трудную и долгую жизнь. Почти 20 лет Сона-ханум ждала возвращения арестованного мужа, не зная о его смерти. За эти годы она в одиночку вырастила пятерых детей, увидела своих внуков, дождалась правнуков, и у нее была счастливая старость.

Началом 1980-х годов датируется несколько портретов Соны-ханум. Художник не стал писать мать в окружении детей и внуков, какой ее можно видеть на многочисленных семейных фотографиях. Кажется странным, что Салахов пишет мать всегда одну и — что самое неожиданное — словно отвернувшуюся. Но этому есть свое объяснение: по сути, созданные в эти годы портреты стали прощанием с матерью накануне неизбежного расставания с ней, накануне ее ухода.
Когда-то, еще в 1950-х годах, Салахов привез из Крыма росток агавы. Растение прижилось, разрослось и в

У Соны-ханум усталая поза, сомкнутые натруженные руки, они написаны обобщенно, без детальной прорисовки и создают вокруг нее своего рода зону отчуждения, оберегающую от праздного любопытства. В лице акцентирован только взгляд, сосредоточенный, зоркий и немного жесткий, устремленный за пределы холста, — это образ матери, очень близкий художнику, но уже далеко не будничный, с той мерой обобщения, которая выводит его из текущего сиюминутного времени.

Тогда же Салахов пишет стул на веранде с видом на море, где любила сидеть Сона-ханум, вглядываясь в морскую беспредельность («Утренняя веранда», 1980). Ее постоянное состояние — это ожидание: сначала — мужа, потом — повзрослевших и разлетевшихся по свету детей; наконец, ожидание приближающегося собственного ухода. «Ожидание» — так назвал художник один из портретов матери, хранящийся в Пермской галерее. В дверном проеме он пишет мать, сидящую спиной, следя за ее уходящим за горизонт взглядом. Берег моря («сей жизни брег», по выражению Гавриила Державина), распахнутые ворота, порог, дверной проем собираются в развернутую метафору окончания земного пути, завершения земных трудов и неизбежного, в наступивший черед, ухода.
Когда в 1970 году художник приобрел дом в Нардаране, рыбацком поселке на берегу моря на Апшеронском полуострове, в его творчестве прочно утвердилась еще одна тема — апшеронская.
Для азербайджанских художников Апшеронский полуостров, Апшерон, — это особая земля со своими красками, ритмом жизни и течением времени. Здесь скалистая почва, вода, отдающая серой, леса нефтяных вышек, воздух, пропитанный запахом моря и керосина. Небо над Апшероном «желтое, горячее, струящееся» Из воспоминаний художника Расима Бабаева., оно стекает на раскаленные, отливающие серебром пески, и от их соединения рождается «вековечное молчание».
Апшеронская тема у Салахова раскрывается в двух ипостасях — в пейзаже и натюрморте. В известном смысле Салахов — прирожденный классик. Он использует оптику каждого жанра в кульминационной точке его развития. Например, обращаясь к пейзажу, художник видит в нем не просто место действия, его интересует прежде всего собственная жизнь природы, ее состояния и непрерывная изменчивость. «В пейзаже, — писал историк искусства Борис Робертович Виппер Борис Робертович Виппер (1888–1967) — историк искусства, теоретик, педагог и музейный деятель, один из создателей советской школы историков западноевропейского искусства., — мы чувствуем наши настроения, нашу энергию, нашу мощь и бессилие, в пейзаже человек, архитектура, кусок скалы, брошенный плащ и мы сами — все растворяется и становится частицей мирового ритма, вечного брожения стихии. В пейзаже и камни начинают говорить — и мертвая природа просыпается».




И Салахов пишет Каспий — тихий и штормящий («Тихий Каспий (Скалы)», 1978; «Волны Каспия», 1977), его всегда пустынные берега, камни («Утро на Каспии», 1978), редкую растительность, ослепительное небо. На картинах возникают безлюдные улицы апшеронских селений («Улица в Нардаране», 1978), а в горизонтальной монотонности пространства теряется кажущаяся необитаемой стереометрия южных построек («Полдень в Нардаране», 1980).
Салахов подхватывает натюрморт в той точке его развития, когда он становится единственной и нераздельной живописной темой и, более того, превращается в синоним живописи. Апшеронские предметные композиции соседствуют в полотнах художника с чистым холстом как метафорой второй реальности, в которую они должны воплотиться («Натюрморт с венским стулом», 1976). Деревенская утварь, выложенная на кухонном столе в проеме картины-окна, рыболовные снасти, оставленные на стуле у приоткрытой двери, — все эти предметы существуют на грани двух миров. Здесь сходятся противоположности: близкое и далекое, единичное и множественное, личное и всеобщее, даже реальное и воображаемое. Поляризованный мир смыкается, демонстрируя диалектику перехода от замкнутого и закрытого к безграничному. И этот выход вовне приравнивается к обретению свободы.

В 1990-е годы резко изменили жизнь бывшего СССР. Социальные надломы — распад Советского Союза, внутриполитическая нестабильность в Азербайджане 1990-х годов — не могли не сказаться на творчестве художника, окрасив его в тревожные, подчас трагические тона, хотя ни в одной из его работ эти события не нашли прямого отражения.
Живопись Салахова меняется. Она, вопреки всему, приобретает небывалую прежде цветонасыщенность, фактурную эффектность, раскрепощенность и свободу.
Эта новизна отличает натюрморты, созданные в 1990–2000-е годы. Лучшие из них посвящены Варваре, другу, жене и музе, которая больше 30 лет находилась рядом с художником.
В 1958 году Салахов написал один из самых известных своих натюрмортов — «Гладиолусы». Он изобразил цветы на облупившемся, ярко освещенном подоконнике в проеме распахнутого настежь окна, а внизу во дворе, у дома напротив, — новенькую «Победу» и рядом с ней тех, кто, похоже, собирается ехать (по белому платью девушки можно предположить, что это молодожены, начинающие новую жизнь). Без малейшего нажима на полотне возникал образ зарождающейся надежды и столь желанной, ничем не ограниченной свободы.

Натюрморты, написанные полвека спустя, монументальны (и не всегда только по размеру) и
У каждого художника есть по крайней мере два времени. Первое — это время реальное, в котором он живет, не выбирая его, оно складывается из событий, работы, поступков, встреч — словом, всего того, что в конечном итоге становится его биографией. Второе — это время художественное, которое он проживает в созданных им произведениях и которое прямо или косвенно становится смыслом и сутью его творчества.
Своим солидным административным потенциалом Салахов мог распоряжаться исходя из личных представлений о должном и необходимом. Во многом благодаря именно Салахову советское искусство круто изменило вектор своего движения в конце 1980-х, когда он, будучи первым секретарем Союза художников СССР, впустил актуальное искусство в СССР, организовав в Москве выставки мировых знаменитостей — американцев Роберта Раушенберга и Джеймса Розенквиста, англичанина Фрэнсиса Бэкона, мексиканца Руфино Тамайо, Жана Тэнгли из Швейцарии, Джорджо Моранди и Янниса Кунеллиса из Италии, Гюнтера Юккера из Германии. Он защищал художников-нонконформистов, участников «Бульдозерной выставки» 1974 года, настаивал на принятии в Академию художеств представителей альтернативного искусства, например Олега Кулика. Он высоко ценил творческую индивидуальность и за долгие годы преподавания выпустил сотни учеников, ни один из которых не стал подобием своего учителя.
Но при этом Салахов сумел сохранить свой собственный дар — чувствовать время, видеть и слышать его, реагировать на происходящие перемены и запечатлевать это движение в своих работах.