
 Радио ArzamasПришли с кораблей, говорят на лунфардо, пьют мате и болеют за футбол
Радио ArzamasПришли с кораблей, говорят на лунфардо, пьют мате и болеют за футбол

Михаил Рогинский в 1965 году создал необычное произведение искусства, которое назвал просто «Дверь». Но в историю оно вошло под названием «Красная дверь», потому что это был объект очень яркого красного цвета. Почему «Красная дверь» стала знаком искусства Рогинского? Что это такое? Наш ответ Марселю Дюшану, который принес сушилку для бутылок, велосипедное колесо и писсуар в выставочное пространство? Действительно, в истории искусства «Красную дверь» часто ошибочно называют реди-мейдом. Но это не реди-мейд, потому что Рогинский заказал эту дверь профессиональному плотнику. Она немного меньше, чем стандартная дверь, но у нее практически нет оборотной стороны, и мы не можем ее открыть. Рогинский очень сердился, если кураторы выставляли эту дверь на двух петлях, как настоящую. Он говорил: это же не дверь — это картина. К тому же Рогинский покрасил ее в необычный, яркий красный. Символика этого цвета укоренена в русской культуре: это цвет красоты и одновременно опасности. Цвет крови, пожарный, как называл его Рогинский. Для него лаконизм и воздействие цвета были очень важны: эта ярко-красная дверь как будто кричит.
Когда в 2002 году открылась большая персональная выставка Михаила Рогинского в Третьяковской галерее, он часто сидел в выставочном зале, встречал посетителей или друзей. Проходившая мимо него женщина вдруг подошла к «Двери» и сказала: «А это что еще за ужас?» Рогинский был страшно обескуражен и удивлен. Он сказал: но почему же это ужас — ведь она открывает подобную дверь много раз за день. Но, видимо, эта дверь действительно раздражает. Слишком уж она похожа на настоящую, а жест художника слишком дерзок — как он посмел выставить в залах музея обычную дверь, покрашенную красной краской?
Красная дверь до сих пор будоражит зрителей, до сих пор раздражает и восхищает. Сам Михаил Рогинский говорил: это не дверь — это энергия.

На самом деле Михаил Рогинский вошел в историю искусства не только этим произведением. И неслучайно, когда он умер в 2004 году, в статьях, посвященных его творчеству, появилась такая мысль: умер последний великий русский живописец.
Как же Рогинский пришел от двери к живописи? Чтобы рассказать об этом, надо погрузиться в историю его семьи, в историю его становления как художника. Его отец, Александр Эммануилович Рогинский, был основателем библиотек Красной армии. В 1938 году он был арестован по доносу за недоносительство, то есть за то, что не донес на одного из своих коллег, и осужден на три года. Но в 1941 году началась война, и эти три года растянулись еще на пять лет, а вскоре после того как отец Рогинского поступил опять на работу, в библиотеку в Рязани, он был арестован повторно. И в результате так получилось, что освобожден он был только в 1954 году. Жена его осталась с двумя детьми — старшему Мише семь лет, младшему — один год. И их сразу же после ареста отца переселили из служебной квартиры, которая находилась рядом с Центральным домом Красной армии почти в центре Москвы, в коммунальную квартиру в поселке Щукино, то есть на самой окраине. А во время войны, конечно, отправили в эвакуацию. Так получилось, что Рогинский находился далеко от центра культуры даже в те годы, когда он жил в Москве. И это важно для понимания его искусства, потому что его родные пейзажи состояли из однородных малоэтажных домов, из оврагов, из остатков старых садов, это был его город, его Москва.
Рогинский поступает в Московскую городскую художественную школу. Она была не такая престижная и знаменитая, как МСХШ — Московская средняя художественная школа, откуда все поступали в Суриковский институт,
Говорят, что уже его первые декорации отличались простотой, своеобразием и особенной предметностью. Ему хотелось, чтобы стол, шкаф, табуретка, тумбочка, плита, которые стоят на сцене, играли определенную роль. В начале
По возвращении в Москву Рогинский бросает театр и начинает заниматься станковым искусством. Довольно поздно — ему уже 30 лет, для художников того времени, которые начинали очень рано, это был уже зрелый возраст. У Рогинского появляются очень простые работы, которые он пишет на холстах, на картоне, на дереве, на фанере, на оргалитах, — работы, которые изображают чайники, примусы, различные натюрморты в ванной или на кухне, то есть самые простые и неприглядные вещи. И делает настоящие портреты этих вещей, то есть пишет прямо, в лоб, такую неинтересную натуру. И его картины становятся все большего размера. Рогинский, например, заимствует примус в художественной школе, где он преподает после возвращения в Москву. И этот примус становится одним из главных героев его живописи на протяжении многих-многих лет. Сначала это были небольшие работы, но потом портрет примуса вырастает до размеров парадного. Рогинский признавался, что, если бы он обладал умением создавать скульптуры, он бы с удовольствием сделал скульптуру примуса, потому что тот казался ему удивительно красивым и очень чувственным. При этом Рогинский пишет все эти вещи, не задумываясь о характере самой живописи. Она остается очень строгой, театральной, как будто рассчитанной на взгляд издалека. Помимо простых, обыденных вещей он обращается и к пейзажам, но это не совсем пейзажи, это виды тех самых унылых пятиэтажек, среди которых он вырос и которые тоже становятся его героями.
В середине
Нужно понимать, что художники тогда жили не в информационном вакууме. Очень многие вспоминают, что в 1960-е годы их водили в запасник древнерусского искусства Третьяковской галереи, который находился тогда в церкви Николы в Толмачах. Помимо древнерусского искусства там хранились произведения русского авангарда. Некоторые из них висели прямо в коридоре, как «Черный квадрат», другие стояли в штабелях, и нужно было поворачивать картины, чтобы посмотреть, например, на работы Филонова. Именно так происходило знакомство с тем самым другим искусством, не похожим на то, что изучали молодые художники в школах и институтах. А произведения западноевропейских мастеров они видели в, например, репродукциях в журнале «Америка», в польских журналах, в книгах, доступных в Библиотеке иностранной литературы. Также мы можем вспомнить о знаменитых выставках 1957 года, о Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года, об американской выставке «Промышленная продукция США»
В 1964 году поэт Генрих Сапгир увидел работы Рогинского на выставке в кинотеатре «Диск» и назвал их русским поп-артом. Почему поп-арт? Знаменитые западные художники, такие как Энди Уорхол, Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн, часто изображали предметы, которые были частью повседневной американской жизни. Самый наглядный пример — это банки супа «Кэмпбелл», которые Уорхол превращал в гипертрофированные объекты. Так что фраза про русский поп-арт, брошенная Сапгиром, была неслучайной. Она прочно приклеилась к работам Рогинского и сопровождала его всю жизнь. Это время от времени его сердило, и он говорил, что занимается не поп-артом, а документализмом. Для него было важно, что всякое произведение искусства в конечном счете обязательно реалистично. Чем отличается примус Рогинского от супа «Кэмпбелл» Энди Уорхола? Поп-арт появился как реакция на духовность абстрактного экспрессионизма. Поллока и Ротко показывали на самых престижных выставках Америки и Европы, создание произведения искусства было объявлено
Примус Рогинского создавался в условиях советского товарного дефицита, и каждая его коробка спичек, каждая газовая плита, каждый чайник рассказывал о скромном быте, о среде, в которой живет каждый человек. Всякий предмет обладал своим характером, это был настоящий психологический портрет, через который Рогинский рассказывал не только об устройстве примуса, но и вообще о жизни, об атмосфере, о тепле или, наоборот, об опасности. Потому что еще одним источником вдохновения, который он признавал безоговорочно, были не рекламные плакаты, но те плакаты, которые встречали людей повсюду в городе: «Спички детям не игрушка», «При пожаре звоните 01», «Осторожно, поезд!» Рогинскому очень нравился этот лаконичный язык, действенность образов. Поэтому и его ранние работы были такими плоскостно-лаконичными в своей живописности.
Так Рогинский стал знаменит в узком кругу. Ту самую выставку в бывшем кинотеатре «Диск» в 1964 году закрыли на следующий день после открытия. Рогинский был обескуражен, как и все участники этого проекта, потому что совсем незадолго до этого в «Диске» состоялась выставка художников-кинетов, как они себя называли, под руководством Льва Нусберга — знаменитая выставка, которая просуществовала две недели и прочно вошла в историю искусства. А Рогинского никто не воспринял, хотя на открытии было очень много людей. Его не принимали за новатора. В то время, например, художников активно приглашали выставляться в различных научных учреждениях. И ученые отдавали предпочтение, например, Олегу Целкову Олег Целков (1934–2021) — советский художник, первая персональная выставка которого состоялась в 1965 году в московском Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова. Иммигрировал в 1977 году во Францию. — у него яркая, агрессивная, сюрреалистическая живопись. Когда они видели работы Рогинского — плита, натюрморт в ванной, примус и чайник, — они спрашивали: а в чем концепт? И Рогинского это страшно злило — он не хотел, чтобы был
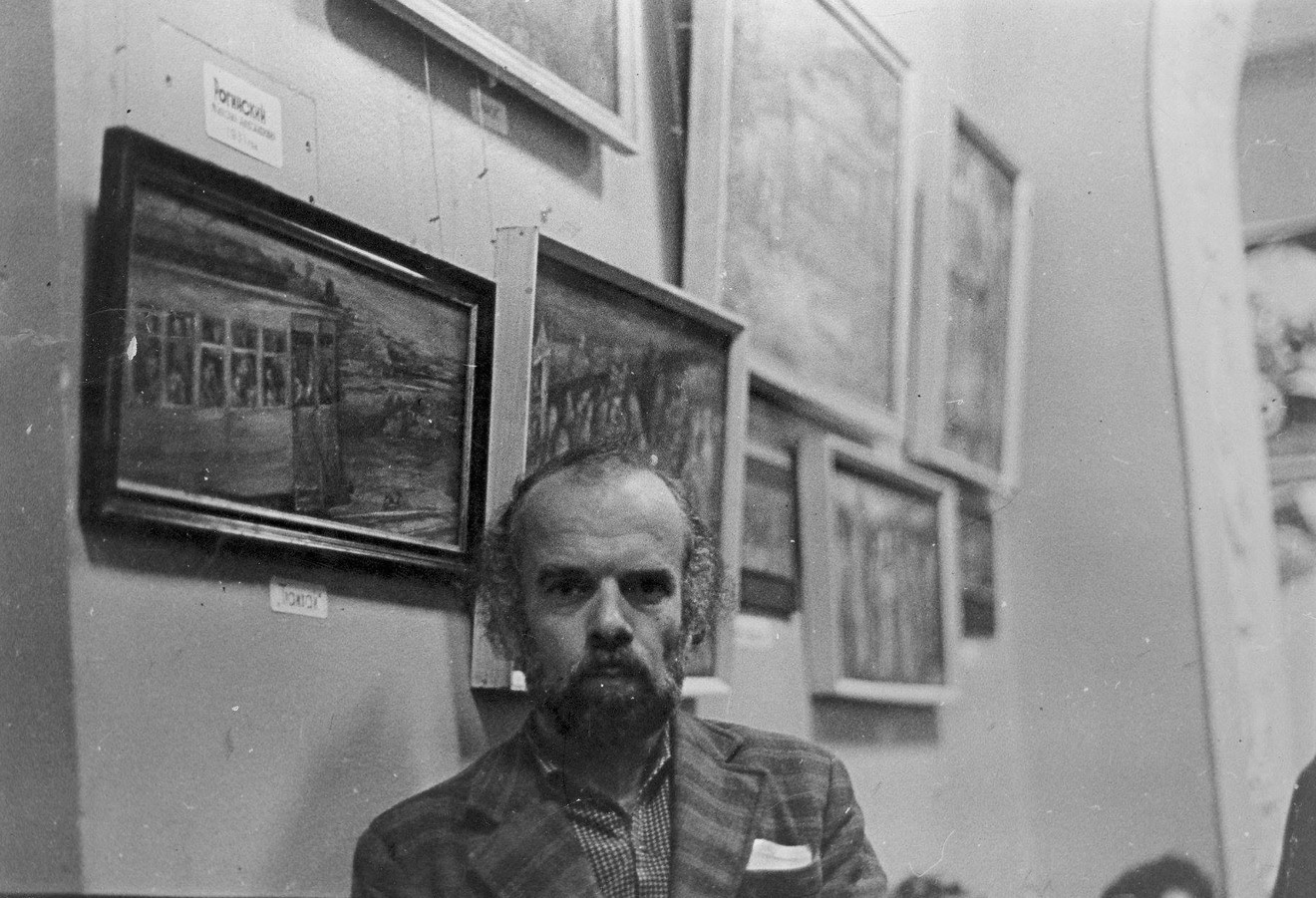
В 1970-е годы вдруг наступает перелом. Вместо броских и лаконичных вещей художник пишет маленькие картинки. Вместо масляных красок он берет темперу и начинает создавать многослойные охристые композиции, которые изображают свалки, стройки, рынки.
Об этом периоде сам Рогинский говорил позднее, что это 10 лет, выброшенных на помойку. Но сегодня, когда мы смотрим уже в обратной перспективе на творчество Рогинского, мы понимаем, что этот его опыт неслучаен. На маленьких темперных картинках, многим очевидцам напоминавших жанровую голландскую живопись, вместо светлых или темных голландских интерьеров были те самые изображения окраин Москвы или мусорных пространств, которые светились золотистым охристым цветом. Этот период отразился позднее в совсем другой живописи Рогинского.
На что же жил художник Рогинский? Мы знаем, что, как правило, в это время художники не только занимались творчеством в мастерской, у них была вторая жизнь, вторая работа. Илья Кабаков, как и Эрик Булатов и Олег Васильев, занимался книжной иллюстрацией, Леонид Соков делал скульптуры на заказ в том числе для зоопарков,
В Заочном народном университете искусств Михаил Рогинский проработал до середины
Леонид Соков, замечательный художник, который очень высоко ценил Рогинского, говорил, что того всегда сопровождала неудача: у Рогинского была судьба жить в бедности, его преследовали катастрофы и катаклизмы. Мастерская Рогинского в Париже находилась очень далеко от центра, она была маленькая, совершенно необустроенная, и все, кто приезжал к Рогинскому уже в 1980-е и 1990-е годы, поражались той же самой бедности, какая была в Москве, аскетичности его быта во Франции. Он не стал французом и, хотя сразу же начал учить французский язык, чувствовал себя совсем другим. У него не появилось галерей, которые бы продавали его работы, была только одна галерея, сотрудничавшая с ним постоянно, были
В начале 1980-х появляются большие картины, которые изображают интерьеры, но это картины не на холстах — они написаны акрилом на бумаге. Как говорит сам Рогинский, он пишет родительскую квартиру. И появляется изумительная по красоте живопись, которая как будто покрыта пылью, как будто подернута дымкой, — появляется «Коммунальная кухня», ее можно увидеть в Третьяковской галерее; появляются отдельные ящички комодов и буфетов той самой кухни, появляется розовая стенка с прислоненной лестницей в коридоре, появляются картины-миражи. Огромное количество — он писал бесконечно, с очень раннего утра до позднего вечера. Потом появляется серия работ с персонажами, причем очень схематичными. И для того чтобы рассказать о том, что происходит в этой бытовой картине, Рогинский начинает вводить в свои композиции тексты. Они вырываются изо ртов его героев в виде комиксовых пузырей.

Проходит совсем немного времени, и Рогинский обращается как будто бы опять к своей молодости. Вспоминая о своих стенках с розетками, о «Красной двери», он начинает создавать из гофрокартона или на гофрокартоне — это упаковочный материал, который он подбирает
В 1993 году Рогинский впервые приезжает в Москву. И начинается еще один очень плодотворный период его творчества. В Москве Рогинский обнаруживает, что его помнят и любят, что хотят его выставлять, что им восхищаются, что все помнят его работы
Он писал действительно документальные кадры и обижался, когда зрители говорили, что получается клевета и он не любит людей, которых пишет. На самом деле он их любит, его искусство последних дней было отмечено гуманистическим пафосом.
Москва 1990-х продлилась в его творчестве практически до конца жизни. Причем он пишет Москву в основном не во время пребывания в Москве, хотя он там работает, но когда возвращается в Париж, по которому он тоже начинает скучать. Рогинский приезжает во Францию и создает огромные бесконечные серии, которые потом привозит в Москву. У него нет денег, чтобы заказывать для этих работ специальную транспортировку, поэтому появляется неожиданный формат длинных узких холстов. Он разрезает холсты или покупает дешевые обрезки холстов — такие холсты высотой
Эти рулоны стали занимать разные выставочные пространства, и наконец в 2002 году открылась выставка в Третьяковской галерее «Пешеходная зона», которая оказалась практически последней прижизненной большой экспозицией Михаила Рогинского. Только после его смерти в 2004 году началось активное шествие его работ по разным музеям и странам.
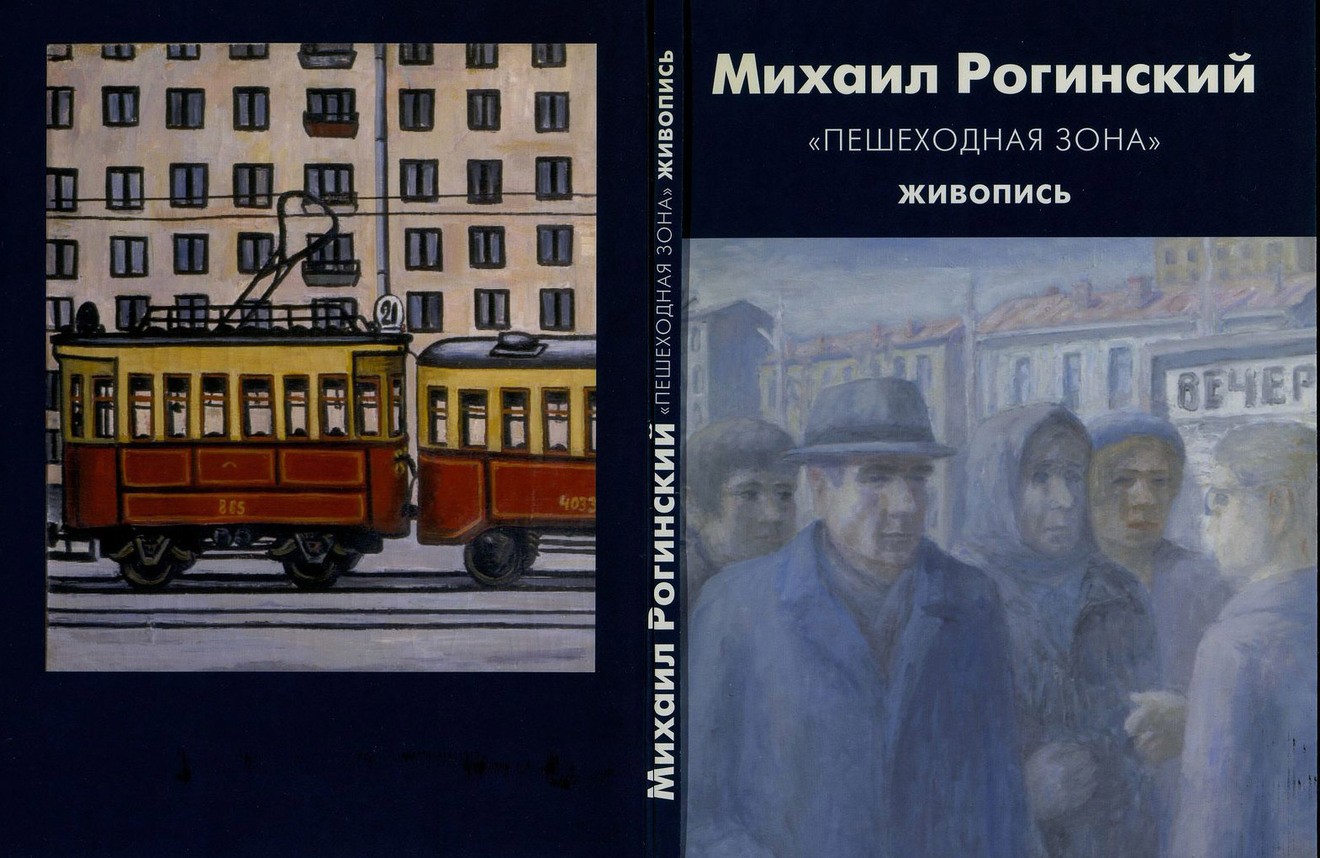
На выставке «Пешеходная зона» Рогинский хотел показывать только новые работы. Но кураторы Саша Обухова и Татьяна Вендельштейн попросили его все-таки выставить работы
Для многих друзей юности Рогинского эти последние работы были шоком. Они не видели в нем прежних цветов, строгости манеры, а видели серую фузу — его живопись и правда сначала производит впечатление тусклого взгляда на жизнь и бесконечной тоски. Она, конечно, отмечена меланхолией. Но когда мы начинаем всматриваться в эти картины, нам хочется ими наслаждаться, их рассматривать и к ним возвращаться. Мы видим тончайшие нюансы цвета, света и особенного настроения, в котором нет критики, нет злости, нет пафоса передвижников, а есть странное желание погладить по голове. Печаль и одновременно любование миром, который уже далеко от Рогинского, с которым он давно расстался, но который навсегда остался у него в душе.
Самая известная картина Татьяны Яблонской — «Хлеб» (хранится в Государственной Третьяковской галерее). С нее начинается любой рассказ об этой художнице, искусство которой стало одним из символов ушедшей эпохи.
В начале лета 1948 года Татьяна Яблонская, преподаватель Киевского художественного института, была направлена с группой студентов на практику в село Летава колхоза имени Ленина Чемеровецкого района Каменец-Подольской области Украины, сейчас Хмельницкая область Украины. Студенты опередили Яблонскую, которая задержалась в городе и уже перед самым отъездом получила от них письмо. Ребята жаловались, что в колхозе, куда их отправили, «скучно, нет ничего красивого, интересного, живописного, пейзаж однообразный» Т. Н. Яблонская. Как я работала над картиной «Хлеб» // Из творческого опыта. Вып. 3. М., 1957., а люди работают почти круглосуточно и позировать отказываются. Яблонская не на шутку рассердилась на своих подопечных, которые были, кстати, не намного ее моложе, — ей самой уже давно хотелось побывать в местах, где, как ей представлялось, люди прежде всего любят и умеют работать, где внимание художника не будет распыляться на легкомысленные «живописные» уголки, а устремится «в глубь жизни». О том, как работают в одном из лучших колхозов Украины, она, как и все, впрочем, знала только из газет.
В Летаву в те времена надо было добираться из Киева сначала по железной дороге до Каменец-Подольского, где семья Яблонских — родители Нил Александрович и Вера Георгиевна и трое их детей, сын Дмитрий и дочери Татьяна и Елена, — прожила три года. Яблонские несколько раз переезжали, Татьяна Яблонская родилась в Смоленске в феврале 1917 года. После Смоленска они недолго жили в Одессе, а оттуда перебрались в Каменец-Подольский. Почему отец выбрал этот старинный город со средневековой цитаделью? Вероятно, не в последнюю очередь на его выбор повлияла близость польской и румынской границы и, соответственно, возможность бегства из Страны Советов. После неудавшейся попытки побега семья перебралась в Луганск.
Отец Татьяны Яблонской Нил Александрович был типичный разночинец-интеллигент из поповичей, очень хотел стать художником, но, как сын священника, должен был пойти по отцовской стезе. Поэтому после семинарии поступил в Духовную академию, откуда был отчислен за участие в студенческих беспорядках в 1905 году. После нескольких провалившихся попыток поступить в Петербургскую Академию художеств, Нил Яблонский поступил в Петербургский университет на историко-филологический факультет. Однако желание стать художником с годами не проходило, и, уже будучи отцом семейства, оставив в Смоленске жену и малолетних детей, он в начале
Но дети, ставшие целью его неудавшейся жизни, повзрослев, оказались для него чужими. Всеми силами он старался уберечь их от влияния коммунистической идеологии, но эта идеология, которая привлекла на свою сторону молодость, желание творить и строить, оказалась сильнее.
И тем не менее именно благодаря отцовским урокам сестры Яблонские, окончив в 1933 году Каменец-Подольскую семилетку, сразу были приняты на второй курс Киевского художественного техникума. Однако через два месяца после начала занятий техникум закрылся в связи с начавшейся на Украине реформой художественного образования, проводившейся в рамках широкой кампании по борьбе с формализмом и его главным представителем Михаилом Бойчуком, создателем новой школы украинского монументального искусства Михаил Бойчук был арестован и расстрелян в 1937 году по обвинению в буржуазном национализме.. Только в следующем, 1935 году они стали студентками полностью обновленного Киевского художественного института.
Студентка Яблонская отличалась редкой трудоспособностью и целеустремленностью — она буквально работала за троих. Эти качества ее личности, которые она сохранит в течение всей своей долгой жизни, принесли ей первое заслуженное признание: в начале 1941 года в институте была организована беспрецедентная «Выставка работ студентки Татьяны Яблонской». Но вскоре успешное и многообещающее начало творческой карьеры было прервано Великой Отечественной войной. Яблонскую вместе с сестрой отправили в эвакуацию в Саратовскую область, в колхоз под Камышином, куда она приехала с новорожденной дочерью.
На военные годы она, горожанка по рождению и воспитанию, превратилась для окружающих, как она говорила, в «тетку Таньку», «колхозницу» по паспорту, выданному в эвакуации, работала в полеводческой бригаде и наравне со всеми в колхозе полола, косила, скирдовала, молотила, возила на волах воду.

После возвращения Яблонской в апреле 1944 года в освобожденный Киев для нее началось и возвращение в профессию, трудное, полное сомнений, с попытками наверстать упущенное, с поисками своей темы в искусстве, которая наконец и была найдена в мало кому известной Летаве, куда летом 1948 года институт направил своих практикантов
Яблонская рассказывала, что нашла своих студентов в здании школы-семилетки. Пристыдив их за грязь в комнате и безынициативность в работе, а главное, за уныние, пошла вместе со студентами осматривать колхозное хозяйство. Они побывали на колхозных дворах, увидели коровники, конюшни, кузню, обилие самых разнообразных хозяйственных построек. Ей нравилось, что во всем этом был «большой размах, хозяйственная уверенная хватка, большая инициатива во всем» Т. Н. Яблонская. Как я работала над картиной «Хлеб» // Из творческого опыта. Вып. 3. М., 1957.. «Чего только не было в этом колхозе, — удивлялась молодая горожанка, — разводили даже шелковичных червей, и все не кое-как, а
«В колхозе живут зажиточно. В город ездить незачем, все есть в селе — магазин, прекрасный клуб. <…> Две школы, свой духовой оркестр. Увлекаются спортом, шахматами. Одну электростанцию построили еще до войны, другую начали при нас. <…> Чудесный колхоз, чудесные люди».
Трудно поверить, что все это разом предстало перед их глазами в действительности. Когда десять лет спустя Яблонская писала эти воспоминания, ее первоначальные впечатления приобрели исключительный масштаб и расцветились яркими красками. Картинка в итоге получилась ослепительная: словно в озарении возникший образ колхозного рая, воплощенная утопия, как кадр из крестьянской феерии Ивана Пырьева «Кубанские казаки». Яблонская не могла не заметить, что личные приусадебные участки у многих были заброшены, заросли бурьяном, но думать сейчас об этом ей не хотелось, ведь колхозные всегда были в образцовом порядке. Вероятно, знала она и о том, что попала в один из тех многочисленных «вдовьих колхозов», где основная тяжесть работы после войны легла на женские плечи. До этого Яблонская знала только один колхоз, куда судьба забросила ее во время войны, и, видимо, личный травмирующий опыт вытеснялся образом процветающего хозяйства, а в тень уходило все то, что напоминало о недавних тяжелых потерях и горьких переживаниях.
За четыре месяца — с июня по сентябрь — Яблонская сделала в Летаве около 300 рисунков и этюдов. Поскольку люди были постоянно заняты и позировать не могли, да и не очень хотели, Яблонская большей частью делала наброски различных рабочих сцен. Однако, приступив к работе над картиной, Яблонская не использовала ни одного сделанного в колхозе рисунка или этюда. Ей с самого начала захотелось, как она говорила, чтобы «картина звучала как хорошая народная песня о труде, смотрелась бы как памятник этим людям» .
Яблонская, по ее словам, поставила перед собой задачу создать большой монументальный образ. При этом картина должна была остаться «очень живой, полной движения, звона и солнечного света» Т. Н. Яблонская. Как я работала над картиной «Хлеб» // Из творческого опыта. Вып. 3. М., 1957.. Решение образа центральной героини, который она представляла себе как «обобщенный образ современной украинской колхозницы», было найдено в собственном плакате, сделанном по заказу одного издательства. Яблонская принарядила женщин, изобразив их в традиционных (другими словами — старомодных), красиво драпирующихся украинских юбках вместо тех, что носили реальные колхозницы, добавила им телесной дородности и стати. Но при этом мысль надеть на главную героиню вышитую украинскую сорочку показалось ей уже «слишком схематичным и плакатным решением».
Работа над эскизами заняла всю осень 1948 года, а когда пришло время переходить к холсту, наступила зима, и пришлось обратиться к институтскому реквизиту. В ход пошли и собственноручно изготовленные миниатюрные мешки с песком, и склеенный из картона совок, послужила и куча строительного песка во дворе института, которая при определенном освещении могла сойти и за горы зерна. Главная героиня была написана с институтской натурщицы Гали Невчас. Странным может показаться, что на картине не появилось ни одного портрета тех, кто так вдохновлял Яблонскую в Летаве. Даже вместо председателя колхоза, который по всем законам соцреализма должен был занимать центральное место в композиции, слева на весах висит лишь его сумка с вложенной в нее газетой. Горизонт и небо, вопреки обычаю заполнять фон изображениями колхозных угодий, закрыты огромной, плохо прописанной скирдой, больше похожей на лохматый занавес. Только в правом верхнем углу оставался просвет для движения грузовиков. На борту одного из них закреплено красное полотнище с лозунгом «Хлеб — сила и богатство нашего государства», но он практически не читается, полузакрытый фигурами колхозников. Все это несколько ослабило идеологическую нагрузку, и смысл картины Яблонская заточила до простой и понятной каждому формулы «счастье и радость труда», вложив в нее много личного чувства, опыта и надежд. Удачным завершением работы стало название картины, «Хлеб», пришедшее, как говорила Яблонская, в день «счастливого ясновидения», когда она решила резко увеличить и разлить по всему холсту огромный ворох зерна. Ей хотелось, чтобы хлеб, ради которого и работают эти люди, звучал в картине с большой силой и радостью.
В начале 2000-х к рассказу о создании картины появился своеобразный постскриптум. В Летаве побывал корреспондент газеты «Труд». Были еще живы колхозницы, помнившие художницу-киевлянку. Глядя на картину, они одновременно узнавали и не узнавали себя: узнавали себя за работой и не узнавали в тех высоких, дородных колхозницах, которых написала Яблонская, говорили, что одевались на самом деле скромнее, юбки носили узкие, подражая городским, и все вспоминали голод. В 1946 году по всей Украине стояла засуха, неурожай охватил все регионы, в том числе и Подольский край. Кормились жмыхами, бурьянами, листьями деревьев. Только осенью 1946-го и весной 1947-го выпали дожди, снежной была и зима, и 1947 год принес большой урожай. Постаревшие крестьянки рассказали корреспонденту, что за свой рекорд по уборке урожая каждая из девчат-героев получила по катушке ниток — самая желанная для них награда, поскольку нитки, как и мыло, и иголки, ценилось больше всего.

Но вернемся в 1949 год. Еще не просохшая картина была экспонирована осенью на республиканской художественной выставке, а оттуда отправлена в Москву на Всесоюзную. Буквально накануне открытия Всесоюзной выставки, 31 октября 1949 года, когда столичная публика еще не видела новую работу Яблонской, в очередном номере центральной газеты «Культура и жизнь» вышла статья «За социалистический реализм в живописи». В ней молодая украинская художница упоминалась среди тех мастеров, в чьих работах сказывалось вредное влияние импрессионизма, у кого «в картинах реализм принесен в жертву так называемой „живописности“» А. Киселев. За социалистический реализм в живописи // Культура и жизнь. № 30. 31 октября 1949 года. . Словом, она, наряду с такими мастерами, как Аркадий Пластов и Мартирос Сарьян, была причислена к «формалистам-бракоделам».
Но едва открылась выставка, картина «Хлеб» оказалась в центре всеобщего внимания и, более того, была удостоена Сталинской премии II степени. Критика называла ее одной из лучших картин выставки и главные достоинства видела в том, что в ней нашел свое выражение радостный, свободный труд и даны образы жизнерадостных людей, прекрасных в своем трудовом энтузиазме.
Вослед газетным панегирикам Яблонская сама выступила с ответным печатным словом (в «Культуре и жизни» от 11 февраля 1950 года). Взяв поначалу покаянный тон, она признала справедливость критики в адрес своих импрессионистических работ, а потом впервые рассказала о своей работе над картиной «Хлеб», о том, что именно в Летаве, по ее словам, «почувствовала, насколько еще искусство в долгу перед нашим великим народом, как оно еще слабо отражает все величие и благородство советского человека, размах социалистического переустройства страны».
Словно присягая на верность соцреализму, она чеканила слова:
«До поездки в колхоз меня немного обижали упреки в формализме. Теперь я соглашаюсь с ними. В моем сознании произошел большой перелом. <…> К своей последней картине „Хлеб“ я подходила иначе. В ней я от всего сердца старалась передать те чувства, которые так взволновали меня в колхозе. Мне хотелось передать радость коллективного труда прекрасных наших людей, богатство и силу колхозов, торжество идей Ленина — Сталина в социалистической переделке села».
Даже в частной переписке того времени она повторяла риторику газетного выступления и продолжала настаивать:
«…что только глубокое и тесное общение с лучшими сторонами нашей жизни может толкнуть вперед наше искусство. <…> Чтобы создать действительно нужные произведения, надо подолгу жить с людьми, изучать их со всех сторон. Со всех сторон схватывать жизнь. Тогда только явится обобщение» Письмо Я. Д. Ромасу. Март 1950 года. — ОР ГТГ. Ф. 134. Ед. хр. 218..
А дальше захлестнувший Яблонскую успех «Хлеба» превратился в своего рода наваждение и чуть ли не проклятье. Картина прославила ее на всю страну и в то же время сделала заложницей собственного успеха, породила армию эпигонов, а саму художницу превратила в «законодателя тем» в живописи, утвердила непререкаемым авторитетом в украинском искусстве. Если еще до войны в институте она начинала серьезно работать над живописью, то теперь все тонкости чисто живописных ощущений были потеряны, трехлетний перерыв в работе во время войны отбросил ее назад. Для нее было очевидным, что «нужно было бы снова долго и внимательно поработать с натуры, чтоб восстановить эти забытые и

Но повторить успех «Хлеба» ей так и не удалось. Ни в большой картине «Весна» (1950 года, она сейчас находится в Государственном Русском музее), «„Весна“ — уже падение во всем, — скажет она полвека спустя. — Это уже чистейший фотографизм, натурализм и полная пассивность. И — тоже премия! Ну как не поверить, когда тебя так хвалят?» Неудача постигла и замысел картины о «рудокопах» Криворожья, не удались ей ни спортсмены на Днепре, ни строители Киева. Успех вернулся с картиной «Утро» (1954 года, она висит в Третьяковкой галерее), где она изобразила свою 13-летнюю дочь Лену — юную, тонкую, стройную, легко взмахнувшую руками, словно девочка устремляется навстречу городу, и лету, и новому, еще не прожитому дню. Картина сразу стала и до сих пор остается популярной, была растиражирована и вошла в школьные хрестоматии, хотя сама Яблонская,
И тогда, говорят, Яблонская сломала и выбросила словно заговоренные кисти, которыми написала «Хлеб» и которые ей служили в 1950-х. Этим почти ритуальным жестом она попыталась защититься от фальши и вернуться к настоящей живописи. Во второй половине 1950-х годов Яблонская вырвалась из Киева и отправилась сначала в Армению, а потом в Прикарпатье. За короткое время объехав украинские, гуцульские и румынские села, она открыла для себя новый источник вдохновения — в картинах «наивных» художников, в нарядной цветистой керамике, вышитых разноцветной гладью рушниках и даже расписных клеенчатых ковриках, поскольку больше всего ее трогало то, что живет в народе сейчас. Художницу восхищали щедрость и богатство форм и красок.

После этих поездок художественный лексикон Яблонской обновился, в нем появились контраст ярких, звонких красочных пятен, обобщенный силуэт, плоскостность и декоративность. И, работая над картиной «Лето» (1967, Государственная Третьяковская галерея), она легко строит пространство, укладывая один за другим валики холмов, перетянутые ленточками-дорожками и ритмично выложенные жгутиками-грядками. В мягких складках земли, как грибы-боровики, прячутся украинские хатки и, словно шары, перекатываются кроны деревьев. Сине-зеленый мир, где все подчинено единому ритму.
Летом 1972 года Татьяна Яблонская побывала в Италии. Это была уже не первая поездка в страну, куда мечтает попасть каждый художник. Но ни Рим, ни Венеция, ни что-то другое в этот раз не захватили ее чувства так, как Флоренция. Она целыми днями ходила по городу, а вечерами усталая садилась у окна, вглядывалась в лабиринт узеньких улочек, живописный узор черепичных крыш, и припоминала впечатления прошедшего дня.
Вернувшись в Киев, она долго работала, под рукой у нее были небольшие акварельные этюды, сделанные с натуры. Но Яблонской хотелось, чтобы за непосредственностью беглых живых впечатлений настоящего проступало прошлое этого необыкновенного города, его история и искусство.
По наброску, сделанному дочерью Еленой, унаследовавшей ставшую уже семейной профессию художника, она представила себя в гостиничном номере в неожиданном ракурсе — со спины, облокотившуюся на подоконник и погруженную в созерцание раскинувшегося внизу скопления дворцов, домов, церквей. Подобно художникам Раннего Возрождения Яблонская тщательно выверила перспективу комнаты, расчертила выложенный черной и белой плиткой пол. Распахнутое окно уподобила триптиху, создав в картине еще одну картину, и написала то, что было особенно дорого ей в этом городе: в центре — громада Санта-Кроче, национального пантеона Италии, где покоится прах Леона Баттисты Альберти, Микеланджело и Галилео Галилея. Там же, в левом верхнем углу, изображена часть форта на другом берегу реки Арно, который строился под руководством Микеланджело. Левая створка окна-триптиха отражает башню палаццо Веккьо, а на правой Яблонская запечатлела собор Санта-Мария-дель-Фьоре, который в действительности не был виден ни в окне, ни в отражении, но художница была убеждена, что не может быть образа Флоренции без этого купола.

За картину «Вечер. Старая Флоренция» (она была закончена в 1972 году и находится в Государственной Третьяковской галерее) Татьяна Яблонская была награждена серебряной медалью Академии художеств СССР. Сама она признавала в этом произведении влияние искусства старых мастеров и даже называла его своим новым пленом. Но в этот «плен» попала не только Яблонская. В 1970-е годы отечественные художники все больше начинали чувствовать себя как дома в любом пространстве и времени, в любом периоде художественной истории человечества. И Татьяна Яблонская, вступив на этот путь, одержала свою очередную победу.
Шли годы. Что бы ни происходило в жизни Татьяны Яблонской, ее никогда не покидало поистине неистощимое жизнелюбие и жизнестойкость. Наступившую старость принимала с улыбкой, прикованная к инвалидному креслу, продолжала работать сидя у окна.
Не раз она принималась за автобиографические записки. В отрывке, датированном 1997 годом писала:
«Год рождения не выбирают. Я родилась в 1917-м. Прожила почти весь тяжелый ХХ век. Много было всего пережито. Теперь все эти годы оцениваешь уже на расстоянии. Оправдываться ни в чем не буду. Одно скажу — ко всем своим работам относилась искренне. Иногда приходилось идти на компромиссы — пусть меня не очень строго судят».
В одной из бесед с дочерью Татьяна Ниловна произнесла: «А все-таки лучшая моя картина — это „Хлеб“!» Это произошло весной 2005 года, ее последней весной. Дочь вспоминала:
«…прозвучало очень значительно, как итог долгих раздумий. Известно, что мама была строга к себе, в своих высказываниях и текстах она часто подвергала сомнению ценность своих работ и даже целых периодов. Эти оценки менялись под влиянием разных настроений, но мама была человеком увлекающимся и импульсивным. Но тем не менее такая фраза прозвучала, и, наверное, неспроста».
Приходило ли вам

Действительно, арсенал средств Красулина во многом составили материалы, которые другой человек счел бы неэстетичными. Исписанная бумага и гофрокартон, старые доски, коробки, строительная сетка — попадая в руки художника, все это обретает новую жизнь. Эта особенность Красулина творить из бедных материалов роднит его творчество с искусством итальянского arte povera. Это движение зародилось в Италии в 1960-е годы, в буквальном переводе — «бедное искусство». Его представители выступали против привычно красивого в искусстве, они использовали в своих работах нехудожественные приемы и материалы, предметы из окружающей их действительности, которые не требовали дополнительных финансовых вложений. Красулину такой подход отчасти близок, однако он отмечал, что его работы не были вдохновлены западными художественными явлениями, а были связаны исключительно с собственными поисками. Что характерно именно для Красулина, подобные простые предметы зачастую становились для него не только материалом, средством достижения художественного образа, но и вполне самодостаточной темой для творчества и объектом для размышлений. Как ему удавалось превращать эти на первый взгляд заурядные объекты в произведения искусства? Попробуем разобраться.
Андрея Красулина традиционно причисляют к плеяде шестидесятников — поколению деятелей отечественного искусства, которые стали одним из символов свободы мысли и творчества прошлого века. Из числа скульпторов-современников Красулина к этому кругу также принадлежат Аделаида Пологова, Дмитрий Шаховской, Нина Жилинская, Ирина Блюмель, Татьяна Соколова. Эти художники после долгого периода господства соцреализма обратились к поискам нового пластического языка. Все шестидесятники выпадали из-под давления идеологии, но при этом их совершенно не обязательно объединяют общие творческие приемы. Так, Красулин — совершенно самобытный художник. Он окончил отделение монументальной и декоративной скульптуры в Московском высшем художественно-промышленном училище (ныне это Академия Строганова) и почти сразу отошел от скульптуры в традиционном ее понимании, выбрав путь экспериментов.

С 1960-х годов арсенал техник Красулина постоянно расширяется: от скульптуры — к живописи, графике, воздушным объектам. От более традиционных, трудоемких, дорогостоящих материалов он совершал переход к все более простым. Эта тенденция однажды даже привела его к полной дематериализации своего творчества. Он сделал выставку, которая называлась «Не вещь» Выставка прошла в 2013 году в Pechersky Gallery на «Винзаводе». Ее экспонатами стали не объекты, а тени. Так что в некотором смысле эволюция в творчестве художника, несомненно, просматривается. Но в то же время на всех этапах его работы демонстрируют органичное единство. Так, в течение десятилетий Андрей Красулин неизменно разрабатывает в разных техниках излюбленные темы — «Коробки», «Полосы», «Доски», «Пейзаж», «Табуретки», — которые дают ему широкий простор для художественных вариаций.
«Коробки» Андрея Красулина — яркий пример творческого мышления художника, которое позволяет ему видеть в обыденных предметах красоту, недоступную другим людям. Однажды, проходя мимо обыкновенной картонной коробки, немного мятой, пожившей, он обнаружил в ней законченную художественную форму, которая не нуждается в исправлении или дополнении. Это впечатление породило целую серию работ, в которой Красулин исследует самодостаточную ценность конструкции этого предмета. Иногда он отливал коробку в бронзе, таким образом переводя в вечный материал. Литейщики, с которыми Красулин работал, со временем научились отливать в бронзе не только картон, что уже весьма технологически сложно, но даже бумагу. И это породило в творчестве художника парадоксальную игру материалов, когда легкая коробка может стать тяжелым металлом, когда дешевый картон становится достойным того, чтобы быть отлитым в дорогостоящей бронзе.

Образ коробки настолько захватил художника, что он впоследствии обратился к нему и в технике живописи. Живопись в творчестве Красулина тесно связана со скульптурой и нередко продолжает тематику его трехмерных произведений. В своих живописных работах Красулин демонстрирует разные аспекты неизменных форм коробок, изображает их во всевозможных ракурсах. Но здесь уже большое значение в разработке темы приобретает цвет, который играет роль формообразующего начала. Красулин стремится показать в живописи не только сам предмет, но и жизнь этого предмета в пространстве. Подробно отображая структуру коробки, отсекая лишнее, Красулин приводит ее к значению образа-символа.
Того же пристального внимания художника был удостоен другой простой бытовой предмет — табуретка. Она стала

Возвращаясь к теме метаморфоз материала в творчестве Красулина, обратимся к его произведению под названием «Герой» 1974 года. Эта композиция, сложенная из грубо обтесанных кусков дерева и дощечек, превращена в подобие скульптурного бюста без лица, хотя, конечно, сходство с человеком здесь лишь условно. Художественный язык схематически выполненных торса, плеч и головы близок искусству архаики. Опять же, это некая простая конструкция из несущих и несомых элементов. Красулин акцентирует выразительные качества того материала, который использует. Форма скульптуры сохранила следы прикосновения инструментов к поверхности дерева — с первого взгляда на работу зритель считывает, что по своей сути это деревянная скульптура с характерной формой слегка обработанных деревянных бревен и маленьких, прибитых к голове бюста деревянных дощечек. Но на самом деле это произведение отлито в бронзе, и, только присмотревшись внимательнее или прочитав надпись на этикетке, мы вдруг обнаруживаем эту удивительную метаморфозу. Художник ломает в этой работе наше представление о том, как должно выглядеть произведение из бронзы.
Еще один пример неординарного подхода Андрея Красулина к материалу — это его серия работ под названием «Каллиграфия». В рельефах серии есть прием, который роднит творчество Красулина с работами его старшего современника — итальянского художника Лучо Фонтаны Лучо Фонтана (1899–1968) — итальянский скульптор и живописец.. Всю жизнь этот итальянский художник писал картины, и только под конец жизни ему пришла в голову идея сначала проткнуть, а потом и разрезать свой холст. Если бы не этот простой жест, он никогда бы не оставил такой след в искусстве, был бы художником второго или третьего ряда. Но разрез холста сделал его одним из главных итальянских мастеров послевоенного времени. И если Лучо Фонтана прославился разрывами и разрезами на холстах, то в работах Красулина прорези и разрывы появляются в листах металла. И здесь мы снова сталкиваемся с темой парадоксов материала в творчестве художника. Жесткий лист металла в работах Красулина режется, как бумага, как холст, натянутый на подрамник. Причем художник признавался, что мотив разрывов появился в его работах задолго до того, как он познакомился с творчеством Лучо Фонтаны.
Особое место в творчестве Красулина, занимают работы из цикла «Доски», созданные в середине 1990-х годов. Три произведения цикла — «Плуг неба», «Пол», «Domus» — сейчас находятся в собрании Третьяковской галереи. Появились они в переломный момент творчества Красулина, когда художник окончательно для себя решил, что он больше не хочет заниматься скульптурой в традиционном ее понимании. Эти перемены были связаны с его отказом от ремесленного, трудоемкого подхода к созданию произведений, с отходом от привычного понятия красоты. В тот самый момент художник переезжал из старой мастерской в новую. Перевозя вещи, художник выломал пол и забрал с собой для хозяйственных нужд доски, по которым ходил тридцать лет. А уже на новом месте он присмотрелся к этим доскам, и они заворожили его контрастом между нетронутой внутренней стороной и стороной верхней, сохранившей на себе царапины, загрязнения и прочие следы того, что происходило в мастерской художника.



Те самые доски и стали материалом для произведений из одноименного цикла. Красулин создал из них вертикальные конструкции, превращенные в лаконичные архитектурные образы-символы, некие художественные метафоры. Одна из работ цикла — композиция «Пол», опять же характерное для Красулина произведение-парадокс. Во многом «Пол» художника прямо противоположен тому, как зритель обычно представляет себе пол. Деревянные планки из горизонтального положения Красулин приводит в вертикаль, привычно прямую плоскость наделяет зигзагообразными изломами и в довершение образа вводит в композицию цвет. Геометрические формы зеленого, белого, желтого и других цветов уменьшают резкий контраст между верхней исхоженной поверхностью и свежим деревом с оборотной стороны досок. В качестве крепления Красулин использовал металлические болты и стальные тросы, которые при касании издают звук, подобный звукам ненастроенного инструмента. И это еще один пример того, как художник переворачивает привычное нам с ног на голову. Если обычный пол издает звук скрипа половиц, то «Пол» у Красулина — это причудливый струнный инструмент.
Андрей Красулин использует не только большие половые доски, но и маленькие деревянные реечки, такие, из которых сколачиваются ящики для фруктов. Опять же, это не дерево, из которого обычно создаются скульптуры, а материал, который после использования идет на выброс. Из этих деревянных реечек Красулин мастерит подобия картин, в которые он активно вводит цвет, скомканную бумагу и другие элементы. Доски стали для него неким художественным модулем, отправной точкой для дальнейших, часто спонтанных экспериментов. И в конечном итоге доски в его работах преобразуются до такой степени, что все бытовые ассоциации с используемым материалом стираются, а рождаются ассоциации уже совершенно другого рода.
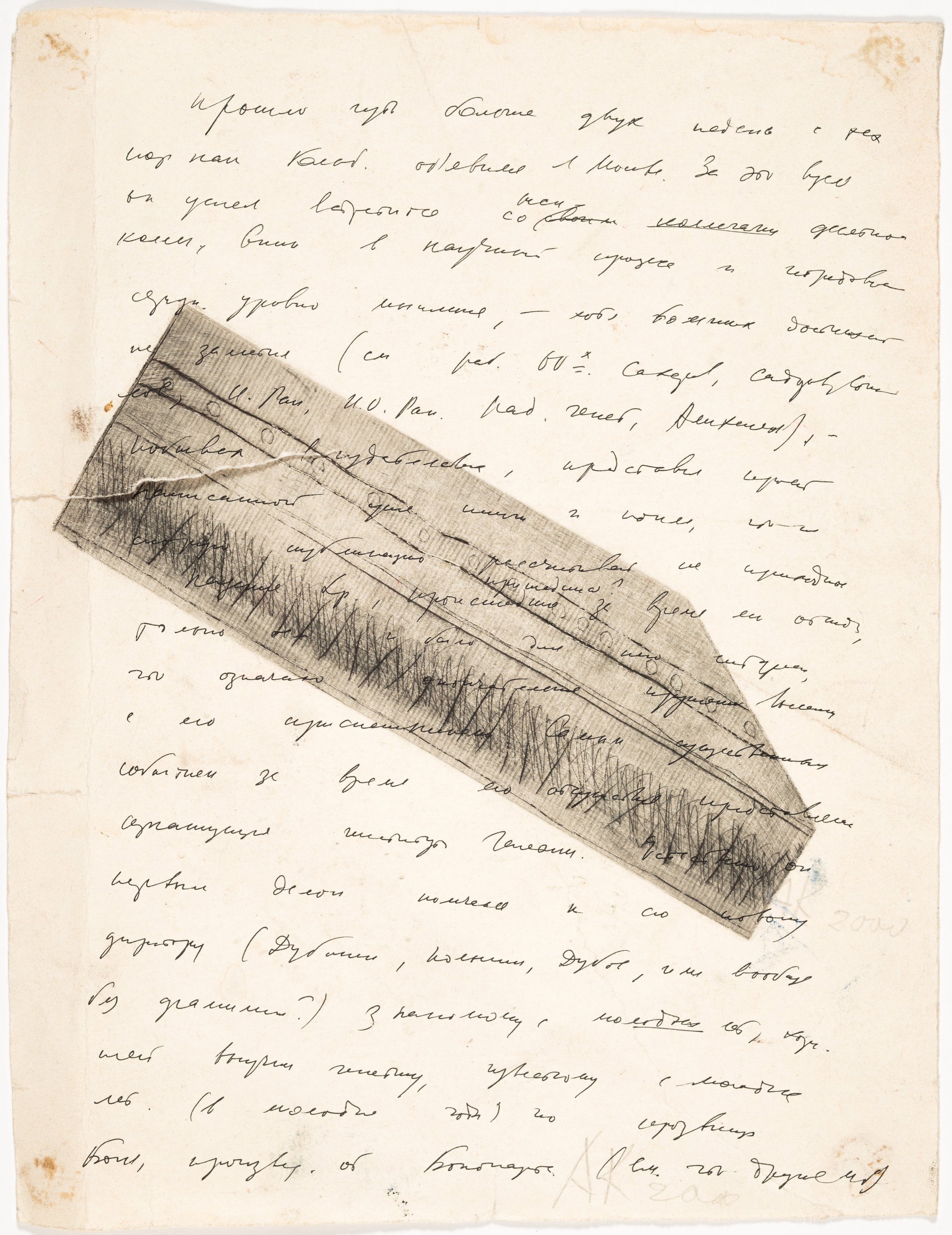

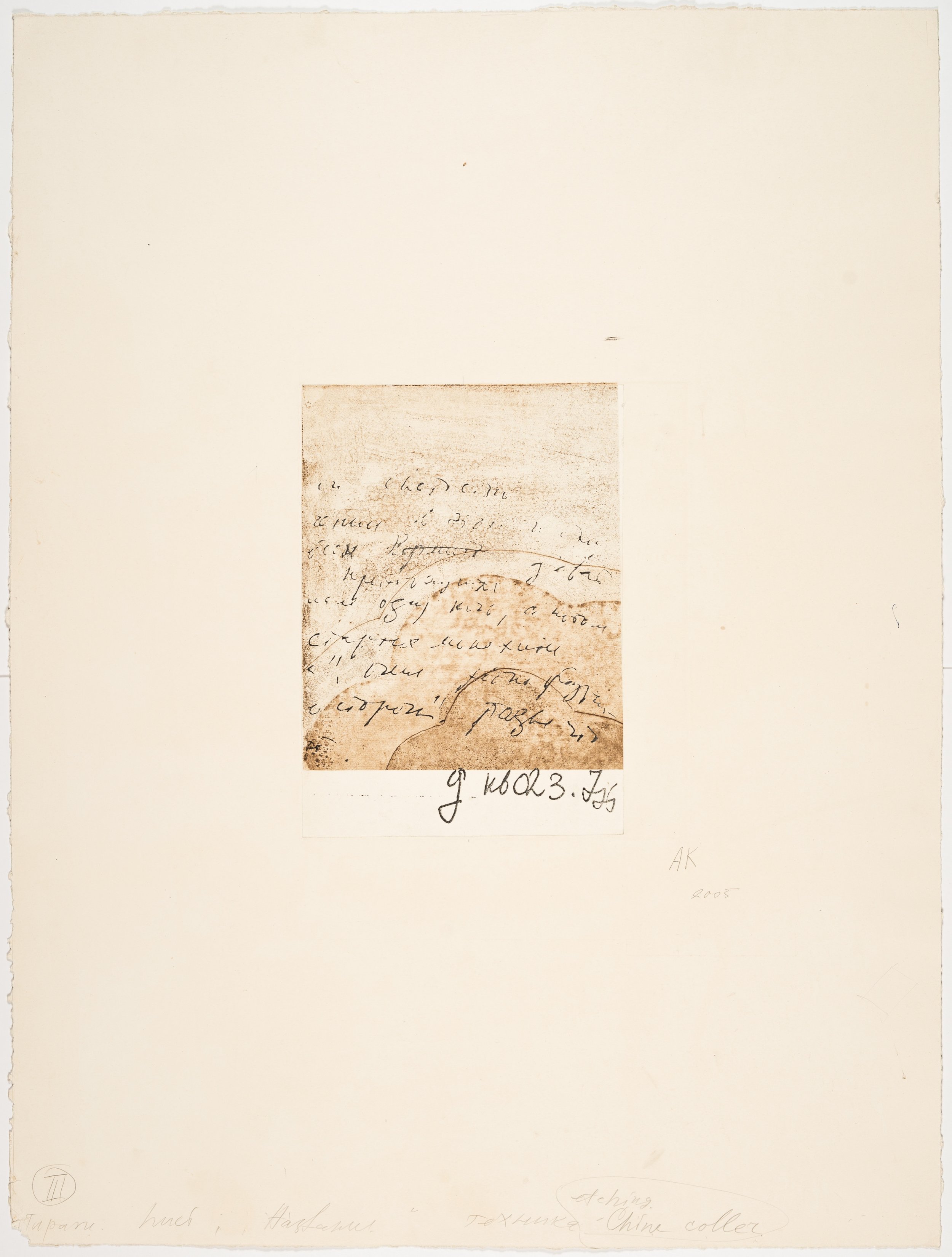
Еще один пример — это серия офортов, выполненных на черновых рукописях романа его жены, писательницы Людмилы Улицкой*. Серия под названием «Офорты на рукописях Людмилы Улицкой*» далека от понятия иллюстрации. В графике художника строки литературного произведения получают не изобразительное дополнение, а собственную образно-художественную самоценность. Работая с исписанной литературными строками бумагой, Красулин объединяет излюбленные мотивы своего творчества с текстом, выделяя и увеличивая его фрагменты, пока он полностью не утрачивает первоначальный смысл, превращаясь в эффектные линии и пятна.
В процессе создания упомянутых мной произведений Красулина, как, в
Для творчества художника важен не только результат, но и сам процесс — наблюдая за ним, ощущаешь его естественность и легкость. Самый обыкновенный предмет, внезапно попавший ему на глаза, может вдруг переродиться под его руками в самодостаточное художественное высказывание. Красулина особенно занимает процесс организации пространства вокруг себя, когда он извлекает красоту из хаоса, подчиняет его своей творческой воле. Именно поэтому для эстетики Красулина так важно понятие мастерской. Например, одна из самых больших его выставок 1998 года называлась «Старая мастерская. Новая мастерская».

Сам художник относится к своей мастерской как к одушевленному пространству. Приведу его цитату: «Мастерская — женского рода. Это место рождения. Она не терпит невнимания, она ревнива к приходящим. Она всегда готова сотрудничать. В ней есть всё. Она и есть главное, или единственное, или лучшее произведение». В своей мастерской Красулин живет, ищет и находит вдохновение, размышляет, творит. Атмосфера его мастерской запоминается на всю жизнь каждому, кому довелось в ней побывать. Это пространство, где каждая деталь рассказывает о процессе творческих поисков и обретений. Станки и инструменты, холсты, деревянные заготовки, листы бумаги, свернутые в рулоны, и скульптурные объекты — все это существует в гармонии, все это взаимодействует друг с другом и рождает впечатление декорации для таинства творчества, происходящего в этом пространстве.
В этом, собственно, и заключается сила творчества Красулина: его прикосновение вселяет художественное начало даже в самое заурядное. Впрочем, это только на первый взгляд простое прикосновение — на самом деле, конечно, за ним стоят годы труда и творческих поисков. Философия мастера утверждает значительность незначительного, которую он акцентирует при помощи легкого творческого вмешательства — введения цвета, парадоксальной трансформации почти невесомых материалов в тяжелую бронзовую отливку. При этом важно понимать, что смысл этих предметов в творчестве Красулина не в том, чтобы поместить предмет в выставочное пространство и наделить его художественной концепцией. В его произведениях, как правило, не стоит искать завуалированные смыслы. Коробки, табуретки и прочие предметы у Красулина во всех отношениях самодостаточны. Они заключают в себе ту законченную совершенность нашей повседневной действительности, которую художник сумел увидеть и попытался донести до зрителя.
*Признана иностранным агентом.
Человек эпохи Возрождения — это не обязательно человек, живший в XV–XVI веках. Он может жить в любое время — даже в ХХ веке. Именно таким человеком был Дмитрий Дмитриевич Жилинский. Гуманизм эпохи Возрождения пробудил интерес человека к самому себе, желание понять смысл и цель своей жизни. Идеал человека видели в творце, для которого характерно осознание красоты окружающего мира, желание познать себя и природу, стремление к творческой деятельности. Через искусство определялось место человека в мире. И вот такого художника с интересом к человеку, к его личной жизни, жизни в природе, красоте этого мира зритель встречает в Советской стране в конце 1950-х годов. А ведь именно в это время в художественной жизни СССР наравне с соцреализмом возникает так называемый «суровый стиль». На смену таким картинам, как «Торжественное заседание», «Колхозное изобилие», пришли «Наши будни», «Ремонтники», «Строители Братской ГЭС». Главной темой этого направления реалистической живописи был труд, настоящая жизнь рабочих, крестьян, трудящихся обязательно в суровых условиях — допустим, на Крайнем Севере, на Сахалине, в жаркой пустыне.
На этом фоне Дмитрий Жилинский буквально ошеломил как зрителей, так и искусствоведов. В середине
Здесь Жилинский впервые обратился к темперной живописи. Эта техника использовалась художниками эпохи Возрождения и в древнерусском искусстве. Почти 10 лет, начиная с конца
При этом поверхность произведения остается плоской, а изображение приобретает более объемный, почти трехмерный эффект.
Жилинский с этого времени сам выпиливал себе основу для будущих произведений. Он выбирал древесно-стружечную плиту, иначе ДСП, или оргалит, сам окантовывал произведения, замешивал грунт (такой грунт называется левкасом). Затем последовательно наносил красочный слой и лак — и так несколько раз. Работал тончайшей кисточкой — всего три-четыре волосинки.

И, впервые обратившись к темперной живописи в произведении «У моря. Семья», хранящейся в Третьяковской галерее, Жилинский на обороте доски напишет очень подробно, какую технику и материал использовал. Тем самым Жилинский хотел сказать, что профессия художника — это не только творческий труд, требующий хорошей фантазии, вдохновения, но и кропотливая, качественная техническая работа, для которой необходимы знания и виртуозное владение живописными материалами. Этика труда, понимание его нравственного смысла присущи Жилинскому в той высокой степени, что и понимание искусства, красоты, художественной гармонии.
Картину «У моря. Семья» всегда можно увидеть в экспозиции Третьяковской галереи на Крымском Валу. Это произведение было написано вскоре после поездки Дмитрия Жилинского в Италию, откуда художник вернулся пораженный красотой живописи великих мастеров эпохи Возрождения. Тема бытового жанра становится только приемом для создания картины, которая наполнена различными символами. Это картина-фантазия на тему семейной идиллии, мечта человека о счастье, материнстве, безмятежности детства. Главная идея раскрывается через гармоничные образы жены, дочери, сына и самого автора. Центральное место в картине занимает образ матери в ярко-красном купальнике, изображенной со спины. Ее жест над головой сына (символ защиты) отсылает нас к великим полотнам эпохи Возрождения. Тут можно вспомнить жесты Платона и Аристотеля с фрески Рафаэля «Афинская школа» или известнейший фрагмент из фрески Микеланджело «Сотворение Адама». Изображенный на втором плане отец семейства передан как античный мужественный герой, смотрящий на зрителя. Он кормилец семьи, ее опора и стержень. Он держит рыбу на копье, что также может считываться как древний символ христианства, сакрального объединения людей. И это — в эпоху соцреализма.

Другая прославленная картина Жилинского, «Гимнасты», сейчас находится в Русском музее. Про эту картину, с которой печатали открытки и марки и за которую художник получил медаль Академии художеств СССР, сам автор говорил так:
«Я очень полюбил раннее итальянское искусство, Тициана. Они делали удивительные вещи, независимо от света. Зашел я в тренировочный зал, свет там с разных сторон, а они в белом, ковер красный. И я дома сделал эскиз… И уже на основе моей любви к чистому цвету, по рисункам, сделанным с каждого, я скомпоновал. Это мое представление: передать суть, а не видимость. Не то, как это кажется глазу» А. Козырев. Дмитрий Жилинский: «Я удивляюсь красоте людей» // Сократ. № 3. 2011..
Картина «Гимнасты СССР» Дмитрия Жилинского — это прежде всего картина-портрет, которая отражает настройку воли и чувства каждого спортсмена. Это видно в их лицах, ощутимо в выразительности жестов. Ясность и четкость композиции, острота ракурсов, чистота цвета психологичны. Сам Жилинский ссылается на Тициана, но мне кажется, что эти четкие силуэты и чистота цвета — это еще и дань его учебе на монументальном факультете Московского института прикладного и декоративного искусства и у Владимира Фаворского. История того, как Жилинский стал художником и какую школу он прошел, весьма интересна.
В биографии художника, как и в его искусстве, отразились сразу несколько исторических эпох. Отец Дмитрия Жилинского был из старинного польского рода. Прадед и прабабушка Жилинского были арестованы как участники борьбы за независимость Польши, а их детей воспитала друг семьи, педагог Мария Быкова. В коммуне, которую Быкова основала в своем имении, встретились дед и бабушка Жилинского — сводная сестра художника Валентина Серова. Это родство с Серовым еще сыграет свою роль в судьбе Жилинского. Да и профессиональная судьба будущего художника решилась благодаря его бабушке. Она отправила рисунки внука двоюродной сестре Серова — Нине Симонович-Ефимовой, жене художника Ивана Семеновича Ефимова. В ответ они написали, что Дмитрий должен заниматься искусством, у него есть талант и он никогда себя не простит, если не станет художником. Жилинский последовал совету и в 1944 году поступил в Московский институт прикладного и декоративного искусства. Он начал свое художественное образование как мастер витража. Витражное искусство — четкое, яркое — поразило воображение молодого художника. Эти средневековые художественные традиции остались в его творчестве в качестве стилистического приема — например, в тех же «Гимнастах СССР».

После разгрома Московского института прикладного и декоративного искусства, когда многих преподавателей этого вуза обвинили в формализме и власти решили ликвидировать этот институт, часть оставшихся преподавателей ушли в Строгановское училище, а некоторые вместе со своими студентами уехали в Ленинград, в училище Штиглица. Жилинский же продолжил учебу на живописном факультете Московского художественного института имени Сурикова в мастерской Николая Чернышева, очень увлеченного древнерусским искусством, который сумел передать эту любовь Дмитрию. Другими учителями Жилинского были выдающиеся мастера, среди которых Павел Корин, Семен Чуйков, Алексей Грицай.
Показанные в середине

Портреты Жилинского всегда достоверны и близки к натуре. Поэтому перед ним, как и перед любым другим хорошим портретистом, встала необходимость писать портреты высших членов партии. Но художник вышел из положения благодаря уроку своего учителя — Павла Дмитриевича Корина.



У Жилинского получалось воплощать свое художественное видение и при этом не только не ссориться с партией, но даже отвечать на ее идеологические запросы. Так произошло с триптихом «На новых землях», который находится в коллекции Третьяковской галереи. Жилинский побывал в командировке на целинных землях. Но целинных вещей как таковых в его творчестве нет. Жилинский говорил, что триптих — это не фактическое отражение поездки на целину, а ее отголосок Е. Я. Смирнова. Триптих Д. Д. Жилинского «На новых землях». Картина и рама // Рама как объект искусства. Материалы научной конференции. М., 2015..
Вместо целинников Жилинский пишет своих знакомых. Эти реальные люди, они не покорители целины в прямом смысле этого слова. Натурная среда, образы загорелых рабочих, которые мы привыкли связывать с целинными картинами таких художников, как Дмитрий Константинович Мочальский или Виктор Ефимович Попков, отсутствуют. Жилинскому важно изобразить подъем духовной целины. Это произведение можно интерпретировать как идеализацию жизни в рамках концепции прекрасного будущего. «На новых землях» — это попытка художника уйти от общепринятых в тот период принципов «сурового стиля», это радикально новый подход к соцреализму. Условная целина Жилинского соотносится с новой идеей преображения земли культурной средой.
Триптих «На новых землях» 1967 года написан темперой по левкасу на изоплите. Это три произведения, но рама у них общая:
«Все картины триптиха „На новых землях“ смонтированы в единую раму-конструкцию, которую Жилинский, по его выражению, „выпилил и выстругал“ своими руками. <…>
Эта уникальная рама поражает воображение. Возникают аналогии со средневековым складнем и готическим витражом, ассоциирующим произведение с образом совершенного мира» Е. Я. Смирнова. Триптих Д. Д. Жилинского «На новых землях». Картина и рама // Рама как объект искусства. Материалы научной конференции. М., 2015..

Рама декорирована гипсовыми скульптурами. Композиция была выполнена женой Жилинского, Ниной Ивановной Жилинской. Она придала скульптурам черты реальных людей. Вверху мы видим Владимира Андреевича Фаворского с кустом роз. Художник и педагог сильно повлиял на Жилинского. Именно от него Жилинскому досталась любовь к древнерусскому искусству и внимание к построению пространства. Ниже расположена скульптура Анастасии Федоровны, матери художника, с младшим внуком Василием. Себя Нина Жилинская изобразила сверху слева — с книгой, а самого Жилинского — внизу. Благодаря скульптурам роль рамы в триптихе многократно увеличилась. Но при этом рама не существует отдельно от картины — она встречает зрителя и провожает его в ее мир. Такие рамы с изобразительными или скульптурными элементами Жилинский будет делать и в дальнейшем — для особенно важных работ его творчества.
Это наиболее ярко обыграно в картине «Под старой яблоней», посвященной трагической истории семьи художника. В качестве основы Жилинский использовал доску, подготовив ее так, как готовят доску для иконы. В ковчеге — углубленном среднем поле на лицевой стороне доски — изобразил свою мать и детей, а на полях поместил фигуры отца, расстрелянного в 1937 году, и брата, погибшего на фронте. Сопоставление плодоносящего дерева и женщины в окружении внуков становится метафорой несокрушимой жизненной силы. Также она, потерявшая мужа и сына, становится олицетворением памяти. Например, рама триптиха «1937 год», который был написан в 1987 году и находится сейчас в Третьяковской галерее, связана с темой произведения и усиливает впечатление от самой картины. На ее верхней планке написано: «Посвящаю без вины погибшим в годы репрессий и беззакония». А внизу в раму вмонтирована копия справки о посмертной реабилитации отца Жилинского.

Жилинский высоко оценен как художник не только в России. Например, его работами интересовались немецкие меценаты — Петер Людвиг и его жена. Для них «знакомство с творчеством Жилинского послужило отправной точкой интереса к современному искусству России» А. Дьяконицына. Persona classica. Дмитрий Жилинский // Дмитрий Жилинский. М., 2007.. Часть своей коллекции Людвиг в 1995 году передал в дар Русскому музею. Таким образом был основан музей в музее — Музей Людвига в Русском музее.
Дмитрий Жилинский провел несколько лет в Дании, где ему заказали серию парадных портретов королевской семьи и их приближенных. Цикл портретов был приурочен к празднованию 500-летия российско-датских отношений. Хотелось бы остановиться на одном из них — портрете королевы Маргрете II. Королева позировала Жилинскому около десяти раз — для ее рабочего графика это большая нагрузка. Но иначе быть не могло — верный принципам своего великого двоюродного деда Валентина Серова и учителя Павла Корина, Жилинский не писал портретов по фотографиям. Над созданием огромного полотна — два с половиной на полтора метра — Жилинский трудился около полутора месяцев. Фоном к фигуре королевы должна была послужить стена, убранная старинными гобеленами. Но потом возник более содержательный вариант — вместо гобеленов поместить на стену портреты сиятельных предков Маргрете II: ее отца, короля Фредерика IX, и ее родственника, российского императора Александра III, который был женат на прабабушке королевы — принцессе Дагмар, мы ее знаем как русскую императрицу Марию Федоровну. Директор музея в замке Розенборг рассказал Жилинскому, что в одной из гвардейских казарм под Копенгагеном хранится портрет российского императора Александра III кисти Валентина Серова. Этот портрет Александра III вряд ли бы увидела публика и историки искусства, если бы через сто с лишним лет внучатый племянник Валентина Серова Дмитрий Жилинский не отправился бы в Копенгаген писать портрет датской королевы. Мастера так поразила связь времен, что он решил непременно использовать образ российского императора в портрете королевы. Именно благодаря открытию Дмитрия Жилинского русские зрители смогли увидеть портрет кисти Серова на его персональной выставке в Третьяковской галерее в 2015 году.

Дмитрия Жилинского по праву можно назвать одной из центральных фигур в советском искусстве. Творчество Жилинского несет в себе черты яркой художнической индивидуальности, интеллектуализма в лучшем смысле этого слова, серьезного и углубленного самоанализа, наконец, потребности в постоянном активном общении со зрителем. По содержанию и по художественному языку его творчество не укладывается в рамки
Драничкина О. С., Коткина С. С., Назаретян М. А., Смирнова Е. Я., Яркова Е. С. Дмитрий Жилинский. Ближний круг. Каталог выставки. М., 2017.
Дьяконицына А. Л. Persona classica. Дмитрий Жилинский. Дмитрий Жилинский. М., 2007.
Дьяконицына А. Л. Дмитрий Жилинский. М., 2017.
Дьяконицына А. Л. Дмитрий Жилинский. Ближний круг. Третьяковская галерея. № 2. М., 2017.
Дьяконицына А. Л. Дмитрий Жилинский. Новые открытия. Русское искусство. СПб., 2019.
Коткина С. С. Манифест авторского стиля. Панорама искусств. № 4. М., 2019.
Смирнова Е. Я. Триптих Д. Д. Жилинского «На новых землях». Картина и рама. Рама как объект искусства. Материалы научной конференции. М., 2015.
Коткина С. С. Интервью с Дмитрием Жилинским. Февраль 2002 года, октябрь 2005 года, октябрь 2009 года, ноябрь 2012 года, апрель 2015 года.
Коткина С. С. Интервью с Марией Фаворской-Шаховской. Июнь 2016 года.
Коткина С. С. Интервью с Григорием Дервизом. Июнь 2016 года.
Коткина С. С. Интервью с Еленой Ефимовой. Июнь 2016 года.
Коткина С. С. Интервью с Иваном Голицыным. Июнь 2016 года.
Коткина С. С. Интервью с Натальей Нестеровой. Июнь 2016 года.
Коткина С. С. Интервью с Татьяной Назаренко. Ноябрь 2016 года.
Коткина С. С. Интервью с Ириной Старженецкой. Июнь 2016 года.
Коткина С. С. Интервью с Алексеем Обуховым. Июнь 2016 года.
Коткина С. С. Интервью с Таиром Салаховым. Октябрь 2016 года.
Коткина С. С. Интервью с Зурабом Церетели. Сентябрь 2016 года.
Коткина С. С. Интервью с Андреем Золотовым. Июнь 2016 года.
Коткина С. С. Интервью с Алексеем Ананьевым. Январь 2017 года.
Оскара Рабина по праву называют лидером, а сейчас уже и классиком нонконформизма. Но даже в среде неофициального искусства у этого художника свое, особое место. И дело не только в его творчестве, но во многом и в личной позиции, его уникальной художественной судьбе, которая напрямую связана с противостоянием неофициального искусства и власти.
Наиболее радикальным для 1960-х годов, а Оскар Рабин принадлежит именно к поколению шестидесятников, было абстрактное искусство. Однако Рабин, хотя и находился в оппозиции и даже, можно сказать, ее возглавил, все же в живописи остался в сфере фигуративизма. И тем не менее творчество Рабина совершенно противоположно так называемому единому творческому методу, который сложился в официальном искусстве. Метод подразумевал единство содержания и формы, которые должны служить делу прославления существующего строя во всех его проявлениях. Это касалось прежде всего темы, но также художественного стиля и жанров.
Так сложилось, что советское официальное искусство генетически было связано с двумя художественными школами дореволюционного периода. Первая была родственна направлению, которое возникло в середине XIX века и которое вслед за французским художником Густавом Курбе принято называть реализмом. В русской живописи второй половины XIX века это направление было представлено двумя крупными художественными объединениями — передвижниками и Союзом русских художников. Вторая дореволюционная художественная школа была связана с другим направлением, антиподом реализма — академизмом. Если реализм отличает стремление к объективному отображению действительности и социальная проблематика, то академизму были присущи идеализация натуры, тщательная проработка деталей, ориентир на античное искусство.
Эти два художественных направления после создания в 1931 году Союза художников СССР стали основополагающими для главного стиля Страны Советов, который был назван советским реализмом. В довоенный период сложилась система критериев оценки работ художников и закрепились определенные каноны, условно говоря, «правильной» советской живописи, которая соответствовала идеологическим установкам строителей коммунизма. Большое значение отводилось не только художественным особенностям картины, но ее социальной значимости, которая должна была отвечать классовым интересам победившего пролетариата.
Социальный заказ государства на произведения художников подкреплялся отлаженной системой управления через ряд учреждений, главными из которых были Министерство культуры, Академия художеств и Союз художников. Основным жанром официального искусства стала тематическая картина, которая представляла советского человека, успешно строящего коммунизм. Большеформатные произведения этого жанра восходили к историческим полотнам XIX века.
Свободного художественного рынка в СССР не было, поэтому выполнение работ, отвечающих идеологии, было непременным условием не только присутствия в художественной среде, но и просто выживания.
Творчество мастеров, которые получили профессиональное образование в рамках сложившейся системы и состояли в Союзе художников СССР или в его дочерних республиканских и городских структурах, получило название «официальное искусство». Но и в официальной художественной сфере происходили изменения. Они были связаны со сменой поколений, новым видением реальности и новыми художественными методами, необходимыми, чтобы выражать дух времени. Поэтому официальный стиль — это не
Это отступление от нашей темы неслучайно, потому что без него невозможно понять ни особенности творчества Оскара Рабина, ни его самого.
До перестройки работ Оскара Рабина в Третьяковской галерее не было. Первая работа появилась в 1994 году и была подарена автором. Позднее, благодаря участию художника Владимира Немухина при поддержке правительства Москвы и Министерства культуры, в галерее появились еще три картины. Каждое из этих произведений можно отнести к определенному композиционному типу, который сформировался в творчестве Рабина и сознательно или интуитивно противопоставлен официальным жанрам.

Герои произведений Рабина — лампы, бараки, рыбы, марки, этикетки, монеты, паспорта, то есть вещи, окружающие людей, — преподносятся художником как самоценные предметы, едва укладывающиеся в рамки
Картина «Луна и череп» (1973) продолжает вечную тему Vanitas, тему смерти, превратности и тщетности бытия, которая возникает уже в ранних произведениях Рабина и остается почти неизменной в его творчестве. Разумеется, тема смерти в официальной советской живописи была под запретом, так как от содержания тематических картин требовался жизнеутверждающий пафос.

Стремление превратить картину в знак и, наоборот, сделать художественным произведением определенный набор материальных условностей человеческого существования, таких как почтовые открытки, дорожные знаки и документы, привело Рабина к созданию работ в стиле поп-арт, как, например, работа, которая тоже находится в Третьяковской галерее, «Один рубль» (1967). Большую ее часть занимает монета, которая как будто катится по этой картине. Особая техника, которую использует художник, смешивая масляные краски с песком, придает изображениям почти осязаемую объемность.

Оскар Рабин принадлежит к поколению, отрочество и юность которого пришлись на военные годы. Его современники — художники, которые сформировались под влиянием разнообразных и разновекторных течений, сложившихся в послевоенное время и олицетворявших бурные годы хрущевской оттепели.
За рубежом художественную жизнь второй половины XX века принято называть искусством после Второй мировой войны, что, пожалуй, наиболее точно отражает суть мировосприятия людей, творчество которых складывалось в 50–60-е годы XX века.
О трагических событиях военных лет, сиротстве, скитаниях, нищенском существовании в послевоенные годы, голоде, отчаянии и попытках самоубийства Рабин рассказывает в книге «Три жизни», которая была издана в Париже в 1981 году O. Rabine. L'artiste et les bulldozers. Être peintre en U.S.S.R. Paris, Editions Robert Laffont, 1981. Русское издание вышло в Нью-Йорке в 1986 году.. Интонация этих воспоминаний схожа с его живописью. Автор не принуждает читателя сопереживать, он будто наблюдает за тем, что с ним происходило, со стороны и просто перечисляет, называет происшедшее. Такой взгляд заставляет читателя еще отчетливей увидеть весь ужас и абсурд пережитого. Эта особая отстраненность от реальности в изображении самых обычных предметов и событий станет одной из составляющих образного языка, созданного художником.
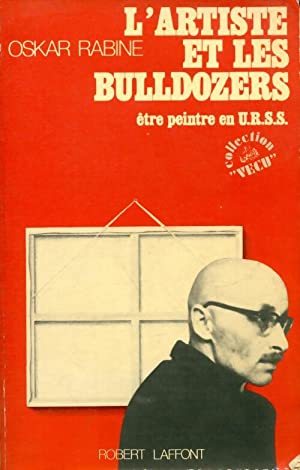
Вот несколько цитат из книги воспоминаний, где автор рассказывает о своем детстве. «Мои отец и мать, — пишет Рабин, — по образованию врачи, познакомились в Цюрихском университете, где оба учились. Отец — Яков Рахмаилович Рабин, родившийся на Украине еврей, которого я почти не помню (он умер, когда мне исполнилось шесть лет), мать — Вероника Леонтиновна Андерман — латышка. Она умерла, когда мне исполнилось тринадцать лет» О. Рабин. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж — Нью-Йорк, 1986..
В начале 1930-х годов вместе с матерью, назначенной главврачом культбазы, Рабин оказался на Крайнем Севере СССР, в Ханты-Мансийском национальном округе. Об этом есть несколько строк в воспоминаниях: «Ханты и манси приезжали за мукой, солью, патронами, а культбригады разъезжали по стойбищам… Мать постоянно участвовала в этих поездках. И не столько в качестве врача… сколько как агитатор. Язык ханты и манси она выучила очень быстро» О. Рабин. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж — Нью-Йорк, 1986.. В это же время в Москве от рака желудка скончался отец Рабина, так и не успевший выехать вслед за женой и сыном. Они вернулись в столицу, до начала войны оставалось несколько лет. Маленький Оскар посещает музыкальную школу и школьный кружок рисования. В книге «Три жизни» он вспоминает: «Я стал рисовать каждую свободную минуту… почти на всех уроках, рисовал дома, пока мама не загоняла меня спать. Карманные деньги, уходившие прежде на конфеты и мороженое, тратились теперь на краски и кисточки» О. Рабин. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж — Нью-Йорк, 1986..
В июне 1941 года началась война. Здоровье матери, подорванное на Крайнем Севере, ухудшилось, и холодной зимой 1942 года мать умерла. «Оставшись дома один в ледяной, черной от копоти комнате, я плакал долго и не мог остановиться… Пока жива была мать, я постоянно чувствовал ее внимание и скрытую ласку. После ее смерти до меня никому не было дела… Целый день я лежал в промороженной комнате и думал только о том, чтобы поскорее наступило утро, когда пойду в магазин и отоварю свои четыреста граммов черного хлеба» О. Рабин. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж — Нью-Йорк, 1986.. Осенью 1942 года Оскар Рабин знакомится с Евгением Леонидовичем Кропивницким и начинает посещать занятия под его руководством в художественной студии Дома пионеров.
После трагических военных и первых послевоенных лет, полных скитаний, голода, переездов без паспорта из Москвы в Ригу и обратно, попыток самоубийства, учебы в Рижской академии художеств и Суриковом институте (ни одно из этих учебных заведений не было закончено), Рабин снова оказывается в кругу Евгения Кропивницкого и в 1950 году женится на его дочери Валентине.

Как художник Оскар Рабин формировался в кругу творческого содружества «Лианозовская школа», или «Лианозовская группа», хотя такой «школы» с точки зрения определенной живописной традиции не существовало. Представление о «Лианозовской школе» как о творческом союзе единомышленников верно в большей степени лишь в отношении дружеских и родственных отношений, общности мироощущений, связывающих молодых художников и поэтов, которых объединил их старший наставник, учитель живописи и поэзии — Евгений Леонидович Кропивницкий. Влияние этого человека, который, как казалось, был внутренне защищен своим искусством от неустроенности и тягот послевоенного существования, было, пожалуй, определяющим для атмосферы, царившей в семье Кропивницких, ставшей центром творческих встреч молодых поэтов и художников.
Этот круг складывался постепенно. Первая встреча Оскара Рабина и Евгения Кропивницкого, как я уже говорила, произошла во время войны, когда Рабин, еще подросток, не уехавший в эвакуацию из-за болезни матери и вскоре осиротевший, решил записаться в художественную студию. Вот как он об этом вспоминает: «…В
Рабин вспоминал: «Евгений Леонидович был прирожденным учителем. В условиях советской власти он учил свободе от всяческих схем и догм. В его доме не чувствовалось гнета времени, дышалось легко и свободно» О. Рабин. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж — Нью-Йорк, 1986..
Евгений Кропивницкий родился в 1893 году, художественное образование Кропивницкий получил еще до революции в Строгановском училище. Среди его друзей и близких знакомых были поэт и переводчик Арсений Альвинг (1885–1942), активно пропагандировавший поэзию Иннокентия Анненского, художники Павел Кузнецов (1878–1968), Роберт Фальк (1886–1958), Александр Тышлер (1898–1980), то есть художники, учившиеся или преподававшие во Вхутемасе, так или иначе прежде близкие кругу символистов. Однако позже Кропивницкий отказался от увлечений своей молодости и уничтожил большинство произведений, созданных до 1930-х годов.
Кропивницкий называл себя «поэтом окраин и мещанских домиков», сюжеты его картин и стихов во многом предвосхитили сюжеты стихов поэтов-лианозовцев. Вот несколько его строчек, словно списанных с картин Рабина, или наоборот:
Засолили жирную селедку —
Это разумеет всяк, кто пьян.
Хорошо, что выдумали водку…
Господи, нелеп сей балаган!Если бред все, если жизнь вся тайна,
Если смерть подстерегает нас;
Если мы до глупости случайны —
Кроме водки, что еще у нас?
Отчасти заимствовав тематику у Евгения Кропивницкого, его ученики-поэты Генрих Сапгир (1928–1999), Игорь Холин (1920–1999), Всеволод Некрасов отказались от лирической иронии, присущей поэзии их учителя. Вот, например, стихотворение Игоря Холина, в котором тоже можно узнать сюжет картин Оскара Рабина.
Дамба. Клумба. Облезлая липа.
Дом барачного типа.Коридор. Восемнадцать квартир.
На стенке лозунг: МИРУ — МИР!Во дворе Иванов
морит клопов, —
он — бухгалтер Гознака.У Макаровых пьянка.
У Барановых драка.
А вот четверостишие об Оскаре Рабине:
Лицо — икона. Сутул.
Упрям, как мул.
Ум — бритва.
Разговор с ним — битва.
Что касается художников Лианозовской группы, то, как и в случае с поэтами, это был дружеский и семейный круг. Собирались сначала у Кропивницкого и его жены художницы Ольги Ананьевны Потаповой, а затем у Оскара Рабина, переселившегося вместе с Валентиной Кропивницкой в бывший лагерный барак, располагавшийся неподалеку от железнодорожной станции Лианозово. Здесь часто бывали Николай Вечтомов (1923–2007), Лидия Мастеркова (1929–2008), Владимир Немухин (р. 1925), Лев Кропивницкий, сын Евгения Леонидовича, который пришел с войны в 1945-м, через год попал в лагерь и вышел только в 1956-м.
По словам Владимира Немухина, все эти художники, не будь они друзьями, были бы противниками в искусстве: «Нас объединяет только несвобода, в ином случае мы были бы врагами, настолько у нас разное понимание искусства и мировосприятие» Б. Веснина. Лианозовская школа // www.krugosvet.ru.. Вместе с тем большинство художников лианозовского круга были увлечены беспредметной абстрактной живописью, хотя и шли к ней разными путями: Ольга Потапова обратилась к абстрактному искусству как сфере чистого художества, Лев Кропивницкий создал свой стиль «драматического абстракционизма». По словам Льва Кропивницкого, «художники с
Оскар Рабин, пожалуй единственный в группе, сплавил в своих работах поэтический сюжет и экспрессивную выразительность, свойственные художникам и поэтам лианозовского круга, создав тем самым собственный индивидуальный образный язык.
Рабин получил хотя и неполное, но классическое художественное образование, сначала в 1944–1947 годах в стенах Рижской академии художеств, затем в Московском художественном институте. Творческая атмосфера в Рижской академии была достаточно свободной, Рабин вспоминал, что «некоторые студенты позволяли себе даже упражняться в кубистической либо в импрессионистической манере. <…> …В библиотеке хранились великолепные репродукции картин, которые в Москве давно уже считались крамольными» О. Рабин. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж — Нью-Йорк, 1986.. Однако от живописной, изобразительной составляющей в своем творчестве Рабин никогда не отказывался. Позже он признавался, что ему всегда были близки художники до «Мира искусства» — Алексей Саврасов, Исаак Левитан, Леонард Туржанский.
Как и поэты-лианозовцы, мастер всегда говорил о себе как о художнике, который пишет то, что видит вокруг. «Я рисую то, что вижу. Я жил в бараке, многие советские граждане тоже жили в бараках, да и теперь живут… Сейчас я переехал в блочный дом и рисую кварталы блочных домов, которые меня окружают» О. Рабин. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж — Нью-Йорк, 1986.. Ключевым в этом высказывании является, пожалуй, слово «вижу». Рабин совершенно особенным образом умеет увидеть простые бытовые предметы.
Он восторженно вспоминал, как во время учебы у Кропивницкого был поражен его умением превращать изображенный предмет одним лишь наложением дополнительного цвета в нечто иное, придавая ему тем самым дополнительный смысл. «…Мы рисовали натюрморт с апельсином. Вдруг учитель взял синюю краску и наложил на апельсин густую тень. Апельсин перестал казаться апельсином, превратился во
«Так, скопировав левитановскую „Золотую осень“, я пририсовал к картине цветы и лошадей, получилась не знакомая каждому картина, а нечто совсем иное. Подобные вещи я никому не показывал, знал, что Евгений Леонидович будет против, но, чувствуя его правоту, продолжал упрямо делать
Этот прием проявлен с особым мастерством, например, в таких работах, как «Самовар Немухина» (1964) и «Примус Глезера» (1968). На них крупным планом изображены самовар и примус на нейтральном фоне. Их формы немного искажены, поэтому они напоминают живых существ и, можно сказать, дежурят за друзей художника. Художник не создает портретов своих друзей, так же как не пишет просто натюрмортов. На его картинах возникают особые образы, сложно соотносимые с
Автопортреты и изображения людей появляются в художественном пространстве полотен Рабина только как вторичные свидетельства их существования, запечатленные в фотографиях, документах или оправленные в почтовые марки, игральные карты и дорожные знаки. Для Рабина, оставшегося в годы войны сиротой и испытавшего в это страшное время, как он сам говорил, странное «чувство абсолютной, ничем не ограниченной свободы», тяготы послевоенных скитаний без документов отразились в воспоминаниях о мире, где существуют определенные условности, где документ может оказаться важнее человека, где для того, чтобы не исчезнуть, необходимо засвидетельствовать свое существование паспортом и сила этой «условной» несвободы такова, что даже на кладбище необходима виза. «Виза на кладбище» — это название нескольких поздних картин Оскара Рабина.
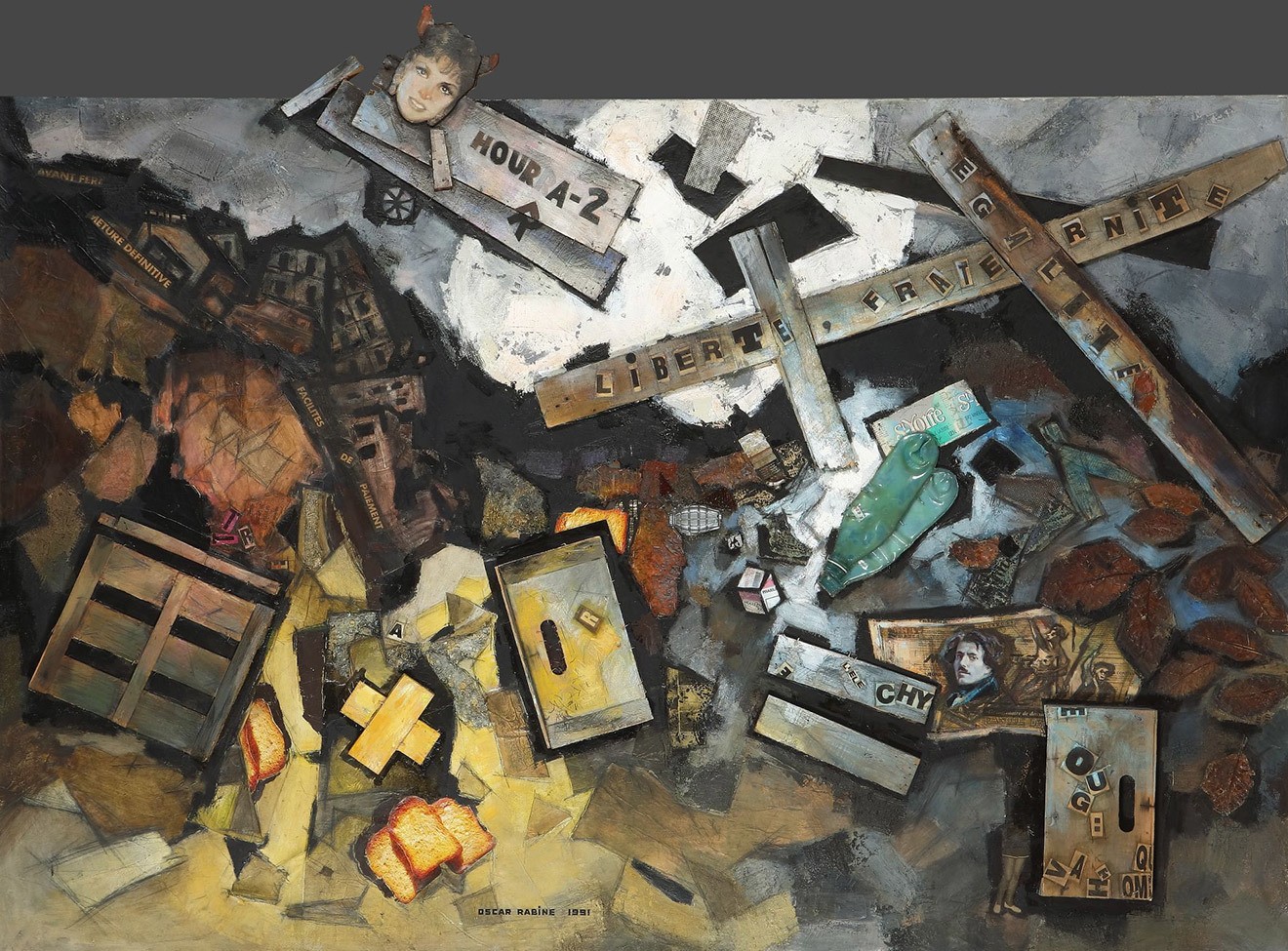
При этом в картинах Рабина не чувствуется нарочитого социального пафоса от лица некоего обличителя. Все высказывания художника подчеркнуто субъективны. В его картинах присутствует только повествовательность и почти нет экспрессии. Его образы — словно слепки с эмоциональных состояний, слишком сильных, чтобы оставаться в области чувств. В довершение этого впечатления мастер припечатывает свои картины строгой, словно выведенной по трафарету подписью. Созданные Рабиным произведения, конечно, воспринимались либо как очернение действительности — в его картинах действительно много черного цвета, — либо как социальный протест, что отчасти было условием тонкой игры, затеянной художниками и властью.
Собственный художественный стиль Рабина оформился в середине 50-х. Он захотел участвовать в Московской городской выставке в рамках Международного фестиваля молодежи в 1957 году, но не прошел первый отбор. В поисках новых выразительных средств художник обратил внимание на рисунок дочери. Он пишет: «Кате исполнилось семь лет, и она, как и все дети, любила рисовать. Рисовала цветными карандашами все, что видела, — дома, деревья, бабушку с дедушкой. Я подумал: «А что, если увеличить один из ее рисунков и перенести его на полотно! И тогда же я написал картину «Бабушкины сказки»… Для меня подобная живопись, выполненная кистью и мастихином, превратилась почти в игру. Позже я понял, что именно эта игра позволила мне раскрепоститься, освободиться от всего, что сковывало до сих пор» О. Рабин. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж — Нью-Йорк, 1986..
В преддверии фестиваля в художественных кругах восторженно обсуждали картины членов «левого крыла» Союза художников. Особое внимание Рабина привлекли работы Юрия Васильева, Андрея Васнецова и Гелия Коржева. Все эти художники вошли потом, как сейчас бы сказали, в топ живописцев официального искусства. Позже в интервью «Новой газете» Рабин признавался, что из современников на его искусство повлияли Гелий Коржев и «суровые».
Размышление над проблематикой, способной привлечь внимание взыскательного жюри, подтолкнуло художника обратиться к социальной теме. «Нарисовал „безработного“, который сидел в мятой шляпе на пороге
Благодаря диплому, которым была отмечена монотипия, Рабину вскоре удалось, оставив тяжелую работу десятника на Северной водопроводной станции, устроиться в Декоративно-оформительский комбинат, где уже работали Николай Вечтомов, Владимир Немухин и Лев Кропивницкий. Впервые в жизни у Рабина появилась возможность зарабатывать на хлеб с помощью кисти и карандаша и активно включиться в кипевшую в художественных кругах культурную жизнь. Это было время наибольших социальных послаблений хрущевской оттепели. Рабин вспоминает: «Впервые за много лет власти разрешили издать крошечные сборнички стихов Есенина и Ахматовой, разошедшиеся с невероятной быстротой… Люди… перестали бояться говорить о прежде запретных вещах, в области живописи появилась даже

Желание вырваться из узкого круга единомышленников и расширить аудиторию не только для себя, но для друзей-художников подтолкнуло Оскара Рабина в мае 1958 года открыть двери своего барака для всех желающих. Первоначально «приемные дни» в Лианозове имели огромный успех, но вскоре неофициальное признание сменилось официальной немилостью. В газете «Московский комсомолец» появилась статья Романа Карпеля «Жрецы „помойки № 8“». Полуофициальные и неофициальные выставки, в которых участвовал Рабин, почти всегда закрывались властями. В 1974 году «Бульдозерная выставка» на пустыре в Беляеве закончилась скандалом и арестом некоторых участников.
С одной стороны, попытка властей взять под контроль неудобных художников вынуждала многих покидать СССР. С другой — все эти события в итоге привели к определенному признанию неофициального искусства и к разрешению проводить некоторые выставки. Для неофициальных художников была даже создана специальная структура, получившая известность как «горком графиков», и в ее руководящий состав вошел лианозовец Владимир Немухин.
А Оскар Рабин в 1978 году вместе с семьей поехал по гостевой визе во Францию. Эта поездка оказалась путешествием в один конец. Через полгода Рабин был лишен гражданства, семья осталась с ним. Лишь в 2002 году художнику был возращен российский паспорт. На вопрос, чего больше в его душе, русского или французского, Рабин отвечал: «Там Россия! Я родился и прожил в России полвека, а во Франции всего 26 лет. И главное — во мне живет язык русский, русская культура — живопись, литература, музыка. И, конечно, российская природа. Но и Францию, особенно Париж, из своей жизни не вычеркнешь» «Московский комсомолец». 2006. .
Работы, созданные во Франции, — это сюжеты, возникшие еще в России, но окрашенные несколько иным эмоциональным звучанием. Рабин говорил: «Картины на русские темы, которые иногда я пишу и сейчас, — не ностальгия. Эти картины-воспоминания — просто память о прошлом. Ведь его, каким бы оно ни было, из сердца не выкинешь» О. Рабин. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж — Нью-Йорк, 1986.. Французские работы Рабина — это все те же бараки, лампы, рыбы, бутылки. Мастер все больше увлекается коллажем, однако и коллаж Рабина по своей природе живописен, как были живописны ранние работы, включавшие изображения документов, фотографий, обрывков газет. Они придавали тем самым метафизическим мирам Рабина документальную подлинность, поражали сочетанием великолепия и убогости, заставляли увидеть знакомые предметы в другом измерении.

В книге о своем творчестве Оскар Рабин пишет: «Я изображаю жизнь через себя, беря предметы и превращая их в предметы-символы, придавая им второй смысл, вторую функцию, дополнительную к обычной, которая характерна для них в жизни. Прибавление каждого нового предмета к предметам, уже давно освоенным, — всякий раз проблема. Иногда это происходит сознательно, иногда случайно. Порой натыкаешься на предмет, который раньше тысячу раз видел, думал о нем и даже пытался нарисовать. Но вдруг как раз сейчас увидел его
Основные изобразительные слагаемые художественного пространства, созданного Рабиным, выстроены по принципам экспрессионистской эстетики. Черные искривленные контуры полуразрушенных бараков, призрачные силуэты истлевших церквей, безжизненные конструкции блочных многоэтажек свиты в пространстве кривого зеркала. Небо обозначено только темными клубами дыма или свинцовой тяжестью туч. Свет восходов и закатов — словно зарево далеких пожаров.
Оказалось, что Рабин пишет свои картины от лица той части своего поколения, которой не нашлось места в послевоенное время. Может быть, именно поэтому Рабин был так упорен в отстаивании своей художественной свободы и своего видения мира, упрямо оказываясь в центре конфликта. Его субъективное и личное видение способно приоткрыть внимательному зрителю мир множества людей, хотя и выживших после Второй мировой войны, но словно бы уже и не существующих, обитающих за пределами дозволенной действительности.
Творческий метод, позиция мастера формировались и первоначально сосуществовали в одном временном и пространственном поле не только с искусством художников лианозовского круга, но и с творчеством мастеров сурового стиля. Однако социальное звучание произведений Рабина совсем не совпадает с социальным романтизмом «суровых». Они хотя и искали «правды жизни», но все-таки утверждали свет в конце тоннеля, нонконформисты же существовали на задворках этого пространства, запечатлевая всю его неустроенность.
В завершение хотелось бы добавить, что многое в судьбе Рабина, да и в нем самом, еще не до конца известно и изучено: например, его личное дело в Российском государственном архиве литературы и искусства до сих пор закрыто для исследователей.
Искусство Лидии Мастерковой занимает особое положение в истории нашей художественной жизни второй половины ХХ века. Когда мы говорим о женщинах-художницах, мы прежде всего вспоминаем амазонок русского авангарда — Любовь Попову, Ольгу Розанову, Александру Экстер, Варвару Степанову. А когда речь идет о 1950–60-х, когда еще господствовал социалистический реализм, о женщинах-художницах говорят редко. Но первое имя, которое приходит на память, — это имя Лидии Мастерковой. Как же она появилась в истории искусства и почему ее часто называют амазонкой второй волны русского авангарда?
Лидия Мастеркова родилась в семье высококвалифицированного рабочего. По воспоминаниям самой художницы и по свидетельству историков искусства, оба ее деда были ювелирами, а отец был настоящим мастером в своем деле, рабочим-художником. Семья была погружена в атмосферу высокой культуры. В доме царил культ красоты и любви к музыке. И об этом я говорю неслучайно, потому что с детства у Мастерковой было две страсти. Одна — любовь к искусству, вторая — любовь к музыке. Она говорила, что музыка для нее играет очень важную роль, в том числе помогает в ее собственном художественном творчестве.
Мастеркова родилась в 1927 м году и в 1943-м, в самый разгар войны, поступила в Московскую художественную школу, которая находилась недалеко от Парка культуры. В этой школе учились многие художники советского андерграунда, например Николай Вечтомов, Владимир Немухин, Михаил Рогинский. В школе преподавали художники, которые вышли из среды Вхутемаса — в частности, Михаил Перуцкий. Он
В своих воспоминаниях Лидия Мастеркова не обращается к страшным годам военной жизни, как многие художники ее поколения, а, напротив, говорит, что это было время полного погружения в пространство живописи, в рисование. Время удивительной свободы, может быть, связанной с тем, что тогда в Москве было довольно мало обитателей, многие еще находились в эвакуации. И искусство отвлекало от тягостей войны, помогало людям выжить.
В 1946 году Мастеркова поступает в Московское городское художественное училище. И практически те же самые преподаватели — Матвей Хазанов и Михаил Перуцкий — продолжают учить студентку Лидию Мастеркову. Об этих годах ее жизни известно не так много. Мы знаем, что ее кумиром тогда был Сезанн (и, по свидетельству многих художников, не только Мастерковой), в училище были доступны книги, которые описывали коллекцию закрытого уже в то время московского Музея нового западного искусства. То есть Мастеркова знала работы импрессионистов и постимпрессионистов. Но само ученическое творчество Лидии Мастерковой все-таки находилось внутри фигуративной живописи. Перелом происходит в середине 1950-х годов, когда она становится гражданской женой художника Владимира Немухина, с которым была знакома со школьных лет. К этому моменту Лидия Мастеркова уже была в разводе (в 1948 году она вышла замуж за однокурсника, в 1949 году у нее родился сын). Интересная подробность: сына Мастерковой зовут Игорь Холин, и точно так же звали поэта, с которым Мастеркова знакомится уже вместе с Немухиным во второй половине 1950-х, когда они входят в круг Лианозовской группы.
В Лианозовскую группу приводит Немухина и Мастеркову их друг Николай Вечтомов, и они оказываются внутри этого удивительного сообщества, становятся друзьями на всю жизнь с Оскаром Рабиным и Валентиной Кропивницкой. Сама Мастеркова говорила, что ей не нравится слово «группа», поскольку все художники, которые объединялись в этом бараке в Лианозово, шли совершенно разными путями. Ни Евгений Кропивницкий, ни Ольга Потапова, отец и мать жены Оскара Рабина Валентины Кропивницкой, не оказали влияния на развитие искусства Мастерковой. Рабин тоже писал совершенно иные картины — фигуративные, мрачные, экспрессивные, которые были посвящены реалиям окружающей жизни. Мастеркову интересовало совсем другое. Она отмечала, что к 1956 году больше не могла писать пейзажи. Но перелом наступил в 1957 году во время Фестиваля молодежи и студентов в Москве. Существует такое понятие в критике, как оттепельная, или постфестивальная, абстракция: в 1957 году после выставки в Парке культуры, где были представлены западные произведения искусства, очень многие художники начали писать абстрактные картины. В этом понятии есть нечто уничижительное, но на самом деле мы понимаем, что встреча с другим искусством дала мощный импульс. Как вспоминал Немухин М. Уральский. Немухинские монологи. Портрет художника в интерьере андеграунда. СПб., 2011 , после выставки — то ли выставки 1957 года, то ли американской выставки 1959 года — они ехали домой молча, не могли ни о чем говорить. И действительно чуть ли не на следующий день после посещения этой выставки Мастеркова взяла в руки холст и, почувствовав свободу от окружающего мира, который ей нужно изображать, от любых фигуративных форм, создала свою первую экспрессивную абстрактную картину.

В чем особенность этих первых работ Лидии Мастерковой? Она постоянно, вплоть до расставания с Немухиным в 1968 году, работала с ним рядом. В это время они жили в коммунальной квартире, в одной комнате с родителями Лидии Мастерковой и ее сестрой. Для Мастерковой, ее сына Игоря и Владимира Немухина был отгорожен угол. И в этом пространстве коммуналки они и вынуждены были работать буквально нос к носу, очень близко друг к другу. Немухин в то время пишет такие картины, как, например, «Голубой день», где сквозь абстрактные формы проглядывает воспоминание о пейзаже, о некой реальности. Мастеркова начинает писать тоже длинными мазками очень экспрессивные работы, но они быстро структурируются в вертикальные цветовые волны, которые складываются в направленные ввысь композиции. Причем она сталкивает дополнительные цвета: зеленый, красный, желтый, — и они получают особенную энергию.
Каждому повороту в искусстве Лидии Мастерковой сопутствовало новое увлечение, встреча, импульс. Так, она знакомится с русским авангардом. Мастеркова видит его в запасниках Третьяковской галереи и у Георгия Костаки, известного коллекционера, который собирал не только русский авангард, но и произведения неофициальных художников второй половины ХХ века. С Костаки Мастеркова знакомится при удивительно благоприятных обстоятельствах. Дело в том, что она уже в 1961 году была удостоена персональной выставки. Правда, это была выставка квартирная, но в биографии Мастерковой она часто обозначается как персональная выставка в доме Федора Шаляпина. Дело в том, что именно там была квартира искусствоведа Ильи Цырлина, который предложил Мастерковой выставить ее работы. Такого не удостаивался практически никто из художников того времени. И на собственной выставке Мастеркова познакомилась с Георгием Костаки. В квартирах Костаки картины художников авангарда висели в несколько рядов, а некоторые буквально располагались на потолке, потому что не умещались на стенах. Мастеркова увидела это удивительное пиршество для глаз — яркие композиции, построенные на геометрических формах.
Еще одной важной встречей оказалось знакомство с художником Иваном Кудряшовым. Кудряшов прожил очень долгую жизнь и стал для Мастерковой примером верности и преданности своему искусству, умения трансформировать свой язык, не изменяя себе. Кудряшов был увлечен проблемой космического пространства и создавал композиции, в том числе коллажные, которые содержали в себе воспоминания о его искусстве 1920-х годов, но все-таки представляли собой пример
В 1963 году Лидия Мастеркова поступает на работу в Литературный музей имени Пушкина, где занимается в том числе реставрацией. В музее Мастеркова знакомится со знаменитым коллекционером Феликсом Вишневским, знатоком пушкинской эпохи, который давал ей советы в реставрационных работах. Но самое главное — Вишневский был страстным собирателем не только древнерусского искусства, но и церковной утвари. Он увлекает Мастеркову культурой, которая вышла из русского Средневековья, и она тоже начинает собирать старинные ткани и предметы культа, которые в то время были никому не нужны и часто просто пропадали в разрушенных храмах. Мастеркова не просто собирает — она делает эти предметы частью своего творчества, включает их в композиции, которые вырастают в размерах, становятся монументальными, практическими. Коллажи из предметов и обрывков ткани — парчи, шелка, кружев — она помещает на холст, располагает их волнами и туда же впечатывает свою мощную живопись, окрашенную в бронзовые, золотые, коричневые, охристые тона.

Начинает она этот этап с работы, которая напоминает иконы с клеймами. Эта большая картина, написанная в серо-черно-белых тонах, представляет собой центральный ковчег, где смутно угадываются тени предстоящих святых, как будто это стертая фреска, одна из изуродованных временем и судьбой икон, след воспоминаний. А в клеймах она располагает буквы как будто старославянского шрифта, которые тоже становятся воспоминанием о высокодуховной культуре.
Работа с тканями продолжается еще долгие годы в живописи Лидии Мастерковой, но сама живопись меняется: к концу 1960-х она становится почти полностью монохромной. В творчестве Мастерковой даже появляется свой «Черный квадрат» — расколотый надвое, потерявший свои края, которые расплылись пятнами. Потерю абриса, текущее состояние этого квадрата, его распространение в пространстве подчеркивали черные кружева, которые Мастеркова расположила прямо по периметру черного пятна.
В 1967 году состоялась еще одна важная выставка в истории искусства русского андерграунда — выставка в клубе «Дружба» на шоссе Энтузиастов, которую организовал Александр Глезер. Там было представлено несколько работ Мастерковой, созданных уже в новой черно-белой, практически монохромной гамме. Участники выставки получили возможность показать свои работы огромному количеству людей. Причем эти люди пришли за час или два до объявленного открытия. Мастеркова пишет, что зал был полон и толпы людей смотрели и обсуждали работы. Но быстро — по разным свидетельствам, то ли через 15 минут, то ли через пару часов — эта выставка была закрыта, в зале погас свет.
Надо сказать, что еще начиная с 1961 года, с той первой выставки в доме Шаляпина, Лидия Мастеркова стала популярной среди иностранных дипломатов и журналистов, которые приезжали в Советский Союз и часто посещали ее дом, их мастерскую с Немухиным и приобретали ее работы. Так, например, она познакомилась с Кириллом и Галиной Махровыми, французскими дипломатами русского происхождения. Они стали не только ее покупателями, но и верными друзьями и много помогали ей потом во Франции. Благодаря как раз иностранным покупателям работы Мастерковой оказались на выставке советского неофициального искусства в польском Сопоте и участвовали в еще нескольких подобных проектах в разных странах Европы. Так что Мастеркова чувствовала себя уже отчасти известной за рубежом, но все равно, как и другие художники, мечтала о выставках в СССР, о праве показа.
Следующая возможность показать работы широкому кругу зрителей представилась почти через семь лет на знаменитой «Бульдозерной выставке» 15 сентября 1974 года. Выставку готовил Оскар Рабин вместе с Виталием Комаром и Александром Меламидом. Лидия Мастеркова считала выставку на открытом воздухе возможностью выхода на самую широкую публику. Но она же признавалась, что, возможно, ее организаторы рассматривали выставку и как своего рода политическую акцию, выступление против не то чтобы репрессий со стороны властей, но против непринятия искусства инакомыслящих, искусства, которое не было похоже на фигуративность, господствующую в живописи, не соответствовало правилам, которые диктовал Московский союз художников.

Художники пришли на пустырь в районе Беляево вместе со своими холстами. Картины должны были быть установлены прямо на поляне, чтобы зрители могли пообщаться с художниками. Но оказалось, что на поле находятся рабочие, которые занимаются посадкой деревьев, и стоят бульдозеры, которые собираются благоустраивать территорию. Хотя о выставке была договоренность с комитетом по культуре — или, по крайней мере, было объявлено, что художники собираются провести однодневную выставку-акцию. В
А после «Бульдозерной выставки», уже в конце сентября 1974 года, состоялась вторая выставка на открытом воздухе — в Измайлово. И эта выставка, по признанию Мастерковой, была большой удачей: в течение четырех часов шли толпы посетителей, которые смотрели работы. В это время искусство Мастерковой опять меняется. В ее живописи появляются новые коллажные мотивы, но только это уже не коллажи из тканей, а коллажи из бумаги и картона. Она вырезает круги, и мотив круга становится важной частью ее живописного искусства и будет повторяться на протяжении всей ее жизни. Мастеркова наклеивает на круги абстрактные полоски или чаще рельефные цифры, среди которых преобладают 1, 0 и 9. У каждой из этих цифр есть своя символика, в том числе в русском авангарде. Так, Малевич называл «Черный квадрат» нулем форм: «Я вышел за нуль форм». Можно говорить о нуле как о символе начала, о единице как символе сильной личности, о значении девятки в космогонии, это планетарный символ. И, собственно, Мастеркова сама называет эту серию планетными картинами.
В 1975 году состоялась еще одна легендарная выставка в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ, где комитет из художников при участии коллекционеров, таких как Александр Глезер и Леонид Талочкин, и искусствоведов, например Татьяны Колодзей, формировали состав и экспозицию. С одной стороны, это опять же был выход на широкую публику, это было некое признание со стороны общественности, потому что зрители стояли в огромных очередях: по несколько тысяч человек в день приходили на эти выставки. А с другой стороны, Мастеркова поняла, что, когда художников свели под одну крышу, когда они вышли из пространств дружеских групп, появилось ощущение соперничества. И это противоречило свободолюбивой натуре Мастерковой. Возможно, желание уехать
И вот в декабре 1975 года вместе со своим сыном Игорем Холиным Лидия Мастеркова уезжает. Сначала в Вену, где находился своего рода перевалочный пункт, в котором эмигранты получали документы и материальную помощь от Фонда Льва Толстого. В Вене ей удается представить на выставке в Кунстлерхаусе, в Доме художников, свои работы тушью. Тушью на бумаге она начинает работать как раз в 1970-е годы — рисует черно-белые круги, планетарные символы, и внутри каждого круга буквально одним цветом ей удается создать ощущение пространства, даже
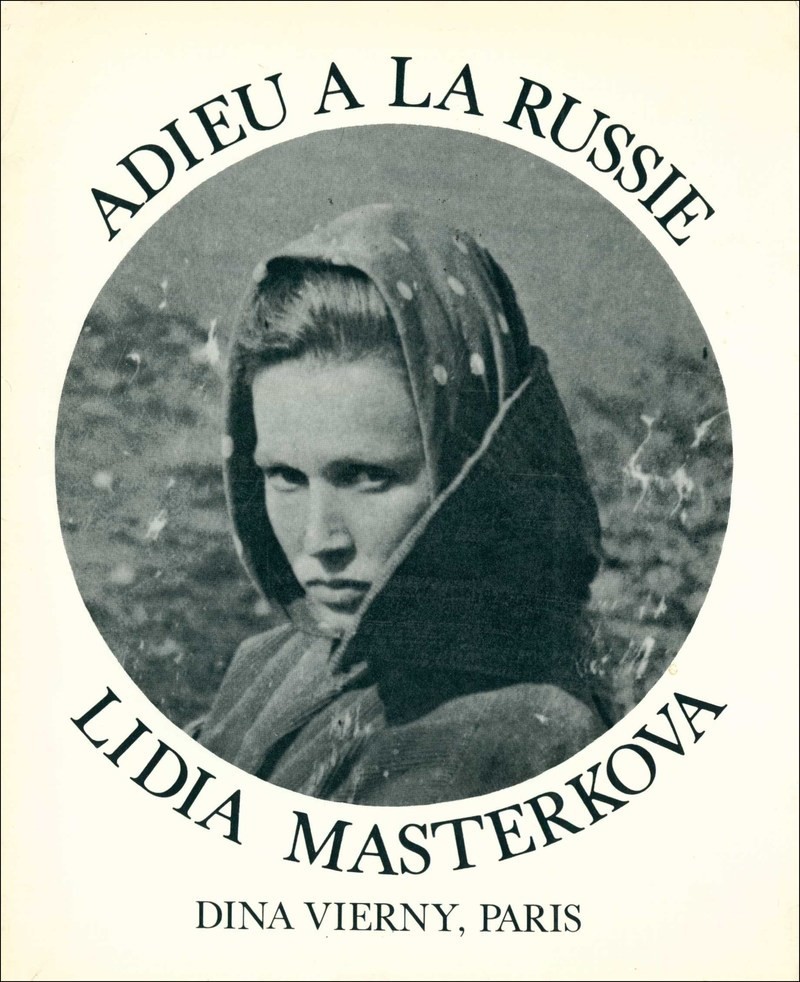
Показав свои работы в Вене, Мастеркова уезжает во Францию, и там начинается ее очень трудная жизнь. В 1977 году состоялась ее персональная выставка в Париже в галерее Дины Верни, известной модели Родена и Майоля, певицы, светской дамы, которая владела собственной галереей и покровительствовала русским художникам. В том же 1977 году проходит еще одна выставка в одной из уже провинциальных галерей, и больше персональных выставок Мастерковой во Франции не было. Несмотря на то что выставка у Дины Верни прошла с успехом, художницу заметили и говорили о мощи и силе ее таланта, она оказывается обреченной на невнимание со стороны французской критики и художественного сообщества. И в этом смысле она разделяет судьбу многих художников, которые уезжают в это время и оседают во Франции. Слишком замкнута была французская культура, не открыта для принятия, особенно если художник не был политически заряженным, не рассказывал о тяжелой жизни в непонятном Советском Союзе, а говорил на интернациональном языке беспредметного искусства.
И поэтому все основные выставки уже 1980-х годов проходили у Лидии Мастерковой в Америке — в Нью-Йорке, куда переехала ее любимая племянница Маргарита Мастеркова-Тупицына, которая становится куратором ее американских выставок. В частности, в 1983 году в Нью-Йорке на Бродвее в Центре современного русского искусства прошла персональная выставка Лидии Мастерковой, название которой можно перевести как «Восхождение к реальности» или «По направлению к реальности» Lydia Masterkova: Striving Upward to the Real. Центр современного русского искусства в Америке (CRACA). Нью-Йорк, 1983 . Эта выставка была очень успешной. Работы Мастерковой были проданы и обрели коллекционеров. Выставка, по свидетельству Маргариты Мастерковой-Тупицыной, помогла художнице купить дом во французской провинции. Этот дом она сама отреставрировала вместе с сыном Игорем. В нем она жила и работала всю оставшуюся жизнь. Но, опять же, выставочная деятельность Мастерковой продолжалась или в Америке, или (изредка) во Франции в рамках групповых проектов.
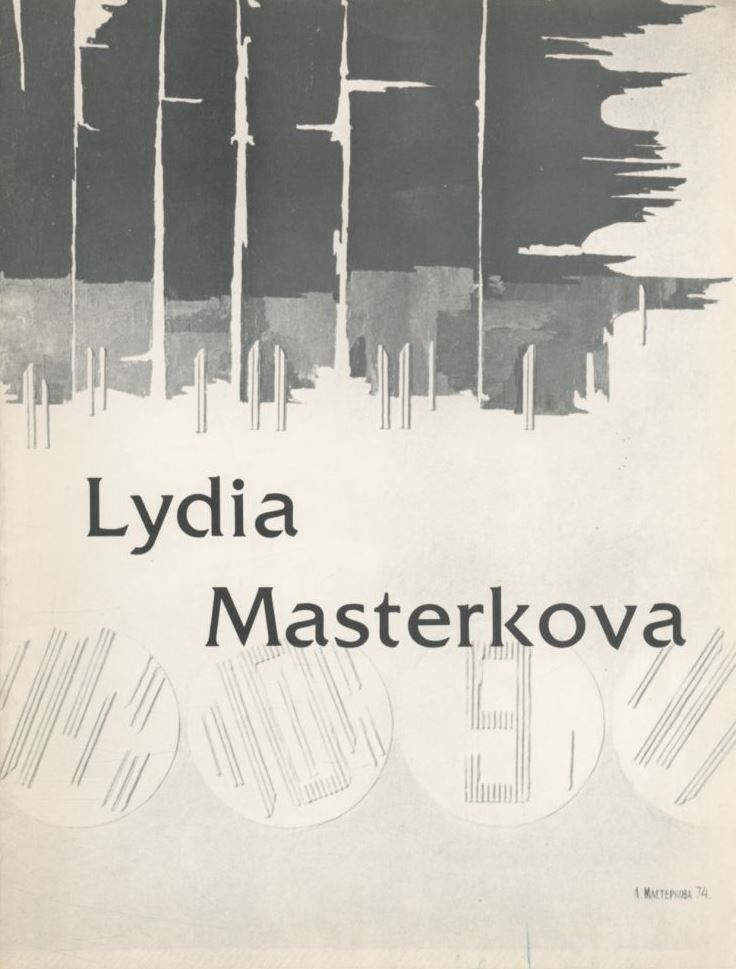
Что касается искусства Мастерковой периода ее жизни во Франции, то можно сказать, что она сохранила приверженность черно-белым структурным композициям с вкраплениями лиловых, сиреневых, охристых, голубоватых оттенков, которые часто делятся на темную и светлую зону, где в верхней части располагаются разорванные черные формы, а в нижней — те самые круговые планеты. Но еще в это время в ее живописи появляются фигуративные элементы. Например, как будто лежащая фигура в нижней части холста. Все начинается с мумии кошки, которую она создает после посещения в Вене залов египетского искусства Художественного-исторического музея. Потом появляется свернутая форма упавшего парашюта. Как говорит Маргарита Тупицына в своей книге, посвященной Мастерковой, это как будто бы было свидетельством ее собственного зависания в пространстве жизни, ощущения подвешенного состояния.
Мастеркова посещает Нидерланды, Америку, часто приезжает в Лондон — одно время в Лондоне живет ее сын с семьей. Она встречается с супрематическими композициями Малевича — например, в Стеделейк-музее в Амстердаме она видит большое количество его супрематических работ и судит о них очень резко. С одной стороны, она потрясена, с другой — возмущена тем, что даже в Малевиче западные люди ищут политики, и поэтому не выносит его поздние работы крестьянской серии. Но надо сказать, что, может быть, под влиянием встреч с супрематизмом Малевича, а может быть, воспоминаний о супрематических композициях Ивана Кудряшова, в 1980–90 годы гамма ее работ становится все более светлой, цветной. Она остается верна коллажным элементам, но только теперь это геометрические элементы, которые она включает в свои композиции. И она буквально становится яркой. К тому же Мастеркова начинает заниматься скульптурой, но это скорее скульптура прикладная, малых форм, которые больше всего похожи на шкатулки, подсвечники — предметы обихода, украшения домашнего или коллекционного пространства.
Еще одной линией в ее творчестве остаются работы, которые она называет графикой. Это работы, созданные с помощью бумаги, в центре которых всегда есть планетарный символ, неровно закрашенный черный круг, имеющий свою глубину и собственную композицию, но формы вокруг круга вырастают за пределы прямоугольника графического листа. Она начинает превращать их в причудливые растекающиеся геометрические картуши, она раздвигает форму листа и создает многофигурные бумажные композиции. Речь идет прежде всего о серии работ, которую Мастеркова посвящает русским поэтам. В последние годы в ее творчестве возникает множество работ-посвящений, среди поэтов оказываются Марина Цветаева и Сергей Есенин, например. Такого рода работы знаменуют последний этап жизни Лидии Мастерковой.
Уже в середине 1990-х годов она обретает поклонников и коллекционеров среди французов. Они поражены силой, мощью и самой жизнью этой женщины, которая живет не то чтобы настоящей отшельницей, но в глубокой французской провинции в 300 километрах от Парижа, в большом старинном доме с собаками и кошками, где она беспрестанно творит.
Надо сказать, что искусство Лидии Мастерковой вернулось на родину. Когда она уезжала в 1975 году, как и многие эмигранты, она прощалась с друзьями и родными навсегда. И вот в 2000-х она часто приезжает в Москву, ее начинают показывать на разных музейных площадках, в выставочных залах. В 2006 году прошла персональная выставка Лидии Мастерковой в галерее «Кино». А в 2007 году ее работы появились в постоянной экспозиции Музея личных коллекций, который находится внутри Музея изобразительных искусств имени Пушкина. С тех пор больших выставок Мастерковой не было. За исключением выставки в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре в 2015 году, где она была представлена вместе с Владимиром Немухиным, который был, несмотря на то что они расстались еще в 1968 году, самым важным, может быть, человеком в ее жизни, в чем признавался и он сам, и она. И эта выставка стала отчасти ретроспективой Мастерковой: там были показаны работы разных лет, разных периодов ее творчества. Но все-таки мы еще ждем большой серьезной музейной выставки Лидии Мастерковой с произведениями, собранными из коллекций по всему миру. Такой выставки, что продемонстрировала бы величие и значимость этой художницы, которую неслучайно называли амазонкой второго русского авангарда.
Временные рамки оттепели в искусстве не совпадают с ее календарными границами. Триггерами перемен, которые закрепил в 1956 году ХХ съезд партии, где был развенчан культ личности вождя, стали победа в Великой Отечественной войне и смерть Сталина. А в художественной среде оттепельный ледоход начался в декабре 1953 года на открытом комсомольском собрании в Московском союзе художников с предложения провести выставку без жюри и поместить на нее все, что принесут художники. Эта идея выставить работы без цензуры и проверок всем так понравилась, что уже 23 января 1954 года в Центральном доме работников искусств состоялась первая выставка эскизов молодых художников. Для них этот смотр стал глотком свежего воздуха и предвестником долгожданной свободы. С 1954-го подобные выставки стали проходить ежегодно. Именно здесь впервые показали свои работы художники послевоенного поколения. В основном это были выпускники Московской средней художественной школы и выпускники Московского государственного художественного института имени Сурикова. Им удалось уйти от помпезного, выродившегося к тому времени соцреализма, реабилитировать манеру искусства 1920–30-х годов, еще недавно признанную формалистической. Они нашли нового героя и новую форму и, главное, обновили содержание. Это позволило определить направление развития отечественного искусства на годы вперед.
Самые яркие представители поколения шестидесятников среди живописцев — это Николай Андронов, Андрей Васнецов, Дмитрий Жилинский, Виктор Иванов, Павел Никонов, Петр Оссовский, Виктор Попков, Таир Салахов и, конечно, главный герой нашего рассказа — Гелий Коржев.

Гелий Коржев родился в семье московских интеллигентов 7 июля 1925 года. Его дед Петр Васильевич Коржев мечтал посвятить жизнь музыке, поступил в консерваторию, но из-за смерти отца не смог учиться по призванию и стал инженером-землеустроителем. Был дружен с Львом Толстым, хорошо рисовал, занимался живописью, играл на рояле и сочинял музыку. Гелий Коржев вспоминал: «Карандаши, бумага, планшеты всегда наводняли наш дом, и рисование как занятие, как дело, его важность вошло в меня с детства. Рисовал я вполне заурядно, как все дети моего возраста. Ничуть не лучше» Е. Зайцев. А жизнь продолжается // Слово. Вып. 4. 2003..
Мать Коржева, Серафима Михайловна, была педагогом, больше 40 лет преподавала русский язык и литературу. Отец — Михаил Петрович Коржев — архитектор-авангардист, ученик Щусева и Ладовского, один из основоположников отечественной ландшафтной архитектуры. Входил и одно время возглавлял объединение АСНОВА — Ассоциацию новых архитекторов, первую творческую организацию архитекторов-рационалистов, развивавших идею синтеза архитектуры с другими видами искусства. Михаил Коржев занимался проектированием парков, исследовательской и общественной работой в Союзе архитекторов и Всесоюзном обществе охраны природы. После выхода на пенсию он проектировал и оформлял сады безвозмездно, за что в профессиональных кругах получил прозвище Дон Кихот Ландшафтный. Коржев вспоминал об отце:
«Все делал с полной отдачей и серьезностью.
Как-то очень давно, когда я был еще мальчиком, он объяснял мне, что такое интеллигент. Он говорил, что подлинный интеллигент должен уметь работать за чернорабочего, за прораба, инженера и за творца — создателя проекта. Такова была программа архитектора и труженика. Не правда ли, есть в этой программе донкихотовский привкус?» Г. Коржев. Размышления.
Спустя много лет, уже в 1970-х годах, Коржев посвятит отцу целый живописный цикл «Дон Кихот», где представит Рыцарем печального образа, а в верном оруженосце Санчо Пансе запечатлеет образ его преданной жены, которая верит во все его задумки и фантазии. Родители, энтузиасты и альтруисты, как и дед, своим примером показали Коржеву, что у художника должна быть миссия, что он отвечает перед обществом. Для Гелия Коржева миссией стал поиск правды, сохранение исторической памяти и служение идеям гуманизма.
Видя склонность Гелия к рисованию, родители отдали его в художественную студию при Доме пионеров и школьников Фрунзенского района Москвы, где он занимался с 1936 по 1939 год у Антонины Петровны Сергеевой, которая была ученицей Валентина Серова и Константина Юона. Она же посоветовала Коржеву сдать экзамены в только что открывшуюся Московскую среднюю художественную школу, созданную по инициативе Игоря Грабаря, Александра Герасимова, Петра Кончаловского, Дмитрия Моора и Константина Юона. Успешно выдержав испытания, Коржев зачисляется сразу в третий класс МСХШ, где учится с 1939 по 1944 год. Вместе с ним учились в будущем известные художники Владимир Стожаров, Виктор Иванов, Петр Оссовский, Сергей Ткачев и Кира Бахтеева, позже ставшая женой Коржева. Программа обучения в школе была очень насыщенной: помимо классов, ученики посещали музеи и театры, непосредственно в школе проводились киносеансы, лекции и встречи с художниками, скульпторами и писателями. А еще — выставки графики из запасников Третьяковской галереи и копий произведений из Музея нового западного искусства.
В 1941 году все изменилось. Во второй половине дня 22 июня Гелий Коржев со своим приятелем Димой Краснопевцевым (который в дальнейшем станет ярким представителем неофициального искусства) собрался пойти в Третьяковскую галерею. Коржев вспоминал: «С утра я сидел в кабинете отца и рисовал… Это был этюд с тети Нюры, которую я решил превратить в знойную испанку. За этим занятием и застал меня звонок Димы: „Война!‘‘» Г. Коржев. Биография. 16-летний Коржев решает отправиться на фронт и даже проходит курсы военной подготовки снайперов. 1 июля 1941 года МСХШ эвакуируют в Башкирию, в село Воскресенское. А в конце сентября по совету педагогов Коржев с последней группой отправляется в Воскресенское дожидаться призыва.
Переезд в сельскую местность нарушил только что выстроенный учебный процесс. Половина преподавателей ушли на фронт, не хватало учебной натуры, слепков и классической скульптуры, из-за отсутствия музеев и выставочных залов стало невозможно изучение прошлого. Увеличилась гуманитарная часть предметов, изучались мировой эпос и фольклор, проводились встречи с участниками боевых действий, лекции по военной истории, кинопоказы. Художник вспоминал: «То была зима 1941–1942 годов. Пожалуй, самое трудное время. Было голодно, холодно. Выручила нас дружба и добрые взаимоотношения. И
Ученики для практики ходили с этюдниками по избам, помогали на сельхозработах во время уборки урожая, а также самостоятельно ходили в походы. Здесь юный Коржев пишет свой первый автопортрет, а также создает серию портретов деревенских жителей, в основном детей. Позже эти объединенные в цикл рисунки получат название «Дети войны».
В июне 1943 года школа возвращается в Москву, в 1944 году первый выпуск завершает обучение и зачисляется без экзаменов в Суриковский институт, где Коржев учится у Почиталова, Герасимова и Максимова. Коржев вспоминал: «Когда пришла идти пора на фронт, нам приказали — учитесь! В военном 44-м мы вошли в мастерские Суриковского института. Было трудно. Холодно, голодно. Не оставляла мысль о том, что за эту возможность учиться заплачено кровью наших бойцов… Каждый из нас на всю жизнь сохранил это острое чувство долга» Ю. А. Бычков. В мастерской Гелия Коржева //Молодая гвардия. N°8. 1962.. Действительно, это острое чувство долга будет присуще всему послевоенному поколению, поэтому для Коржева тема войны и ее участников стала одной из центральных в творчестве.
В 1945 году студентов направляют на распаковку произведений, вернувшихся из эвакуации в московские музеи. Коржев попадает на прием картин из Дрезденской галереи в Музей изобразительных искусств имени Пушкина и знакомится с работами Рафаэля, Веронезе, Гольбейна, Дюрера, Кранаха, Хеды, Вермеера, Рубенса, Рембрандта и Ван Дейка. Коржев вспоминал: «Мы перетаскивали картины, распаковывали ящики. Около месяца мы находились рядом с шедеврами Дрездена. Трудно переоценить роль этого общения» Е. Зайцев. Гелий Михайлович Коржев. М., 2000..
Первой попыткой осмысления опыта военного времени стала картина «Эвакуация», которую Коржев пишет для себя в 1948 году. Ее композиционный строй и сюжет решены в традициях старых мастеров — на Коржева большое, я бы сказала, определяющее на тот момент влияние оказало творчество Рембрандта. На крупном холсте вертикального формата изображен архаизированный сюжет ночного массового бегства людей от некой невидимой катастрофы. Толпы стекаются по обрывам к переполненным лодкам у речного причала. Возникают ассоциации с библейским потопом, заставляя размышлять о тщете человеческих усилий перед силой судьбы и цикличностью истории. Сумрачная тональность колорита, светотеневая моделировка и направленный источник света, панорамный охват — все это рождает ощущение тревоги и обреченности.
В дальнейшем художник редко обращается к масштабным массовым сценам, ограничиваясь несколькими персонажами. Но именно «Эвакуация» стала увертюрой к зрелому творчеству художника, обозначив будущие темы — попытку понять суть исторического события, исследование психологического момента на перепутье.
Коржев вспоминал, что первые самостоятельные шаги после окончания института в 1950 году были очень трудны: «Нужно было найти свою тему, свой язык и просто самого себя. Нужно было научиться зарабатывать деньги на жизнь так, чтобы не мешать развитию творчества» Г. Коржев. Биография.. В это время он работает над панно для павильона ВCХВ, создает иллюстрации для детских книг и открыток. В 1951 году Сергей Герасимов, его учитель, автор эталонных соцреалистических полотен, директор Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова, приглашает Коржева быть его ассистентом и преподавать на младших курсах. Педагогическая карьера Коржева сложилась успешно — он стал профессором, был заведующим кафедрой монументальной живописи и руководителем творческой мастерской Академии художеств СССР.
Самостоятельные жанровые полотна первой половины
В понимании Коржева картина была трибуной, где ставятся главные вопросы жизни, общества и ценности личности и ее опыта. Ему были близки художественные принципы общества передвижников — обостренный психологизм, социальная направленность, высокое мастерство типизации, реализм, граничащий с натурализмом, и, конечно, трагический взгляд на действительность. Как и передвижники, шестидесятники были вдохновлены идеями о всеобщей свободе и благополучии, мечтали об искусстве как служении во имя просвещения и развития народа.
Первым значимым художественным высказыванием Коржева стала картина «В дни войны». Он представил ее на Первой молодежной выставке 1954 года. В комнате, приспособленной под мастерскую, изображен художник, одетый в грубую шинель и потрепанные кирзовые сапоги. Сжимая в руках папку с этюдами, он сосредоточенно всматривается в большой белый холст. Сюжет словно выхвачен из жизни, как из военной кинохроники, и есть интрига, потому что никто не знает, что же в итоге нарисует мастер. В первых этюдах фигурировал парадный портрет Сталина, но после его смерти все изменилось, и художник, одна из центральных фигур культуры оттепели, оказался перед судьбоносным выбором. Для будущих художников-шестидесятников, молодых еще людей, эта картина стала первым манифестом, каждый задумывался о свободе творчества и свободе личного выбора. За эту картину Коржева сразу, пропуская стадию кандидата, принимают в Московский союз художников, что случалось редко.
Романтическая вера послевоенного поколения в возвращение к ленинским нормам вызвала интерес к событиям революции и Гражданской войны. Художники заново осмысляли события недавней истории с точки зрения человека внутри события, рядового человека как творца истории, уходили от заданных иконографических канонов соцреализма с многофигурными театрализованными композициями, где люди были лишь частью декораций, окружавших политических вождей.

В 1958 году Коржев на Четвертой молодежной выставке представляет полотно «Интернационал», чуть позже ставшее правой частью триптиха «Коммунисты». На почти трехметровом вертикальном полотне Коржев изображает две фигуры, которые стоят спинами друг к другу, — это знаменосец и военный музыкант, два последних бойца, оставшиеся в живых на поле сражения. Композиция построена по принципу документального кинокадра: взгляд сверху, скользящий по диагонали, горизонт основного события обрезан, видны лишь фрагменты мертвых тел, подле которых возвышается фигура трубача, исполняющего гимн молодого Советского государства. Коржев на фоне героического пафоса события ставит вопрос о человеке: о чем он думает, что переживает в этот трагический момент? Вообще пафос как прием, когда трагический и героический сюжет наполняет произведение эмоциональной возвышенностью, воодушевлением и драматизмом, станет для Коржева неотъемлемой частью его картин.
Он сознательно ставил себе задачу выбирать тему, в которой есть общественная значимость и социальный подход. Сложность задачи, как он говорил, состояла в том, как перевести чувства, которые волнуют автора, в зрительно ощутимые образы. Этот процесс мог длиться несколько месяцев, а может быть, даже и несколько лет, и ни одна тема не вызревала у него меньше года.

В 1960 году Коржев создал центральную часть триптиха «Коммунисты», «Поднимающий знамя», которая была посвящена уличным боям 1905 года. Трехметровое полотно горизонтального формата, в центре которого изображена большая фигура рабочего, поднимающего знамя из рук убитого товарища, произвела фурор среди критиков и зрителей. Срезанный горизонт разворачивал плоскость мостовой вместе с рабочим и красным знаменем прямо на зрителя. Части тел по краям полотна были обрезаны, и из-за этого казалось, что объектив художника случайно выхватил этот эпизод из гущи событий. Коржев запечатлел само время — нет прошлого, неизвестно будущее, есть только здесь и сейчас, момент принятия судьбоносного решения.
Коржев нашел своего героя — носителя правды, действия которого меняют мир. На эту идею работает и само качество живописи: корпусное письмо, плотные мазки, сложносоставной колорит физически заставляли зрителя ощущать напряжение главного героя.
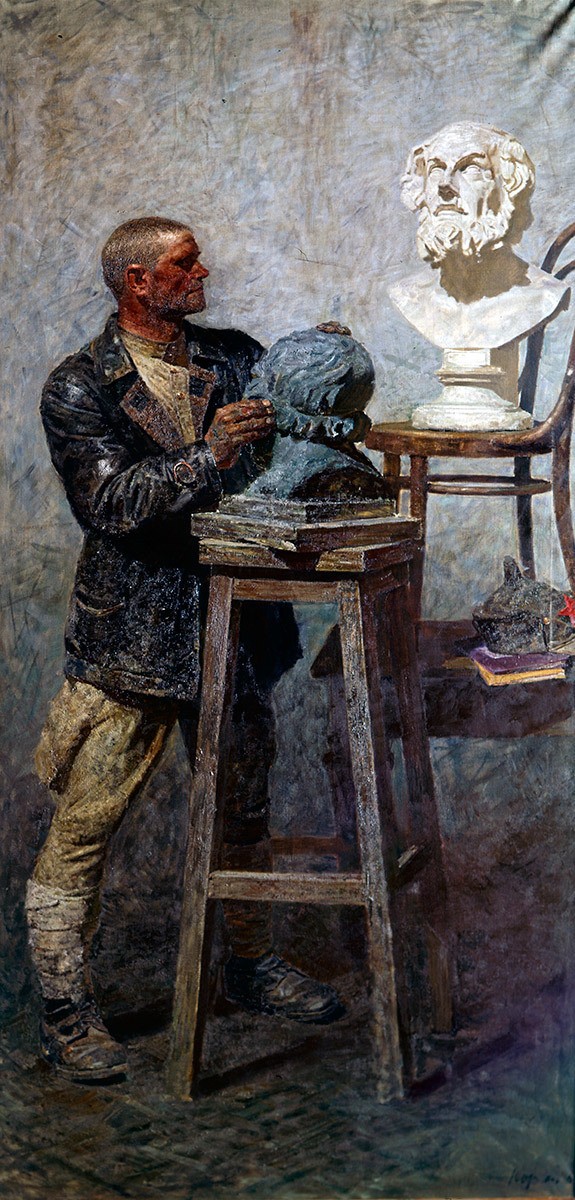
Эпизод, увиденный в любительской скульптурной студии, фигура фронтовика, который увлеченно работает над бюстом Гомера, лег в основу левой части триптиха под названием «Гомер (Рабочая студия)», которая стала первым размышлением в советском искусстве об адаптации ветеранов к мирной жизни. Коржев говорил:
«Это прежде всего люди, вышедшие из пламени войны. Это они несли в себе новое представление о вселенной, о жизни, об искусстве. Целое поколение пришло с войны со страстной мечтой о мирной жизни, жаждой знаний, тягой к труду. Именно это военное поколение формировало дух эпохи» А. Фефелов. Стойкость отверженных // Завтра. 30 июля 2001 года..
За триптих в 1961 году Коржев был награжден золотой медалью Академии художеств СССР, в 1963-м получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Коллеги ценили честность и порядочность Коржева, и он был единогласно избран секретарем правления Союза художников РСФСР, а позже и его председателем. Признание и авторитет давали определенную творческую свободу, также этот статус позволял совершать творческие поездки по всему миру, что, несомненно, давало художнику пищу для сравнений и размышлений.
Другая важная для Коржева тема, которая прошла через все его творчество, — взаимоотношения мужчины и женщины как отражение истории XX века. Полотно «Влюбленные» 1959 года напоминает об итальянских неореалистических фильмах. Композиция построена по принципу документального кинокадра: на каменистом берегу неспокойного моря возле старого мотоцикла расположились двое — зрелые мужчина и женщина, монументальные фигуры которых занимают практически всю плоскость холста. Их лица задумчивы, каждый сосредоточен на переживании собственного трагического опыта. Сейчас они вместе, но о том, как долог был их путь, говорят их загорелые лица, натруженные руки, уставшие тела, несущие следы физического и духовного напряжения.

Темы переплетаются у Коржева довольно интересно. Сложные, часто требующие самопожертвования отношения, объединенные верой и служением общей высокой цели, Коржев изучает через взаимодействие творца и музы. Впервые эти размышления появились в «репортажном» полотне «Художник» 1961 года, которое рассказывает о трудной судьбе уличного живописца одной из европейских стран и его преданной спутницы, которую он наделил портретными чертами своей жены, художницы Киры Коржевой. Коржев уделяет большое внимание рукам своих персонажей, чтобы показать течение творческой энергии и зафиксировать процесс претворения идеи в материальный объект. Картина была показана на 31-й Венецианской биеннале в 1962 году и хранится в Третьяковской галерее.
Образ художника — служителя муз, защитника правды, борца и первопроходца — Коржев будет изучать всю свою жизнь. Фигура творца-одиночки, до конца не понятого, осмеянного и принятого лишь немногими, будет появляться и в работах 1990–2000 годов. В библейском цикле он символически трансформируется в образ рыжеволосого Христа, неуклонно следующего своей миссии, несмотря на все физические и моральные страдания и неминуемую смерть.
Каждое новое полотно Коржева становилось художественным событием. Его картины ждали, Министерство культуры закупало его произведения непосредственно с выставок и передавало в музеи по всей стране, а репродукции расходились огромными тиражами в периодических изданиях. Это было всеобщее признание. В 1979 году Коржев получил звание народного художника СССР, в 1985 году был награжден орденом Ленина, неоднократно избирался депутатом Верховного совета РСФСР, был председателем Союза художников РСФСР. При этом, как ни странно, в советские времена у Коржева не было ни одной персональной выставки. Ему это было не важно — его интересовала только работа, и он методично следовал задуманной еще в юности стратегии служения обществу.

Коржев работал над темами, связанными с Великой Отечественной войной, более 20 лет и расширил ее до цикла, который позже получил название «Опаленные огнем войны». За этот цикл он был награжден Госпремией РСФСР имени Репина в 1966 году и Госпремией СССР в 1987 году, а также золотой медалью имени Грекова. Коржев утверждал, что не считает себя художником, который занимается военной темой, и, возможно, благодаря этому его полотна не были загнаны в рамки цеховых канонов и выглядели необычно. Прототипом героя картины «Следы войны» 1963–1964 годов был реальный человек — ветеран-танкист, хотя в целом образ скорее собирательный. Портрет напоминает фото на документы — фронтальное оплечное изображение мужчины в гимнастерке на нейтральном фоне. Большую часть двухметрового холста занимает лицо фронтовика, половина которого сильно обожжена. С нетронутой половины приветливого, но сдержанного лица на зрителя пристально смотрит голубой глаз. Это взгляд, от которого ничего не может утаиться. Живописно-пластическая материя создается из наслоений пастозных мазков, которые на расстоянии дают эффект живой вибрирующей плоти.
Коржев не делит жизнь героя на до и после, напоминая, что эти люди, пусть и увечные, стигматизированные, тоже строители нового мира, поколение титанов, они рядом и имеют право на полноценную жизнь. В глазах государства инвалиды стали почти невидимыми, понятие победы, празднование которой в 1965 году стало официальным праздником, со временем заслонило реальных людей и вытеснило память об израненном, травмированном коллективном теле. Общим переживанием для шестидесятников становится утрата понимания между поколением фронтовиков и молодежи, которых разделяла экзистенциальная пропасть опыта жизни и смерти.
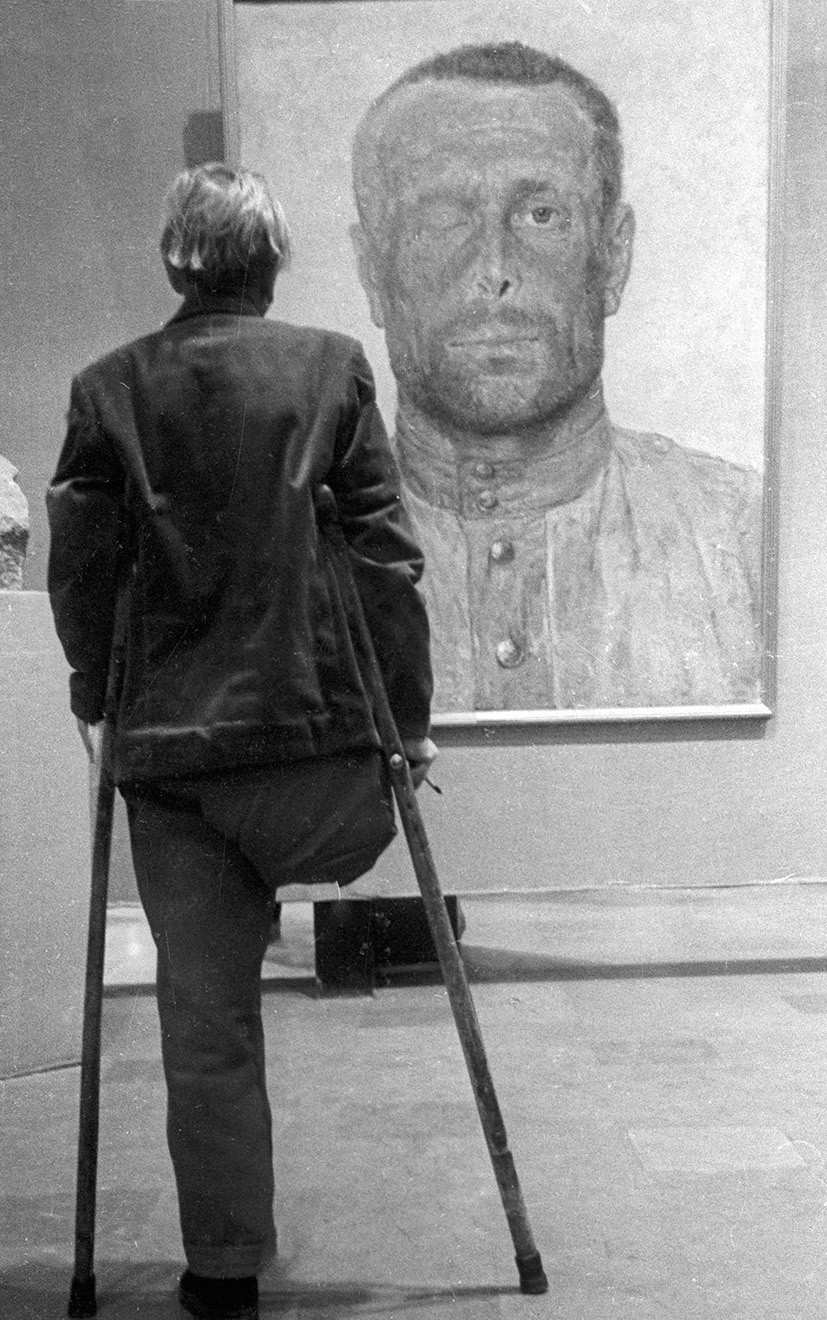
Хотя карьера Коржева в 1970-х стремительно развивалась, его сюжеты наполнились чувством разочарования. Идеи и устремления шестидесятников не нашли своей полноценной реализации, страна вошла в период стагнации, и тонко чувствующий настроения общества Коржев создает первые полотна социального цикла. В абстрактном темном пространстве на медицинской кушетке сидит отчаявшаяся и примирившаяся со своим диагнозом женщина — «Обреченная». Ее тронутая тленом обнаженная плоть, сплетенная из слоеной сетки охристых, голубых, розовых, фиолетовых и серых мазков, еще живет, но трагический конец неминуем. В образе врача Коржев пишет свой автопортрет, он фиксирует прогрессирующую болезнь и ставит диагноз современному обществу. Сам художник называл свой реализм социальным, потому что работал для народа и стоял на защите его интересов по примеру передвижников. Вот что писал Коржев: «…реализм — это синоним правды. Но правда нелегко дается, и у правды всегда найдутся противники. Быть реалистом в искусстве поэтому так же важно, так же трудно и так же беспокойно, как быть честным и бескомпромиссным в жизни» Г. Коржев. Размышления..
Женские героини в сюжетной живописи и в жанре ню — например, «Маруся», «Нюра», «Квартирантка» — не соответствуют общим стандартам красоты. Коржев пишет их со скуластыми, грубыми лицами, натруженными руками, со всеми несовершенствами, часто скрывает их взгляды. Коржев делит тело на личную зону — телесную оболочку, полную витальной нерастраченной энергии, — и общественную — руки, лицо, ступни, — противопоставляя их друг другу. Фактурная живопись с внутренним свечением, тонко подобранный колорит работают на идею автора, заставляя зрителя считывать тело-текст, которое рассказывает о трагедии нереализовавшейся женщины, познавшей тяжкий труд, лишения и разочарования. Возможно, это трагический образ самой России.

Пенсионеры, ветераны, алкоголики, безработные и бродяги представали в картинах Коржева брошенными, одинокими, обессиленными и смирившимися. Но сама плоть, материя жизни в их телах еще сопротивляется, и в этом есть остатки надежды на спасение. Коржев говорит своему зрителю, что стигматизации можно избежать, если постараться изменить угол зрения с осуждения и отвержения на сострадание и понимание, если сделать шаг навстречу нуждающемуся, взять на себя личную ответственность.
В середине 1980-х Коржев уходит со всех постов, завершает педагогическую и публичную карьеру. С этого времени и до 2010-х он работает над библейским циклом. Ему важен диалог между прошлым и будущим, жизнью и смертью, надеждой и разочарованием. Образы Адама и Евы, Марии Магдалины, Христа и его учеников имеют реальные прототипы и перекликаются с персонажами из других циклов мастера.
Коржев тяжело пережил распад Советского Союза, считал, что ценность искусства утрачена, а на смену пришла коммерция. Не принял он орденов и наград от правительства новой России. Результатом его размышлений на тему нравственной трансформации социума, доминанты иррационального в истории станет цикл с загадочными монструозными героями — тюрликами, которые, захватив власть, сделали людей, забывших о чести, совести и человечности, своими послушными слугами в обмен на материальные блага.
Художник для Коржева — это не только творец и мыслитель, но и пророк. Истинная мера пророческого дара в его понимании измеряется философской глубиной в постижении действительности и человеческих характеров, проникновением в неразгаданную тайну бытия, прозрением и предвидением. Вот что сам Гелий Коржев говорил о сути искусства и миссии художника:
«Искусство, подлинное искусство живет только утверждением добра, света, будущего, человечности. <…> Причем утверждение идеала должно быть абсолютно подлинным, когда зритель, слушатель, читатель безусловно верят художнику. А это может случиться, если сам художник верит в свою идею…» Г. Коржев. Размышления..
Визитная карточка Таира Салахова была репрезентативна и солидна — профессор ведущих художественных вузов СССР и Азербайджана, лауреат всевозможных советских и постсоветских государственных премий, многолетний член руководства Союза художников СССР, академик многих академий художеств, ну и, разумеется, прижизненный классик.

Поначалу трудно поверить, что эту блестящую, поистине головокружительную карьеру проделал мальчик из многодетной семьи арестованного в 1937 и спустя несколько месяцев расстрелянного партийного работника из Баку Теймура Салахова. Семья узнала о смерти отца только после ХХ съезда КПСС, получив документ о его реабилитации в 1956 году. Но за все эти долгие годы, когда, по словам художника, из страха никто не осмеливался зайти в дом врага народа и не подавал им руки, дети ни разу не усомнились в честности своего отца. Для Салахова стало делом жизни, как он неоднократно говорил в своих интервью, возродить доброе имя отца и матери, и это обостренное чувство справедливости не один раз заставляло его поступать вопреки общему мнению.
Возможно, именно отец впервые пробудил интерес сына к рисованию. Приходя усталый с работы, чтобы угомонить докучливых мальчишек, он придумывал для них интересные занятия — например, конкурс, кто лучше нарисует Чапаева, а пока те увлеченно соревновались, засыпал, положив под серебряную чернильницу рубль — награду победителю.
С годами тяга к рисованию была осознана как желание стать художником, как призвание. В год окончания войны, в 1945-м, Салахов поступил в Азербайджанское художественное училище имени Азима Азимзаде. Окончив его, уехал в Ленинград, мечтая о поступлении в Академию художеств. Вступительные экзамены сдал успешно, однако, как сын репрессированного, принят не был. В Баку все-таки не вернулся — помог случай, и его приняли в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище, а через год он переехал в Москву и поступил в Институт имени Сурикова, который окончил в 1957 году.
Будучи студентом, Салахов женился на студентке театрального факультета Суриковского института Ванцетте Ханум, в этом браке родились две дочери — Алагёз и Айдан.
Один из своих шедевров — портрет своей младшей дочери Айдан — Таир Салахов напишет в 1967 году и сделает это вразрез с традицией жанровых произведений на детскую тему, очень популярных в отечественном искусстве 1940–50-х годов. Эти произведения представляли современный быт и были буквально собраны из множества конкретных, узнаваемых и занимательных деталей, как, например, всем хорошо известные картины Федора Решетникова «Опять двойка» (1952) или «Прибыл на каникулы» (1948).

Замысел портрета родился у Салахова из мимолетного эпизода, тогда трехлетняя Айдан в нарядном белом пальто ловко оседлала только что подаренную ей на день рождения деревянную лошадку — белую, с алой шелковой уздечкой, пышной гривой, лакированными черными копытцами и большими добрыми глазами. Художник перехватил этот момент и перевел быстро промелькнувшую домашнюю сценку в монументальный регистр на холсте. В картину не попали ни дом, полный гостей, ни шумное веселье праздника, как это было принято в живописи недавнего прошлого. На полотне не осталось ничего, кроме ребенка с игрушкой на фоне голубоватой, будто фосфоресцирующей стены.
Очистив пространство от бытовой обстановки и отказавшись от подробного рассказа о радостном событии, Салахов убрал все лишние эмоции и фокусом композиции сделал лицо девочки. Как на парадном конном портрете, Айдан застыла верхом на игрушечной лошадке, глядя на зрителя строгим взглядом испанской инфанты. Неожиданным образом реминисценции барочного парадного портрета соединились с лаконичной, обобщенной пластикой позднего советского модернизма. Созданный живописцем детский образ, в ослепляющей чистоте белых одежд, не по возрасту серьезный и далекий от инфантильности, ясное и бескомпромиссное детское восприятие действительности отвечали целям нового этапа советского искусства. Начало ему было положено на рубеже 1950–60-х годов в творчестве мастеров «сурового стиля», одним из зачинателей и лидеров которого был Салахов. В их этическом кодексе не было места ни фальши, ни пафосу, которым было переполнено искусство
В аскетичном цветовом решении портрета доминирует знаменитая салаховская трехцветка — белый, красный, черный, — которая символизировала для него тему бессмертия творческого гения. Как знать, не было ли это предвидением судьбы маленькой Айдан как будущей «амазонки постмодернизма»? Интуиции художника, как правило, следует доверять, особенно такого, как Салахов, который любил повторять: «Мое отношение к детям и ученикам в первую очередь зависело от их таланта» Таир Салахов: «Мое отношение к детям и ученикам в первую очередь зависело от их таланта» // Артгид. 29 ноября 2013 года.. И Айдан Салахова стала художником и скульптором, в 1989 году открыла первую в СССР частную художественную галерею и до сих пор остается одной из ключевых фигур современного российского искусства.
В одном ряду с портретом Айдан стоит написанный несколькими годами ранее «Портрет композитора Кара Караева» (1960), ставший также одним из манифестов «сурового стиля». Перед Таиром Салаховым стояла во всех отношениях ответственная задача написать портрет Кара Караева (1918–1982) — азербайджанского композитора-новатора, ученика Дмитрия Шостаковича, дважды лауреата Сталинской премии, профессора, академика и общественного деятеля. Портрет должен был запечатлеть облик Кара Караева и продемонстрировать его солидный официальный статус. Поэтому может показаться странным утверждение приступившего к работе Салахова, что в портрете всегда, конечно, важно сходство, но все-таки не это является определяющим началом, художника должна интересовать суть человека, его внутреннее состояние.

Работа над портретом началась в 1959 году, когда в филиале Большого театра СССР шла подготовка к московской премьере балета Кара Караева «Тропою грома». Либретто балета — и это важный штрих, указывающий на актуальность избранной композитором темы, — было написано по роману современного южноафриканского писателя Питера Абрахамса, активно выступавшего против расизма и апартеида.
Как всегда, Салахов начинал с натурных зарисовок, приходил в театр на репетиции, наблюдал за композитором во время работы. После этого прошел почти год, прежде чем у художника сложился окончательный замысел портрета.
Натурные впечатления отошли на второй план. Выбранный вначале статичный квадратный холст был заменен на динамичный горизонтальный. Все пространство картины заполнил массив рояля, обрезанного и справа, и слева, словно являя собой зримый отрезок бесконечности, соизмеримой с масштабом творческих задач, стоящих перед композитором. Кара Караев изображен на фоне рояля, его поза передает напряжение собранной в кулак воли и скрытую внутреннюю энергию. Никакой комплиментарности, ни малейшего намека на творческий беспорядок или артистизм — все предельно рационально, строго и лаконично. Легкий цветовой акцент вносят красные корешки нотных тетрадей — особая салаховская «красная метка». На одном из сеансов Салахов попросил Караева надеть белый свитер, тем самым напомнив о кумире шестидесятников Эрнесте Хемингуэе, чье мировосприятие и особенности писательской манеры рифмовались с живописью мастеров «сурового стиля».
Кара Караев на портрете Салахова — не просто композитор, это творец и мыслитель, его образ воплощает этический идеал шестидесятников, их представление о новом герое и о том, каким должен быть современный художник. Ему претят фальшь и пафос, а творчество становится средством утверждения социальной справедливости.
И все же главной в то время темой для Салахова, как уроженца Азербайджана, оставалась нефть — важная составляющая его национальной идентичности. Еще будучи студентом, каждое лето, уезжая на каникулы на родину, он писал рабочих на нефтяных промыслах, поселок нефтяников в акватории Каспийского моря — Нефтяные Камни. Накопленные впечатления и огромный этюдный материал легли в основу его дипломной работы «С вахты» (1957). В вытянутый горизонтальный прямоугольник художник написал группу рабочих — бригаду, возвращающуюся после смены, быстро идущую по высокой эстакаде, преодолевая сопротивление встречного шквального ветра. Бьющие в эстакаду волны, крикливые чайки, наконец, сама эстакада как постамент для героев — все вместе складывается в образ, полный романтики, где повседневное приравнивается к героическому, что как нельзя более соответствовало духу наступившей оттепели.
Но очень скоро оптимизм вахтовиков сменила мрачноватая романтика «Резервуарного парка» (1959), где на фоне закатного, почти инфернального неба изображены резервуары с нефтью, отражающиеся в мазутном озере, и ссутулившаяся фигура одинокого рабочего. Салахов не боялся показать в живописи непарадную сторону профессии нефтяников, сопряженной с постоянным риском (одну из своих картин он посвятил памяти погибших нефтяников), и, как следствие, заслужил со стороны критиков упреки в том, что в его произведениях «нет радости труда, а есть одно сплошное упадничество».

Центральное место среди произведений на нефтяную тему заняли «Ремонтники», написанные в 1960 году. Картина сразу стала канонической для «сурового стиля» — трое мужчин в ночи на катере, вспарывающем черные воды Каспия, направляются к месту аварии. Художник изобразил огромные фигуры рабочих сидящими, их неподвижность и даже застылость словно притормаживает общее движение в глубину картины, фронтальный разворот композиции, монохромный ночной колорит с преобладанием серого и коричневого превращает запечатленный момент в своего рода памятник. Но есть у этой картины одна особенность, которую не разглядеть с первого взгляда, — это совершенно неожиданная, почти неправдоподобная деталь: один из рабочих держит в руках цветок. И деталь эта не выдумана художником, Салахов сам, впервые увидев, был поражен тем, что нефтяники, отправляясь на вахту, брали с собой цветы. Так и здесь он написал белую розу, этот нежный, живой бутон, который в условиях суровой вахты будет напоминать мужчинам о доме, о семье и о близких, оставшихся на берегу в тревожном ожидании.

В середине 1960-х в творчестве Салахова складывается особый тип национального пейзажа, в котором типичные азербайджанские мотивы преломляются через призму фольклорного мировосприятия. Так вырастает до небес, подобно Вавилонской, Девичья башня («Девичья башня», 1969), заслоняющая собой солнце. Цветные ветряки, как повелось с незапамятных времен в тех краях, качают пресную воду в апшеронских селениях («Апшеронский мотив», 1963), а нахичеванские горы кажутся игрушкой, вылепленной руками сказочного великана («Нахичеванские горы», 1971). У художника появляется заметная дистанция по отношению к тому, что он изображает, и, как следствие, меняется стиль его работ, становясь в ряде произведений все более условным. Меняется и общий эмоциональный фон: чувствуется скрытое беспокойство, тревога, подавленное волнение, выражаемое с подчеркнутой экспрессией. И что немаловажно, Салахов уходит от нефтяной темы.

Десять лет отделяют полотно «Женщины Апшерона» (1967) от не менее знаменитой картины латышского художника Эдгара Илтнера «Мужья возвращаются» (1957). В их сопоставлении, в их непроизвольном диалоге отчетливо проступает историческая дистанция, отделяющая начало оттепели от ее завершения. Илтнер передает драматизм момента, когда жены рыбаков выходят на берег встречать мужей: закаленные годами ожидания, несгибаемые и тем не менее взволнованные, они стоят, подставив лица ветру, они стоят перед зрителем, глядя ему в глаза. У Салахова все женщины, разлученные морем со своими мужьями, братьями, отцами, скорее разобщены, чем объединены, лишь одна из них всматривается в морскую даль. Каждая замкнулась в себе, ушла в свои переживания, но вся их общая затаенная боль прорывается наружу во взгляде еще не старой женщины с худым выразительным лицом, обрамленным широкими седыми прядями.
Не остается места мелочам и деталям, повседневная жизнь словно отступает, и кажется, что время замедляет ход. Ожидание апшеронских женщин — это длящееся состояние, константа их жизни, проходящая через детство, молодость, зрелость.
Одной из этих женщин могла быть и мать Таира Салахова. Ее звали Сона Дарьях кызы Салахова, или просто Сона-ханум. Ей суждено было прожить трудную и долгую жизнь. Почти 20 лет Сона-ханум ждала возвращения арестованного мужа, не зная о его смерти. За эти годы она в одиночку вырастила пятерых детей, увидела своих внуков, дождалась правнуков, и у нее была счастливая старость.

Началом 1980-х годов датируется несколько портретов Соны-ханум. Художник не стал писать мать в окружении детей и внуков, какой ее можно видеть на многочисленных семейных фотографиях. Кажется странным, что Салахов пишет мать всегда одну и — что самое неожиданное — словно отвернувшуюся. Но этому есть свое объяснение: по сути, созданные в эти годы портреты стали прощанием с матерью накануне неизбежного расставания с ней, накануне ее ухода.
Когда-то, еще в 1950-х годах, Салахов привез из Крыма росток агавы. Растение прижилось, разрослось и в

У Соны-ханум усталая поза, сомкнутые натруженные руки, они написаны обобщенно, без детальной прорисовки и создают вокруг нее своего рода зону отчуждения, оберегающую от праздного любопытства. В лице акцентирован только взгляд, сосредоточенный, зоркий и немного жесткий, устремленный за пределы холста, — это образ матери, очень близкий художнику, но уже далеко не будничный, с той мерой обобщения, которая выводит его из текущего сиюминутного времени.

Тогда же Салахов пишет стул на веранде с видом на море, где любила сидеть Сона-ханум, вглядываясь в морскую беспредельность («Утренняя веранда», 1980). Ее постоянное состояние — это ожидание: сначала — мужа, потом — повзрослевших и разлетевшихся по свету детей; наконец, ожидание приближающегося собственного ухода. «Ожидание» — так назвал художник один из портретов матери, хранящийся в Пермской галерее. В дверном проеме он пишет мать, сидящую спиной, следя за ее уходящим за горизонт взглядом. Берег моря («сей жизни брег», по выражению Гавриила Державина), распахнутые ворота, порог, дверной проем собираются в развернутую метафору окончания земного пути, завершения земных трудов и неизбежного, в наступивший черед, ухода.
Когда в 1970 году художник приобрел дом в Нардаране, рыбацком поселке на берегу моря на Апшеронском полуострове, в его творчестве прочно утвердилась еще одна тема — апшеронская.
Для азербайджанских художников Апшеронский полуостров, Апшерон, — это особая земля со своими красками, ритмом жизни и течением времени. Здесь скалистая почва, вода, отдающая серой, леса нефтяных вышек, воздух, пропитанный запахом моря и керосина. Небо над Апшероном «желтое, горячее, струящееся» Из воспоминаний художника Расима Бабаева., оно стекает на раскаленные, отливающие серебром пески, и от их соединения рождается «вековечное молчание».
Апшеронская тема у Салахова раскрывается в двух ипостасях — в пейзаже и натюрморте. В известном смысле Салахов — прирожденный классик. Он использует оптику каждого жанра в кульминационной точке его развития. Например, обращаясь к пейзажу, художник видит в нем не просто место действия, его интересует прежде всего собственная жизнь природы, ее состояния и непрерывная изменчивость. «В пейзаже, — писал историк искусства Борис Робертович Виппер Борис Робертович Виппер (1888–1967) — историк искусства, теоретик, педагог и музейный деятель, один из создателей советской школы историков западноевропейского искусства., — мы чувствуем наши настроения, нашу энергию, нашу мощь и бессилие, в пейзаже человек, архитектура, кусок скалы, брошенный плащ и мы сами — все растворяется и становится частицей мирового ритма, вечного брожения стихии. В пейзаже и камни начинают говорить — и мертвая природа просыпается».




И Салахов пишет Каспий — тихий и штормящий («Тихий Каспий (Скалы)», 1978; «Волны Каспия», 1977), его всегда пустынные берега, камни («Утро на Каспии», 1978), редкую растительность, ослепительное небо. На картинах возникают безлюдные улицы апшеронских селений («Улица в Нардаране», 1978), а в горизонтальной монотонности пространства теряется кажущаяся необитаемой стереометрия южных построек («Полдень в Нардаране», 1980).
Салахов подхватывает натюрморт в той точке его развития, когда он становится единственной и нераздельной живописной темой и, более того, превращается в синоним живописи. Апшеронские предметные композиции соседствуют в полотнах художника с чистым холстом как метафорой второй реальности, в которую они должны воплотиться («Натюрморт с венским стулом», 1976). Деревенская утварь, выложенная на кухонном столе в проеме картины-окна, рыболовные снасти, оставленные на стуле у приоткрытой двери, — все эти предметы существуют на грани двух миров. Здесь сходятся противоположности: близкое и далекое, единичное и множественное, личное и всеобщее, даже реальное и воображаемое. Поляризованный мир смыкается, демонстрируя диалектику перехода от замкнутого и закрытого к безграничному. И этот выход вовне приравнивается к обретению свободы.

В 1990-е годы резко изменили жизнь бывшего СССР. Социальные надломы — распад Советского Союза, внутриполитическая нестабильность в Азербайджане 1990-х годов — не могли не сказаться на творчестве художника, окрасив его в тревожные, подчас трагические тона, хотя ни в одной из его работ эти события не нашли прямого отражения.
Живопись Салахова меняется. Она, вопреки всему, приобретает небывалую прежде цветонасыщенность, фактурную эффектность, раскрепощенность и свободу.
Эта новизна отличает натюрморты, созданные в 1990–2000-е годы. Лучшие из них посвящены Варваре, другу, жене и музе, которая больше 30 лет находилась рядом с художником.
В 1958 году Салахов написал один из самых известных своих натюрмортов — «Гладиолусы». Он изобразил цветы на облупившемся, ярко освещенном подоконнике в проеме распахнутого настежь окна, а внизу во дворе, у дома напротив, — новенькую «Победу» и рядом с ней тех, кто, похоже, собирается ехать (по белому платью девушки можно предположить, что это молодожены, начинающие новую жизнь). Без малейшего нажима на полотне возникал образ зарождающейся надежды и столь желанной, ничем не ограниченной свободы.

Натюрморты, написанные полвека спустя, монументальны (и не всегда только по размеру) и
У каждого художника есть по крайней мере два времени. Первое — это время реальное, в котором он живет, не выбирая его, оно складывается из событий, работы, поступков, встреч — словом, всего того, что в конечном итоге становится его биографией. Второе — это время художественное, которое он проживает в созданных им произведениях и которое прямо или косвенно становится смыслом и сутью его творчества.
Своим солидным административным потенциалом Салахов мог распоряжаться исходя из личных представлений о должном и необходимом. Во многом благодаря именно Салахову советское искусство круто изменило вектор своего движения в конце 1980-х, когда он, будучи первым секретарем Союза художников СССР, впустил актуальное искусство в СССР, организовав в Москве выставки мировых знаменитостей — американцев Роберта Раушенберга и Джеймса Розенквиста, англичанина Фрэнсиса Бэкона, мексиканца Руфино Тамайо, Жана Тэнгли из Швейцарии, Джорджо Моранди и Янниса Кунеллиса из Италии, Гюнтера Юккера из Германии. Он защищал художников-нонконформистов, участников «Бульдозерной выставки» 1974 года, настаивал на принятии в Академию художеств представителей альтернативного искусства, например Олега Кулика. Он высоко ценил творческую индивидуальность и за долгие годы преподавания выпустил сотни учеников, ни один из которых не стал подобием своего учителя.
Но при этом Салахов сумел сохранить свой собственный дар — чувствовать время, видеть и слышать его, реагировать на происходящие перемены и запечатлевать это движение в своих работах.
В наше время принято говорить о художественных рейтингах и стоимости произведений искусства. И с этой точки зрения картины советского периода, за редким исключением, намного проигрывают авангарду или работам знаменитых концептуалистов. Но есть несколько художников, картины которых оцениваются очень высоко. Один из них — Виктор Попков. В феврале 2014 года в Венеции, в выставочном зале Центра изучения культуры России при Университете Ка’ Фоскари, открылась выставка «Виктор Попков. 1932–1974. Сон и реальность». В марте выставка переместилась в Лондон, в западное крыло Сомерсет-хауса. Это была едва ли не единственная (если не считать выставки Гелия Коржева) масштабная персональная зарубежная выставка отечественного художника, представлявшего в свое время — хотя и с некоторой оговоркой, об этом я скажу позже — официальное советское искусство.
Художником русской души и большой русской совести назвал Виктора Ефимовича Попкова его старший современник Гелий Коржев. В Лондоне упомянутая выше выставка так и называлась «Виктор Попков. Гений русской души». В воспоминаниях друзей и близких художника, собранных после его трагической гибели в «Книге о художнике Викторе Попкове», мастер предстает необыкновенно отзывчивым и внимательным другом. Из этих текстов складывается ощущение, что Попков считал всех своих друзей и знакомых, собратьев по художественному цеху, людьми, принадлежащими не просто официальному Московскому союзу художников, а именно творческому братству. Он многим помогал: покупал картины у тех, у кого не получалось заработать своим ремеслом, поддерживал творческим советом или заказывал новую серию работ.
На Западе, особенно в Америке, середина XX века была временем акционизма. Историки искусства и литературоведы сходятся в том, что в этот момент внимание зрителя переместилось с героя произведения на его создателя. Автора перестали отделять от его творения, позже и сам автор стал восприниматься как произведение искусства. Этот запрос уже очень хорошо поняли и Дали, и Пикассо. И хотя Попкова ни в коей мере нельзя отнести к направлению акционизма, его творчество совершенно невозможно воспринимать отдельно от его личности, от его человеческой позиции.
Так, можно назвать смелой акцией публичную критику Виктора Попкова в адрес главы Московского союза художников — именитого Владимира Серова, который определял выставочную политику и держал в своих руках распределение заказов. Кроме того, Попков несколько раз довольно резко высказывался в защиту своих товарищей-художников, подвергавшихся критике со стороны мастеров старшего поколения. Трагическая, почти невероятная для советского застоя начала 1970-х гибель Попкова (он был убит выстрелом инкассатора в центре Москвы, на Тверской), можно сказать, осиротила многих художников. Об этом — большая картина Игоря Обросова «Похороны Попкова», где у гроба друга стоят почти все известные теперь мастера той поры. Мистика внезапного ухода Попкова продолжает оставаться неотделимой от его художественного образа. А одна из его последних картин, на тот момент считавшаяся незаконченной, «Осенние дожди. Пушкин», которая на прощании стояла у его гроба, не только завершила творческий путь художника, но и связала его с классической русской культурой.

Попков — настоящий самородок. Его родителями были простые рабочие люди, выходцы из крестьян, оба со Смоленщины. Мать Степанида Ивановна и отец Ефим Акимович во время голода в 1920-е годы перебрались в Москву. Несколько раз переезжали и наконец поселились в подмосковных Мытищах, где отец получил место на кирпичном заводе, мать — в пекарне. Когда Виктору было девять лет, началась война, отец ушел на фронт. А через несколько месяцев пришло последнее письмо, следом за которым приехал сосед и рассказал о гибели отца. Мать осталась с четырьмя детьми на руках. Николаю — одиннадцать, Виктору — девять, Тамаре — четыре, младшему Анатолию было несколько месяцев, вскоре он умер от дизентерии. Несмотря на полное лишений военное и послевоенное детство, у Виктора очень рано проявились талант к рисованию и желание учиться. Мама, словно стараясь выполнить последний наказ отца — «Если сможешь, выучи детей», — всегда поддерживала сына. В третьем классе Виктор записался в изостудию при заводе им. Калинина в Подлипках. В студию Виктор увлек и своих приятелей, некоторые из них стали художниками, как, например, Виктор Барвенко (его картины хранятся сейчас в фондах Третьяковской галереи). Барвенко вспоминал, что Виктор устроил в саду мастерскую и уже тогда все свободное время рисовал.
В 1948 году Попков поступает в художественное училище. Вместе с ним будут учиться его будущая жена Клара Калинычева, Игорь Купряшин, Виктор Барвенко. Выпускной работой будет портрет Николая Островского, автора романа «Как закалялась сталь».
В 1952 году Виктор Попков выдержал экзамен на графический факультет Суриковского института. При всей радости успеха было и огорчение. В то время в Суриковский институт был очень большой конкурс, поскольку реорганизовывали Московский институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Виктор, даже при его блестящих балах, не попал на живописное отделение. Живописцы, в отличие от графиков, в то время задавали тон, их произведения экспонировались на городских и общесоюзных выставках, обсуждались в прессе. Правда, следствием этого был и больший надзор за живописцами — чиновники от искусства следили и за художественным стилем, и за тематикой. А на графическом факультете было больше свободы, именно творческой. Опытные преподаватели знакомили студентов с техниками и направлениями, которые не особенно приветствовались у живописцев. Графический факультет, а затем работа в иллюстрации и сотрудничество с книжными издательствами станут нишей, в которой укроются от официального искусства будущие художники-концептуалисты, получившие мировое признание: Илья Кабаков, Эрик Булатов, Олег Васильев. Для Попкова же графический факультет окажется тем местом, где раскроется его страсть к новаторству, будет отточено композиционное мастерство и смелость в обращении с цветом.
Клара Калинычева, которая стала прекрасным иллюстратором книги и долгие годы сотрудничала с издательством «Малыш», поступила в Суриковский институт в 1953 году, на год позже Попкова. В 1957-м, после окончания Попковым института, они поженятся, родится сын Алексей. Для Клары Калинычевой графика станет призванием, несколько поколений детей вырастет на книгах Бориса Житкова, Самуила Маршака и Редьярда Киплинга с ее иллюстрациями.
Во время учебы в институте Попков жил с матерью, братом и сестрой в бараке недалеко от станции Челюскинская. Учился он отлично, получал сначала повышенную, затем Сталинскую стипендию. Помогал родным. Мать вспоминала, как по ночам, чтобы их не будить, Виктор уходил в неотапливаемый коридор и там подолгу рисовал. Друзья и родные Попкова вспоминают, что рисовал он повсюду, некоторые художники даже упрекали его в неразборчивости, но позже признавали, что его неустанная работа и творческий поиск всегда следовали скрытому от внешних глаз замыслу, который рано или поздно разрешался большой картиной.
В Суриковском институте Попков попадает в мастерскую Евгения Адольфовича Кибрика. Активно изучает историю искусства. Отношения между учителем и учеником складывались сложные. Кибрик видел безусловное дарование Попкова, но был к нему
«Он умел учиться, а это верный признак таланта. Я имею в виду не пассивное, послушное выполнение советов учителя, но активную жадность к знанию того, что составляет сложное и высокое ремесло художника» П. П. Козорезенко мл. Виктор Попков. М., 2012..
Попков уже в институте активно отстаивает свою позицию, как творческую, так и общественную. Выступает на комсомольском собрании по поводу недостаточного качества преподавания некоторых предметов.



Для дипломной работы была подготовлена серия «Транспорт» — десять больших акварелей и три цветные линогравюры, в то время как требовалось три-четыре графических листа. О своей защите он вспоминал: «Защита прошла с блеском. Был героем дня. Для матери это один из самых счастливых дней. Ей хлопали за такого сына. Она плакала, да и не только она» П. П. Козорезенко мл. Виктор Попков. М., 2012.. Сначала три линогравюры, а потом и вся серия были приобретены Третьяковской галереей. Одну из линогравюр, «Монтажники на проводах», опубликовала «Комсомольская правда». Вскоре после защиты Попков получил мастерскую на Фрунзенской набережной и переехал с женой в Молочный переулок.
Еще в институте начинаются его поездки по стране, так называемые творческие практики. В 1956 году он посещает строящуюся Иркутскую ГЭС, в 1959-м едет на стройку железной дороги Абакан — Тайшет, в 1960-м — на Братскую ГЭС, в 1961 году отправляется в Казахстан, на целину.
В 1958 году на выставке молодых художников Попков дебютировал полотном «Молодость», которое сразу было опубликовано в журналах «Огонек» и «Смена».
Как я уже говорила, Виктор Попков хотел стать именно живописцем, и, хотя ему не удалось поступить на отделение живописи, это желание не исчезло. В 1959 году он отправляется на творческую дачу в Переславль-Залесский. В советское время для художников в разных уголках Союза, чаще всего в бывших барских усадьбах, устраивались дома творчества или творческие дачи. Здесь художники работали над своими большими картинами, собирали материал, делали натурные или пленэрные зарисовки, обменивались впечатлениями. Дом творчества художника Дмитрия Николаевича Кардовского тоже в прошлом был усадьбой. В 1918 году в нем был устроен первый переславский музей, а в 1954-м имение было передано в дар республиканскому Союзу художников. Руководителем творческой мастерской в 1959 году был живописец Эдуард Браговский. Именно у него Попков учится живописи. Грунтовать холст, натягивать его на подрамник, знать особенности наложения масляных красок и лаков, работать с большими композициями — этому всему Виктору Попкову пришлось учиться, ведь графики обычно пишут на бумаге гуашью, акварелью, тушью и в других техниках.
В этом же году Попков также впервые побывал за границей как участник выставки советской живописи в Германской Демократической Республике и выставок молодых советских художников в Венгрии и Польше, где его работы имели заслуженный успех. В 27 лет он вступает в МОСХ. Можно сказать, что его творческая жизнь начиналась очень успешно. Этому помогало и то, что происходило вокруг, сама атмосфера общественной жизни.
Перемены были во многом связаны со смертью Сталина в 1953 году и осуждением культа личности на XX съезде ЦК КПСС в 1956-м. Началась оттепель, а в 1957 году в Москве состоялся Международный фестиваль молодежи и студентов, который вывел на художественную сцену много новых имен. Эти мастера осваивали разнообразные стили и направления, их интересовали в том числе и авангардистские практики, прежде всего абстракция, которая раньше была под запретом. Это, правда, в большей степени касалось художников, которых сейчас принято называть неофициальными. Но в тот момент этого термина не существовало, как не существовало для художников молодого поколения и возникшего значительно позже представления о двух разных мирах советского искусства — официальном и неофициальном.
На выставках в рамках фестиваля впервые были показаны работы молодых художников. Причем картины Гелия Коржева, Таира Салахова, братьев Ткачевых и, например, Оскара Рабина, Владимира Немухина, Олега Целкова выставлялись одновременно.
В это время начинает складываться новый стиль, после продолжительной публицистической полемики названный искусствоведом Александром Абрамовичем Каменским «суровым стилем». Виктор Попков оказался одним из создателей этого направления.

Как я уже говорила, в конце 1950-х Попков вместе с другими художниками — выпускниками Сурикового института отправляется на большие советские стройки. Страна в это время восстанавливалась после разрушительной войны. Художник оказывается в Иркутской области, на реке Ангаре, на строительстве гидроэлектростанции севернее старинного села Братского, возникшего в XVII веке как острог (сейчас это город Братск). Искусственное водохранилище, росший вокруг него новый город — Попков делает бесчисленное количество зарисовок. Он решается на создание масштабного полотна, посвященного, как сам он потом скажет, его величеству рабочему классу. Картина «Строители Братска» (1960–1961) — станет этапным произведением не только в творчестве Виктора Попкова, но и в истории отечественной живописи середины XX века. Композиционное решение, найденное художником, будет растиражировано и много раз повторено. Герои картины Попкова изображены не в процессе ударного труда, а словно предстоящими, по собственным словам автора, как на иконах. Замысел возник за неделю до отъезда в Москву. Никто из друзей не одобрил эскизы, но поддержал учитель — Евгений Адольфович Кибрик. Картина была написана за очень короткое для создания такого масштабного полотна время — ее размер повторяет ширину стены мастерской Попкова в Молочном переулке. В этой картине Попков впервые обращает внимание зрителя не на процесс строительства — панорама стройки едва распознается вдали на заднем плане, — а на людей. На темном ночном фоне в полный рост изображены строители, монтажники, регулировщица. Автор не останавливается на том, чтобы показать профессию своих героев. На их лицах можно прочесть характер и даже настроение. Клара Калинычева рассказывала, что у мужчин на руках были изображены татуировки, так как на строительстве ГЭС работало много заключенных, но затем по ее совету Попков убирает эту деталь.
Когда работа была закончена, друзья-художники Попкова ее не оценили. Ему для создания новой большой картины была необходима лаконичная и выразительная живописная манера, и он обратился к творчеству Павла Корина и соцреалиста старшего поколения Корнелиу Бабы. Оперевшись на художественный язык Корина и изменив его, Попков создал свою работу. Друзья-художники посчитали коринскую манеру устаревшей. Павел Корин не был запрещенным художником, а с новизной тогда ассоциировалась запретность. Запретным было творчество русских сезанистов группы «Бубновый валет», к стилистике которых обращаются в тот момент многие молодые художники круга Попкова в поисках новой художественной манеры. «Бубновых валетов» не выставляли, но все же на старших курсах живописных факультетов студенты посещали закрытые фонды Третьяковской галереи, где могли видеть работы русских сезанистов. Именно переработанная стилистика «бубновых валетов» станет позже живописной манерой растиражированного «сурового стиля». Хотя друзья-художники и не оценили «Строителей Братска», но оценили искусствоведы. Картина была приобретена Третьяковской галереей, о ней писали журналы «Юность», «Творчество», «Московский художник». «Строителями Братска» Попков, можно сказать, сформулировал и одновременно завершил «суровый стиль». После этой работы он уже не возвращается ни к найденной им манере, ни к композиции, но продолжает искать новые средства выразительности.
Если вернуться к вопросу об официальном и неофициальном искусстве советского периода второй половины XX века, то во многом это разделение связано со скандально известной выставкой «30 лет МОСХа». События 1 декабря 1962 года затронули не только художников, раскритикованных Никитой Хрущевым, а также главами президиума Академии художеств и Союза художников 1 декабря выставку «30 лет Московскому союзу художников» посетил Никита Хрущев и раскритиковал некоторые работы. На следующий день в «Правде» была опубликована разгромная статья, ставшая началом кампании против формализма и абстракционизма в СССР.. Под негласным запретом оказались целые художественные стили, темы и направления. Многие живописцы, скульпторы и графики оказались на задворках официальной художественной жизни. По всей видимости, скандал, который спровоцировало руководство СХ СССР на той печально знаменитой выставке, был вызван конфликтом поколений и вкусовых предпочтений внутри сформировавшейся на тот момент художественной элиты. Хотя молодые живописцы, представители левого МОСХа, попавшие под удар, позже были реабилитированы, именно с выставки «30 лет МОСХа» начался период подпольного существования для многих художников. Возникло особое явление в советской культуре, которое позже, в 1970-е годы, в журнале «А — Я», выходившем в Париже, будет названо неофициальным искусством (unofficial art).
В начале 1960-х появляются работы Попкова в модернистской стилистике, наполненные пронзительной тревожностью. Это время очередного витка холодной войны в преддверии Карибского кризиса.
В 1962 году работы Попкова показали на Фестивале молодежи и студентов в Финляндии, затем на выставках в Японии, Югославии, на 31-й биеннале в Венеции. Попков отправился в Венецию вместе с женой. Их выпустили вдвоем только потому, что в Москве оставался сын. В этом же году Попкова назначают членом комитета по присуждению Ленинских премий. Однако стоит заметить, что, несмотря на все это, никаких званий Попков при жизни не получил.

В начале 1960-х Попков активно работает по заказам Комбината живописного искусства. Картины такого рода предназначались для оформления общественных зданий и учреждений. Многие художники относились к этой работе как к халтуре. Но этого нельзя сказать про Виктора Попкова. Так, для комбината была написана картина «Сентябрь на Мезени», которая в настоящее время находится в собрании Русского музея. Сам художник на вопрос друзей о том, зачем он так выкладывается для столь незначительных заказов, говорил, что хочет, чтобы зрители, которые увидят его картину, не смогли его упрекнуть за плохо сделанную работу. Это художественное и человеческое кредо найдет свое отражение в его последней программной картине, которая завершит серию «Мезенские вдовы». Картину он назовет «Хороший человек была бабка Анисья».


В середине 1960-х будут написаны картины, отмеченные в 1967 году почетным дипломом на биеннале в Париже, — «Полдень», «Бригада отдыхает», «Двое». В творчестве Попкова в это время появляется созерцательность. Можно сказать, что эти картины озвучивают главные для Попкова темы. «Двое» — это проблема взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Здесь художник использует прием, подсмотренный у мастеров Возрождения, картины которых ему удалось увидеть в оригиналах. Сам автор упоминает Боттичелли. Фигуры девушки и молодого человека словно парят в невесомости, они расположены рядом, но в то же время окружены световым ореолом, отделяющим их друг от друга. Следом за картиной «Двое» будут «Семья Болотовых», «Развод», «Ссора», «Лето. Июль». Получившая награду картина «Бригада отдыхает» — это тема творческого общения — продолжат этот ряд работы «Владимирские художники», «Апрель», «Три художника». Несмотря на успех на биеннале, Попкова не пустили в Париж получить диплом, однако Третьяковка купила картины.


Вторая половины 1960-х станет временем расцвета творчества Виктора Попкова. Достигший признания художник найдет свою тему на Русском Севере. Он отправился туда впервые в 1965 году, хотя ничего от этой поездки не ждал. Север был в моде, туда ездили за иконами, писали натюрморты с предметами домашней утвари, о назначении которых порой не знали даже местные жители.
Почти у всех известных художников есть места вдохновения. Для Попкова, как сейчас принято говорить, местом силы стала река Мезень в Архангельской области. Художник Карл Фридман вспоминал, что когда они с Попковым впервые приехали на Север, жители местных деревень встретили их очень радушно. Это были заповедные места, где люди не запирали дома, легко пускали чужих на ночлег и не брали за это денег. Художники беседовали с хозяйками, которые были в большинстве своем одинокими старухами, рисовали их. Фридман вспоминал: «И в первый же вечер Витя воскликнул: „Карл, это же вдовы!“ И вот тогда, — пишет Фридман, — видимо, и возник замысел» П. П. Козорезенко мл. Виктор Попков. М., 2012.. О своих «Мезенских вдовах» сам Виктор Попков напишет следующие слова:
«То ли я задремал, то ли забылся, очнувшись, вдруг ясно увидел всю сцену, которая сдвинула для меня и время, и пространство, соединив воедино их жизнь, мою и жизнь погибших дорогих людей. Я вспомнил и моего в тридцать шесть лет убитого на фронте отца, и мою несчастную мать, и весь трагический смысл происходящего. Да как же так? Где их мужья, где дети? Где счастье, на которое они имели полное право?..» Книга о художнике Викторе Попкове. М., 1998.
Картины «Воспоминания. Вдовы», «Одна», «Северная песня» художник напишет, как он сам об этом будет говорить, под влиянием иконы, живописи Эль Греко и двухцветной графики прекрасного мастера Гурия Захарова.

Ключевым полотном Мезенского цикла можно назвать «Северную песню. „Ой, как всех мужей побрали на войну“», написанную в 1968 году, спустя два года после начала работы над циклом. Поначалу художник был не уверен в сюжете, так как боялся, что его могут понять буквально, воспримут картину как бытовую зарисовку. В деревне Лешуконье в те годы существовал хор, солировала в котором собирательница местного фольклора Параскева Павловна Масленникова. В деревню приехали студенты, собирающие и изучающие фольклор. Такие студенты были раньше элитой музыкальных вузов, те, кто учился на отделении композиции и теории музыки, поскольку нужно было не просто послушать старинные песни, а записать их. И не только на магнитофонную пленку, а сделать из записи хоровую партитуру. И вот деревенские вдовы поют песню молодым городским студентам.

Сюжет позволил художнику изобразить музыку. В глубине избы на окне стоит тонкий красный цветок, которой в просторечии называют «солдатская кровь», слева за столом сидят деревенские женщины, они поют. Все они похожи между собой словно созвучные голоса печальной песни, объединены вдовьей судьбой, их платья переливаются разными оттенками звучащего красного. Для художника, искавшего передачи тонкого психологического состояния своих моделей, запечатлеть в живописи песенное звучание было главной задачей. И это получилось. Фигуры студентов, словно в зеркальном отражении, повторяют общий контур поющих женщин, откликаются тем же слегка измененным ритмом — они слушают. Их силуэты проступают как на фресках, иногда выхваченные светом, вовлекаются в сложное композиционное пространство, подобное раскрывающемуся цветку, где автор уступает место зрителю. Слева у печки стоит задумчивая девочка. Она, словно душа песни, возникла из союза поющих и слушающих. Стоит она за плечом у горбуньи. Искусствовед Александр Каменский сравнит горбунью Попкова с юродивым Сурикова и нищим Серова, что уже тогда будет очень высокой оценкой картины современника.
С середины 1960-х в жизни Попкова началась черная полоса. Попков был одним из немногих, кто поддержал кандидатуру Александра Солженицына на Ленинскую премию. Как я уже упоминала, в 1968-м он открыто выступил против председателя Московского союза художников Владимира Серова. Картины Попкова практически не принимали на выставки. В 1966 году художник едва не свел счеты с жизнью.
В это же время художник получает мастерскую на Брянской улице, становится инициаторам выставки, где собирает 16 художников-графиков и скульпторов. Выставка оказалась громкой, руководство пытается закрыть ее, выходят ругательные статьи, которые, как обычно бывает, привлекают публику. И все же Попкова почти не выставляют, а если и разрешают, то в последний момент приходит распоряжение снять картины. Известный художник, чьи работы участвовали в зарубежных выставках, дипломант Парижской биеннале в 1970-е годы не может пробиться на крупные официальные выставки в СССР.
Последняя выставка Попкова пройдет в 1974 году в Микулино, неподалеку от съемной дачи художника, в лечебнице для душевнобольных. Попкову удалось договориться о выставке благодаря знакомству с директором лечебницы Григорием Абрамовичем. В выставке приняли участие Клара Калинычева, сын Алексей и друзья-художники Павел Никонов, Игорь Обросов и другие.


Последние годы жизни Попкова станут невероятно плодотворными. Написанные им ранее серии портретов художников и автопортретов завершатся обобщающими размышлениями о своем пути в искусстве и — шире — о пути художника в картинах «Мой день» (1968), «Работа окончена» (1970), «Шинель отца» (1970–1972).
Пушкинская тема, которой последние годы будет увлечен художник выльется в пейзажную серию пушкинских мест и завершится полотном «Осенние дожди. Пушкин». Об этой картине искусствовед Александр Каменский скажет: «Для Попкова самое близкое и родственное в русском национальном характере, в русской культуре — душевная широта, открытый людскому зову внутренний слух, „всемерная отзывчивость“, которую Достоевский ставил в великую заслугу Пушкину» Книга о художнике Викторе Попкове. М., 1998..

1972 годом датированы две удивительные картины о памяти человеческой, исторической и памяти искусства. На каждой картине — девочка, которая гуляет по весеннему пригороду, она окружена памятниками прошедшей войны, силуэтами покосившихся церквей и виднеющимися вдали деревушками. Обе эти картины предваряют и открывают новое десятилетие и новую страницу в отечественной живописи. Семидесятники, как позже назовут молодых художников, пришедших на смену мастерам шестидесятых, предложат зрителю новую живописную манеру и обратятся именно к старым мастерам, к памяти искусства и внутреннему миру человеческой души.
А в завершение мне хотелось бы остановиться на одной из последних, как считается, не вполне законченных картин Виктора Попкова. У картины два названия — «Приходите ко мне в гости» и «На даче». Об этой работе Попкова прекрасно написала искусствовед Анна Ягодовская, приведу здесь ее цитату:
«Внутренняя прямота, открытость обращения-призыва к зрителю поражают здесь с первого взгляда, составляя то определяющее впечатление, которое руководит восприятием образа в целом. Попков адресует непосредственно к нам неслышное — „Приходите ко мне в гости“, замененное потом более нейтральным „На даче“. Всегда точный в передаче психологических нюансов, он уловил и передал в обращенном к зрителю лице то выражение, в котором схвачено некое переходное состояние, грань между двумя, может быть, прямо противоположными чувствами: радостью встречи и грустью, одиночеством, разочарованием. Все зависит от того, будет ли услышан призыв, принято приглашение, откликнутся ли званные.
И вместе с героем картины мы словно замерли в ожидании. Это краткий миг у порога, у дверей, за которыми все возможно. Свет, готовый погаснуть, может вспыхнуть осуществленным праздником, радостью нечаянной встречи. Тогда озарится тревожное лицо, человек протянет нам руки — другу и гостю предназначен роскошный букет. Фигура мальчика в глубине у калитки, таинственно темнеющий летний сад, даже фантастически красивые сочетания красок, пронизанных вечернем свечением уходящего дня, — все притаилось, притихло, готовое ожить, наполниться звуками, перекличкой веселых голосов. Но в напряженной атмосфере ожидания нет уверенности, скрыта тревога — с заходом солнца мир может погрузиться в темноту, в молчание. Предельность, пограничность ситуации, выраженная с такой опаляющей прямотой и силой, глубоко драматична, но не безысходна: художник зовет нас „в даль светлую“, в даль надежды. Последнее слова за нами, зрителями.
<…> Картина Попкова… может рассматриваться не только как одно из значительных и симптоматических произведений начала 70-х годов, но и как человеческий жест дружески протянутой руки, живой голос в защиту настоящей радости встречи, без масок и переодеваний, веселья без игры и гримас» Книга о художнике Викторе Попкове. М., 1998..
В заключение только добавлю: приходите в гости к Виктору Попкову, открывайте для себя его творчество и творчество его друзей-художников.
Представьте такую скульптуру: на невысоком постаменте обнаженные фигуры матери и ребенка. Женщина сидит, одной рукой она опирается на землю, другой — обнимает малыша, который стоит рядом и протягивает к ней руки. Фигуры выполнены из светлого бетона, и только отдельные детали — волосы и зрачки глаз — раскрашены. Пропорции фигур искажены, особенно это заметно, если смотреть на укрупненные ноги и руки матери, их сглаженные изгибы. Внесенные скульптором диспропорции, с одной стороны, совершенно не лишают человеческие тела узнаваемости, с другой — делают их непохожими на каноны классической скульптуры.
Едва ли это глубоко гуманистическое произведение, излучающее любовь, может показаться современному зрителю шокирующим или провокационным. Однако на скандально известной выставке «30 лет МОСХ» 1962 года, где первый секретарь ЦК Никита Хрущев учинил разнос неугодным, эта скульптура Аделаиды Пологовой под названием «Материнство» была подвергнута суровой критике. Скульптуру назвали формалистической, что в то время звучало как приговор для художников, которые якобы не шли в ногу с советским народом. Конкретно Пологову, например, упрекали в том, что она огрубляет образ советского человека, подчеркивая в женщине-матери стихийные, животные начала. Что такая реакция со стороны высоких чиновников означала для советского художника тогда, в начале 1960-х годов? Фактически она означала отсутствие у скульпторов госзаказов, сложности с допуском работ к показу на выставках. Именно это и произошло с Аделаидой Пологовой, и до конца жизни ей приходилось мириться с материальными сложностями и бытовой неустроенностью.
В судьбе Пологовой это был далеко не первый и не последний удар. В детстве она пережила тяжелую болезнь, потом войну. В студенческие годы на Пологову донесли в деканат, что ей нравятся Сезанн и Матисс. Этого хватило для того, чтобы ее отчислили на год. С самого начала ее путь не был усыпан лепестками роз. Тем поразительней тот оптимизм, та любовь к жизни, которыми наполнена буквально каждая ее работа. И все же — несмотря на гуманизм, чистоту, добро, которые в себе несет творчество Пологовой, ее скульптуры часто вызывали у публики крайне неоднозначную реакцию. Многие ее работы стали весьма неожиданными для московских выставок того времени. Так в чем же состояла особенность авторского языка скульптора, в чем принципиальная новизна ее искусства? Попробуем разобраться.
Прежде всего следует отметить, что у Аделаиды Пологовой, или Аллы Пологовой, как ее тоже часто называют, было серьезное художественное образование. Родилась она в 1923 году в Екатеринбурге в семье театрального художника. Этот факт ее биографии, а именно погруженность с детства в мир театра благодаря отцу, важен — мы впоследствии на этом остановимся подробнее. В родном городе она обучалась живописи в художественном училище. В 1948 году поступила в Московский институт прикладного и декоративного искусства — МИПИДИ. Это было наиболее прогрессивное и либеральное по духу учебное художественное заведение послевоенного времени, за что оно и поплатилось — в 1952 году его закрыли как рассадник формализма. Так что закончить свое образование Пологовой пришлось уже в Высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной в Ленинграде.
Художественное образование у Пологовой было основательным, но вот дальнейшее формирование ее как мастера было связано прежде всего не с полученными во время учебы знаниями, а с собственными поисками выразительности. Отвечая на вопрос о том, что же было в работах Пологовой принципиально новым, не укладывавшимся в привычные рамки искусства того времени, я бы хотела последовательно остановиться на некоторых ключевых, на мой взгляд, аспектах творчества скульптора. Для большей структурированности и ясности нашего рассказа я их перечислю: интерпретация темы в ее работах, названия, цвет, материал, форма, а также такие более редкие для искусства скульптуры понятия, как театральность и даже манекенность.
Что касается содержания, то здесь Пологова явно тяготела к тому, что принято называть вечными темами, то есть темами, к которым обращались художники самых разных эпох и стилей. Но эти темы становились в ее творчестве глубоко личными. Все ее работы, как правило, автобиографичны, и в работах Пологовой всегда чувствуется эта наполненность авторским мироощущением. Сюжеты она берет чаще всего самые повседневные, из окружающей жизни, но жизнь эта получает в ее творчестве романтическую и иногда даже несколько сказочную интерпретацию.
Такой вечной и неисчерпаемой теме искусства, как материнство, Пологова посвятила отдельный цикл произведений, пожалуй главный в ее творчестве. Ее образы матери и ребенка были, с одной стороны, связаны с собственными детскими воспоминаниями — и, с другой, отражением ее чувств к сыну Алеше. Речь не только о любви и нежности, хотя они, конечно, преобладают, но иногда к ним примешиваются личные переживания тревоги и даже боли. Свою мать скульптор потеряла рано, а с Алешей, единственным ее сыном, ей пришлось расстаться на многие годы после его отъезда в эмиграцию.
С прочувствованным опытом, который совершенно недвусмысленно считывается в ее работах, связана и другая важная особенность произведений Пологовой — их названия. Далеко не все скульпторы придают большое значение названиям своих работ. Увидев в экспозиции художественной выставки скульптуру с изображением женщины с младенцем на руках, мы, скорее всего, прочтем на этикетке
Яркий пример — две работы Пологовой 1980-х годов, периода расцвета ее творчества, из собрания Третьяковской галереи. Первая называется «Успевайте петь колыбельные» (1983). Это деревянная композиция, изображающая мать, которая сидит в кресле-качалке и прижимает к себе дитя. Интересная находка мастера в этой работе — полукруглые ножки кресла, которые служат основанием произведения. Благодаря им композиция покачивается. Сохранилась цитата из письма Пологовой: «Колыбельная рождает определенное состояние души матери и дитя, что, наверное, роднит их навсегда. Нежности, игры и тепла необходимо отдать ребенку максимум. И надо это уметь выражать» Из воспоминаний искусствоведа Арама Асояна // ttps://oms.ru/alla-adelaida-allochka. И не только композиция, но и цвет передает послание художника. Одежда ребенка покрыта белым левкасом — это разновидность белого грунта, — а волосы и руки окрашены в золото. Эти материалы, традиционно используемые в иконописи, придают образу мальчика в работе скульптора светоносность, возвышенное звучание и в конечном итоге — значение божественного дара.

Этот же прием светового и цветового выделения был применен Пологовой в работе под названием «Иди и след мой сохрани» (1987). Это произведение выполнено скульптором в память о матери, которая ушла из жизни, когда дочь была совсем юной. Здесь уже покрыта золотой краской грудь матери, которая решена в виде плоского скоса. Вот такое совершенно неожиданное решение — Пологова просто отсекла грудь фигуры, превратив ее в сияющую золотом плоскость. Таким образом она лишила ее материальности, придав полностью символическое звучание. И из этой позолоченной плоскости груди к спеленутому тельцу ребенка протянуты руки матери, которые его не столько держат, сколько направляют, отпускают в мир, где он уже будет продолжать свой путь без нее.
Названия в творчестве Пологовой настолько емки, настолько гармонично дополняют художественный образ, что мастер их нередко включала в свои скульптуры в виде надписей, например на основании произведения. В таких случаях скульптор уделяла большое внимание цвету и шрифту, которые всегда гармонично вплетаются в образ. Названия придают скульптурам возвышенное звучание, заставляют
Что касается цвета в творчестве Пологовой, то для искусства скульптуры в целом это достаточно непростая тема. Активное введение цвета в пластику — традиция очень древняя, практически исконная. Вплоть до XIX века ошибочно считалось, что античная скульптура была монохромной, поскольку красящие пигменты древних статуй в большинстве своем не сохранились. Ориентируясь на найденные античные образцы как на эталон, выдающиеся мастера скульптуры нескольких столетий чурались красок, создавая свои работы. Считалось, что цвет нарушает восприятие формы. И эта позиция до сих пор распространена.
В творчестве же Пологовой цвет и сияние позолоты стали одним из ключевых средств выразительности. Можно сказать, что она практически не мыслила скульптуру без цвета, что, возможно, было своего рода наследием занятий живописью, с которых она начинала свой путь в искусстве. Мало кто из отечественных скульпторов так смело покрывал краской и тем более позолотой деревянные, гипсовые и другие поверхности, как это делала Пологова. В ряде работ она полностью окрашивает поверхность дерева, применяя левкас, на который плотно, без пропусков наносила краску. Таким произведениям, как, например, скульптура «Весна на Оке» 1988 года из собрания Третьяковской галереи, яркость красок придает радостное, мажорное звучание, родственное народному искусству. Иногда она сочетает окрашенные поверхности с чистым теплым тоном древесины, как в уже упомянутой скульптуре «Успевайте петь колыбельные».

Некоторые ее скульптуры в значительной степени позолочены, как, например, двухфигурная композиция «Мальчики (Алеша и Митя)» (1970). Снова скульптура обращена к тому, что было для художника самым родным и близким, — она изобразила своего сына Алешу и его друга Митю. Две тонкие фигурки мальчиков, стоящие друг напротив друга, не взаимодействуют, их взгляды устремлены в разные стороны. Художник в этой работе отказывается от изображения действия ради раскрытия эмоционального состояния. Позолота, которой фигурки щедро покрыты, становится метафорой детства как короткого «золотого века» человеческой жизни. Мальчики выглядят совершенно ангелоподобными, в их образах удивительно тонко передана чистота и хрупкость мира ребенка. Виктор Попков, один из основоположников сурового стиля в отечественной живописи, посетивший однажды групповую выставку на Кузнецком Мосту, сказал о представленной на ней работе Пологовой «Мальчики»: «Таких золотых мальчиков можно, наверное, встретить только в раю…» Алла Пологова. Скульптура. Альбом. М., 2004. Впоследствии, кстати, Пологова создала памятник на могиле Попкова, удивительный по своей выразительности и лаконизму.
Излюбленными материалами Аделаиды Пологовой были дерево и керамика. Разумеется, в деревянной скульптуре она не была первопроходцем. Но от предшественников работы Пологовой отличает уже упомянутое смелое, даже дерзкое использование насыщенного цвета. Отсюда и ее склонность к дереву как материалу, ведь дерево легко принимает краску, то есть столь любимый Пологовой цвет. Кроме того, она часто подолгу работала над одной вещью, дорабатывая и перерабатывая ее в течение двух-четырех лет. Дерево — достаточно удобный и податливый материал для такой работы, поскольку оно позволяет корректировать форму, пилить и заново компоновать начатое произведение. Многие скульптуры Пологовой из дерева при ближайшем рассмотрении обнаруживают большое количество разрезов и склеек — следов ее творческого процесса.
Другой излюбленный материал Пологовой — керамика. Небольшими керамическими скульптурами были буквально усыпаны все полочки вдоль стен ее мастерской. Этот вид пластики стал для Пологовой своеобразной творческой лабораторией, где она ставила смелые эксперименты с формой и цветом, с использованием сложных полив — тонких стекловидных покрытий. Страсть Пологовой к цвету в скульптуре нашла здесь свое полное воплощение. Свобода перетекания красок, их звучность в керамике особенно хорошо отвечали образу цветущего мира, который она создавала в своем творчестве. Дерево и керамика — любимые ее материалы, но далеко не единственные. Пологова бралась за самые трудоемкие техники, такие как сварка металла, медная выколотка, резьба по камню. Часто она также создавала скульптуры из бумаги — недорогой материал, который выручал ее в особенно тяжелые времена, ну и, кроме того, достаточно простой в работе. Что объединяет все эти материалы и техники в творчестве Пологовой, так это тот неожиданный результат, при котором лирическая сторона ее образов всегда с легкостью преодолевала грубость технологии, простоту материала и всегда выходила на первый план.

Творчество Пологовой отличается большим пластическим многообразием. Иногда ее произведениям свойственны сдержанность и аскетизм, чаще — избыточность форм, обильных,
Хотелось бы сказать и о другом определении, которое нередко применяют по отношению к творчеству Пологовой, — театральность. Я уже упоминала в начале, что детские годы скульптора прошли в Свердловске, где ее отец работал художником-декоратором в Государственном оперном театре. С большой вероятностью можно утверждать, что отзвук этих ранних впечатлений о театре проявился в игровом строе многих работ Пологовой. Художник умела видеть в окружающей действительности театрализованную и красочную сторону бытия и отражать ее в своих скульптурах. В качестве примера здесь можно привести скульптуру «Пловчиха» 1973 года из собрания Третьяковской галереи. Это абсолютно нетривиальный образ на тему спорта. Пловчиха изображена, очевидно, в момент триумфа, победы в спортивном состязании. Она будто стоит на пьедестале, окутанная эффектно развевающимися драпировками, выполненными из тонких листов меди. Ткани вокруг нее превратились в подобие клубящихся волн. В поднятой руке она демонстрирует награду — подаренную розу. Театрализованность образа здесь выражена в подчеркнуто пафосной репрезентативности фигуры и даже некоторой ироничности, с которой изображена пловчиха. В скульптуре Пологова использует контрасты материалов: тонких листов меди и более массивных объемов бронзы, контрасты в цвете тонировок темного купальника и золотистого тела спортсменки. Анатомические неправильности в трактовке фигуры усиливают игровую тональность образа. Таким образом, сочетая торжественность и пафос с легкой иронией, скульптор и в спортивной теме сумела найти момент для выражения театрализованной, праздничной стороны жизни.
В заключение вернемся к вопросу, который был поставлен в начале лекции. Чем же искусство Аделаиды Пологовой, в высшей степени гуманистическое, излучающее нежность, свет и добро, вызывало такую резкую реакцию чиновников от искусства и такую полярную — со стороны зрителей? Пологова в своем творчестве нарушала те правила, которые к середине XX столетия сложились в штампы. В ее произведениях всегда было
Вся жизнь Михаила Греку прошла между двумя полюсами — от крестьянина по социальному происхождению до интеллектуала и художника-философа в зрелом возрасте. Михай Греку (именно так он записан в документе о рождении) появился на свет в 1916 году в Бессарабии, которая вскоре отошла к Королевству Румыния, и до присоединения Бессарабии к СССР в 1940 году оставался румынским подданным. Он родился в крестьянской семье, хотя правильнее было бы сказать «в крестьянской среде», поскольку родителей своих не знал. Мать, Анну Грекову, ему так и не довелось увидеть: она родила сына в 16 лет и отправилась, как он сам выражался, «искать счастья по свету». Мальчик остался на попечении дальних родственников в селе Ташлык. Те растили его, пока были силы и возможность, а потом отдали в детский дом. Греку много лет спустя признавался, что клеймо «брошенный ребенок» не ожесточало его, а лишь отдаляло от других. Книги сделали из него «сепаратиста и великого идеалиста», как он сам себя называл. «В этом духе я вырос и сформировался — как личность и как художник…» Михаил Греку. Живопись. О зримом и скрытом: альбом. М., 2009. С. 95. — скажет Греку позднее.

В значительной степени под влиянием этих обстоятельств у Греку сложилось убеждение, что «человек рождается дважды — физически и духовно» Михаил Греку. Живопись. О зримом и скрытом: альбом. М., 2009. С. 32.. Поэтому он верил, что ребенок наследует не только генотип своих физических родителей, но и духовный генотип человечества в целом: «Почему мы не хотим признать наследственность, доходящую до атавизма, космогонизма, т. е. признать духовную жизнь, которая тоже передается, наследуется из далеких времен, темных, записанных на невидимой пленке так же, как и биологический комплекс! Даже если духовная жизнь неосязаема?» Михаил Греку. Живопись. О зримом и скрытом: альбом. М., 2009. С. 78. — эти вопросы не раз возникают на страницах его дневника.
В педагогическом училище для юношей, куда поступил Греку в 1928 году, поддерживали его увлечение живописью. В середине 1930-х он уже принимает участие в летних пленэрах профессиональных румынских художников, знакомится с известными мастерами, на его работы обращают внимание коллекционеры, организуются, пусть и небольшие, персональные выставки, и в 1937 году он поступает в бухарестскую Академию изящных искусств. И вдруг через три года, в 1940 году, 23-летний студент академии, румынский подданный Михай Греку принимает решение переехать в СССР. Десятилетия спустя Греку скажет: «Мне посчастливилось начать путь именно в Румынии, там я воспринял основы знаний, касающихся свободы творчества, поисков иной реальности» И. Попа. Одни художники видят природу, а другие постигают (перев. с рум. Т. Греку-Пейчева) // Mihail Grecu. 100 de ani. Chishinau, 2016. С. 210.. Румынский период биографии Греку станет основополагающим для его формирования как художника, здесь был заложен фундамент, на котором строилось все последующее творчество. Что же касается переезда в СССР, то к нему уже вполне сложившегося живописца побуждало одно-единственное чувство — влюбленность в Эсфирь Брик, соученицу по академии. В своем рассказе о причинах отъезда Греку не скрыл ни своего равнодушия к политике, ни безразличия к русской живописи, ни полного отсутствия интереса к Стране Советов. У Фиры были еврейские корни, и в фашистской Румынии ее положение становилось небезопасным, грозило отчисление из академии. Влюбленный Греку сильно за нее переживал. Девушка, в отличие от Греку, ориентировалась в политике, знала русский язык. Именно она настаивала на переезде в СССР, в Кишинев, где, как она считала, занимаются настоящим искусством. Она пыталась его увлечь, приносила книги по русской живописи, которые, как признавался Греку, ему не очень нравились. Ему нравилась Фира, и, поскольку он родился в Четатя-Албэ, ему разрешили репатриироваться в Бессарабию. Границу они переходили порознь, в Измаиле встретились и там же поженились, и это был счастливейший брак на всю жизнь.
Вскоре об отъезде из Румынии пришлось пожалеть. Греку вспоминал: «В начале войны собрали всю молодежь из Кишинева, забрали паспорта и отправили вглубь России. Это называлось эвакуацией, но на самом деле мы были депортированы» Л. Цыгирлаш. Михаил Греку. Ангел по руке его не ударял (перев. с рум. Т. Греку-Пейчева) // Mihail Grecu. 100 de ani. Chishinau, 2016. С. 218–219.. Работать приходилось кочегаром на железной дороге. В Уральске (это Западный Казахстан) родилась дочь Тамара. В 1945 году Греку вернулся с семьей в Кишинев, окончил Кишиневское художественное училище (чтобы иметь документ о профессиональном образовании), вступил в Союз художников, и в результате появился советский молдавский художник Михаил Греку.

Греку с трудом вписывался в советскую художественную действительность. Вторая половина 1940-х — начало 1950-х годов — это время, когда одна за другой выходили разгромные статьи и постановления, шельмующие импрессионизм и импрессионистов (они не обошли даже таких известных мастеров, как Пластов и Сарьян). Что же было делать художнику-репатрианту, который вырос на традициях импрессионизма, сформировался на них как художник, они буквально «сидели в нем», по выражению самого Греку? Он был далек от художников сурового стиля, таких как Виктор Попков, Таир Салахов, Павел Никонов, чьи произведения декларативно оппонировали соцреализму 1930–1950-х годов, изгоняя из него ложный пафос и фальшивый глянец. Греку предпочитал язык метафорической живописи и в своих колористических поисках опирался на искусство более близких ему европейских художников. Между ним и другими установилась внутренняя дистанция (вспомним, как он называл себя — «сепаратист и великий идеалист»!), временами дистанция перерастала в оппозицию, которая в конце концов предопределила особое положение Греку в советском искусстве.
Насколько мало его интересовала советская живопись, он расскажет в одном из интервью много лет спустя.
В 1957 году Греку получил заказ на картину «В застенках сигуранцы» для Этнографического музея в Кишиневе. Так была устроена художественная жизнь в СССР: свободного рынка не было, единственным заказчиком произведений искусства было государство в лице Министерства культуры, Союза художников и Художественного фонда СССР. Чтобы иметь средства к существованию, художник заключал договор на создание произведений на требуемую тему. Греку говорил, что на картине «В застенках сигуранцы» он писал прежде всего «светотеневые отношения предметного мира». Более того, художник был так «заражен принципом светотени», что, по его словам, ему «было все равно: революция, обнаженная женщина или
«В застенках сигуранцы» Греку писал в полемике с культовым соцреалистическим полотном Бориса Иогансона «Допрос коммунистов», демонстрирующим несгибаемость и стойкость коммунистов в белогвардейском плену. В своем дневнике Греку ведет с Иогансоном воображаемый диалог. «У Иогансона в „Допросе коммунистов“ коммунисты — герои? — спрашивает он. — Их привели на допрос, но чем это закончилось? Будут ли они упорствовать до конца? Вот вопрос, который остался в его картине без ответа. Я же пытаюсь разобраться более глубоко. Посмотрим, получится ли у меня. Но прав я, а не Иогансон, это я знаю точно». Действительно, герой на картине Греку совершенно иной, он физически сломлен, почти раздавлен, но именно таким в понимании художника должен быть настоящий герой — «тот, кто, несмотря на физические муки, остался силен душой» Михаил Греку. Живопись. О зримом и скрытом: альбом. М., 2009. С. 14..
Внутренняя дистанция, которую Греку установил с самого начала по отношению к признанным образцам советского искусства, в последующие годы не сократилась ни на йоту, скорее наоборот, она постоянно увеличивалась. Он жил в Кишиневе, был признан как национальный молдавский художник и остался при этом собой — интеллектуалом, эрудитом и космополитом.
В разные годы свои художественные симпатии Греку отдавал очень разным мастерам: от импрессионистов Йона Андрееску и Клода Моне до Таира Салахова и Ильи Глазунова. В его дневнике от 26 июля 1973 года можно прочитать поразительные строки, обращенные к Джексону Поллоку, произведения которого мало кто знал в тогдашнем СССР. «Дорогой мой Джексон Поллок, — писал Греку, — как ты мне был дорог! <…> ты мне помог в моем творчестве. <…> Я люблю тебя, юноша!» Михаил Греку. Живопись. О зримом и скрытом: альбом. М., 2009. С. 44.

Высшей ценностью для Греку и в жизни, и в искусстве всегда оставалась свобода. Высшая свобода в искусстве означала для него возможность делать искусство играючи, а играть умеет лишь тот, кто свободен, считал Греку.
Художник не раз повторял, что литературную тему (сюжет) в картине нужно свести к минимуму, чтобы культивировать «загадочность, чудодейственность живописи». «Очень важно, существенно и главное, — подчеркивал он, — избавиться от иллюстративности в искусстве. Изображение должно перейти в план художественный, философский» Михаил Греку. Живопись. О зримом и скрытом: альбом. М., 2009. С. 71.. Именно философия, по его мнению, должна была стать одной из главных составляющих современной живописи. Греку следовал принципу «простых средств», который
Он постоянно задумывается над тем, как претворить живопись в миф. «Хочу не материальности темы, а притчу, духовности, — записывает он в дневнике. — <…> Я стремлюсь открыть для себя дух материи, душу вещей» Михаил Греку. Живопись. О зримом и скрытом: альбом. М., 2009. С. 72.. В этом всепоглощающем стремлении к универсальному и всеобъемлющему для него важно было только то, что несет на себе печать культуры, печать духа, печать времени на предметах, когда суть вещей выражается в мифе и мифическом. Одно из центральных мест в его «философии искусства» занимает категория памяти.
Память для художника — это основной и неисчерпаемый источник сотворения образа; только она способна придать ему глубину и значительность. Так, Греку много раз пишет ворота, но особые знаки выводят их из разряда утилитарности, наделяют духовностью, и ворота предков становятся вратами. Если дерево — это из жизни, то древо — это уже из фонда памяти. Через категорию памяти определяется и талант, который, как считал Греку, есть не что иное, как «смутная память, неопределенная, без фиксированной точки опоры. Отсюда, из этого состояния, и рождается произведение» Михаил Греку. Живопись. О зримом и скрытом: альбом. М., 2009. С. 72.. Однажды художник поймал себя на том, что увидел нечто напомнившее ему крепость в Четатя-Албэ, городе его детства, и ему сразу захотелось вернуться туда, снова увидеть стены, башни, ворота, но внутренний голос его остановил: «Ты прожил там с 12 до 20 лет. Ты знаешь там каждый уголок. Только то, что ты запомнил, и есть твое» М. Кушнир. Эстетика — самый большой враг идеологии // Mihail Grecu. 100 de ani. Chishinau, 2016. С. 208..
Начиная с 1960-х годов обращение к культуре прошлого стало одной из доминант отечественного искусства. На волне кризиса либеральной идеологии набирал силу процесс обращения к корням. Если ключевыми словами оттепели были «искренность», «личность», «правда», то теперь опорными стали «родина», «природа», «народ».

Греку обозначил для себя новый рубеж 1967 годом, временем создания триптиха «История одной жизни». Многолетние размышления Греку, задачи, которые он постоянно перед собой ставил, во многом определили замысел и особенности этого произведения, впервые показанного на Всесоюзной художественной выставке 1967 года. Работа сразу же получила множество положительных отзывов, но практически все они были написаны по одной идеологической матрице: речь шла о поэтическом воплощении истории молдавского крестьянства и социалистических преобразований на селе. Триптих — «Мальчик с быками», «Семья», «Коллективизация» — воспринимался как изобразительная повесть, где в аллегорической форме рассказывается о жизни молдавского крестьянина. В детстве он пас волов, и, так как без них немыслимо было существование простого труженика, они казались ему могучими, добрыми, сказочно красивыми существами. Но вот появился первый трактор — и эта стальная машина разительно изменила всю жизнь, принесла радость и надежду на плодотворный труд и прочное благополучие. И наконец, тема последней, третьей части — человеческое счастье, счастье в работе и семье.
А между тем сам Греку, готовясь к встрече со студентами и преподавателями Кишиневского университета, куда его пригласили как автора «Истории одной жизни», записал в дневнике 10 ноября 1975 года: «Эта работа — протест против фронтальной прямолинейности. Мальчик с волами — это не только и не столько образ „несчастливца“. „Новая жизнь“ (или „Коллективизация“. — Прим. лектора) — это не „закоренелые кулаки“, а концепция психологии стариков» Михаил Греку. Живопись. О зримом и скрытом: альбом. М., 2009. С. 55..
Одной из идей, положенных в основу триптиха, была идея бесконечных превращений. Греку представил все возрасты человека, мужчины и женщины, начиная с детства и до старости, между которыми нет ничего общего, «как если бы детство было бы „цветком“, отрочество — „корзиной“, зрелость — „землей“, а старость — „воздухом“». Таким образом, заключает художник, «необходимо трактовать человека, с его чувствами, чаяниями, философией — в бесконечных превращениях» Михаил Греку. Живопись. О зримом и скрытом: альбом. М., 2009. С. 55..
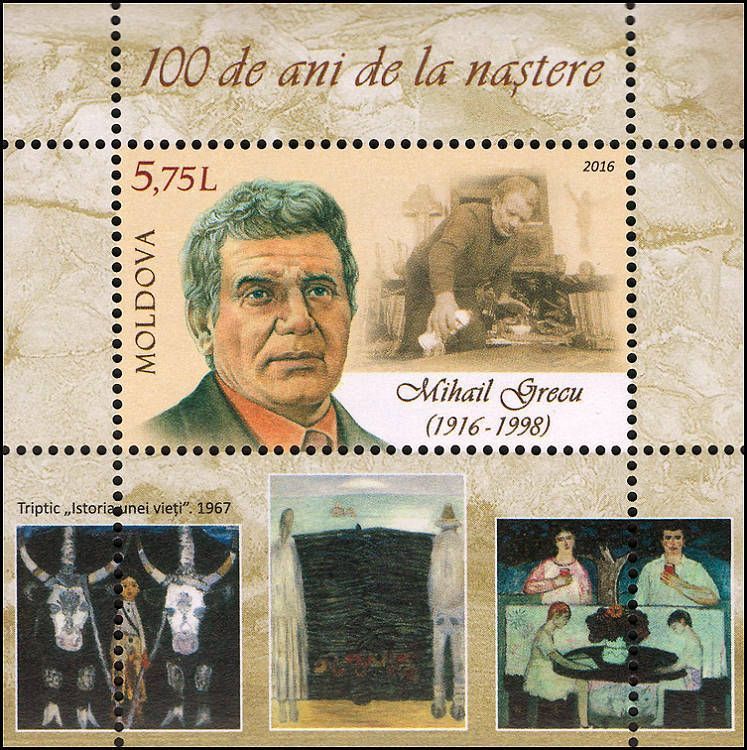
Левая часть триптиха представляет композицию с мальчиком в центре, по сторонам от которого стоят две фигуры огромных быков на черном фоне. Их морды с налившимися кровью глазами, написанными вопреки правилам перспективы анфас и обведенными светлой контрастирующей краской, превращаются в подобие ритуальных масок. Традиционно образы этих животных имеют положительные коннотации, относящиеся к мужской витальности, и выполняют охранительные функции. Веревка, связывающая быков, и рога заключают фигуру ребенка в подобие сакральной капсулы. Всепоглощающий мрак вспарывает полоска интенсивного синего света над горизонтом.
Окружающий мрак, символизирующий хаос, погружение во тьму, — это составная часть обрядов инициации, которая является по своей сути вторым рождением. Гримаса ужаса, которую Греку изобразил на лице ребенка, также сопутствует инициации.
На страницах дневника художника не раз упоминается имя философа ХХ века, религиоведа и писателя румынского происхождения Мирчи Элиаде
В правой части триптиха, которая имеет два названия, «Семья» и «Счастье», без труда узнается образ мирового древа, под сенью которого располагается семья, раскрывается образ многоярусной Вселенной, скрепленной этим древом, составляющим сердцевину мироздания.
Центральная часть триптиха, за которой закрепилось название «Коллективизация», претерпела наибольшие изменения в процессе шлифовки замысла и его воплощения. В конечном итоге в картине художник оставил отвернувшиеся от зрителя непропорционально вытянутые и выбеленные фигуры старых супругов, а за ними в нежно-бирюзовом мареве пашни словно парит, попыхивая забавными колечками дыма, написанный короткими цветными мазками трактор, не оставляющий за собой борозды. Ярким акцентом написаны проросшие у плетня циннии, сам же плетень с плотно переплетенными прутьями, как сомкнутые створки ворот, маркирует символическую ситуацию перехода, входа-выхода, сакрального порога, разделяющего два мира — нарождающийся, к которому принадлежит девственно чистое поле, пахота, сеяние, ожидаемые всходы и богатый урожай, прорезавшийся в небе молодой месяц, — и мир уходящий, явленный в фигурах обезличенных стариков.
Триптих «История одной жизни» — не просто рассказ. Все три части представляют собой три стадии существования человека в мире: рождение (инициация как второе, духовное рождение), детство и духовная возмужалость, плодоносящая зрелость и «невероятная легкость» неизбежного ухода с последующим возрождением.

К концу жизни у Греку не было оснований сетовать на недостаток общественного признания (в 1986 году ему присвоили звание народного художника Молдавской Республики, он стал лауреатом многих премий, в том числе и Государственной премии СССР в 1990 году), его творчество находило признание среди ученых, философов и историков искусства. В дни празднования своего 70-летия, отмеченного большой выставкой, в ноябре 1986 года Греку сделал запись в дневнике: «Важным событиям я не придаю значения. Всегда было так! Всегда я был увлечен интересными делами и не обращал внимания на такие результаты, как выставка к 70-летию, большие картины, общественное признание! Я создал для себя ситуацию крайнего индивидуализма, и в этом неисправим!» Михаил Греку. Живопись. О зримом и скрытом: альбом. М., 2009. С. 88–89.
Как не вспомнить здесь еще раз «сепаратиста и идеалиста» времен румынской молодости! Его всегда интересовали не результаты, а путь к ним, творческий процесс и собственное становление как художника.
До конца жизни Греку будет работать так, чтобы чувство, которое должно было воплотиться на холсте, исходило из чистоты первозданности. «Я все еще очень наивен, — признавался он. — Фантазия и снова фантазия! О, если бы я мог соединиться с теми, кто меня хранит, т. к. и они, и я станем прахом» Михаил Греку. Живопись. О зримом и скрытом: альбом. М., 2009. С. 88–89..






Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости