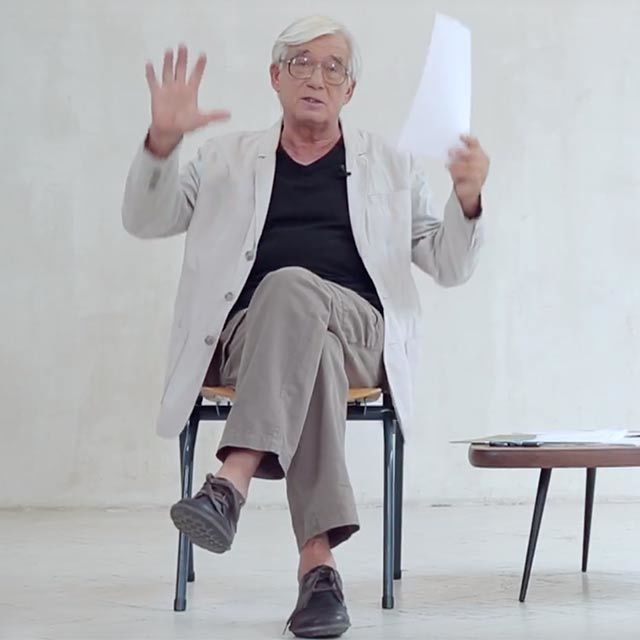Расшифровка Зачем литература рассказывает о самой себе?
Литература вроде бы должна говорить о жизни — но очень любит говорить о себе самой. Выражаясь терминологически, среди ее тем, наряду с темами первого рода, предметными, почетное место занимают и темы и мотивы второго и третьего рода — металитературные, мета- и интертекстуальные Темы первого рода — «О чем хотел рассказать автор?»; темы второго рода — «Как автор хотел написать этот текст?»; темы третьего рода — «Как этот текст связан с другими текстами?»..
Начнем с метатекстуальности и возьмем ее в одном из ее самых очевидных вариантов — текстах о создании текста; часто — того самого, который пишется. Довольно откровенная формулировка, свидетельствующая об универсальности такой тематики, принадлежит Пастернаку, который говорил, что всякое поэтическое произведение, в сущности, повествует о чуде своего рождения. Ну, может быть, не всякое — но многие стихи самого Пастернака посвящены именно этому. Так, например, начинается довольно раннее стихотворение «Февраль. Достать чернил и плакать»:
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
А вот как оно кончается:
Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.
Впрочем, примерно так же кончается и написанное четырьмя десятками лет позже стихотворение «Ветер» из романа «Доктор Живаго», стихотворение Юрия Живаго, которое начинается с совсем другого — со смерти, одиночества, ветра:
Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Кончается же оно вот как:
И это не из удальства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.
Разумеется, дело не в Пастернаке. Поэзия о поэзии, стихи о стихах — это целый слой поэтического творчества. Вспомним хотя бы такие жанры, как «искусство поэзии», в частности знаменитое верленовское стихотворение. Или жанр «памятника», восходящий к Горацию. Или типично русский жанр «смерть поэта».
Примеров пруд пруди. Пушкин в «Домике в Коломне» отказывается от четырехстопного ямба, заявляя, что он ему надоел, поэтому поэма написана пятистопным ямбом:
Четырестопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить. Я хотел
Давным-давно приняться за октаву.
Свойственно это не только поэзии, но и прозе. Так, Гоголь, как мы помним из первой лекции, в «Носе» прямо задается вопросом, почему это авторы избирают такие странные темы, — это металитературное высказывание, метатекстовое. Металитературно ведут себя многие персонажи: даже если они сами не литераторы, они как бы живут литературой и руководствуются ею. Таков, в частности, заглавный герой основополагающего текста европейской прозы — Дон Кихот, читатель рыцарских романов и подражатель их героев. Да и его рассказчик все время озабочен и своим авторством, и происхождением текста, плагиатами из него и так далее.
А вот как Карамзин в «Бедной Лизе» объясняет завязку любовной драмы своего рассказа:
«Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои провождали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. „Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям“, — думал он и решился — по крайней мере на время — оставить большой свет».
Автор вроде и сам сентименталист, но подает литературные сентименталистские пружины поведения героя с явной иронией, венцом которой становится фраза о натуре, зовущей его в свои объятия, — натуре не просто природной («красота сделала впечатление»), но и глубоко окультуренной. Привлекает его больше всего именно образ идеальной пастушки, а не собственно сама Лиза.
Между прочим, мы тем самым незаметно перешли от нашей первой темы —автометаописательных текстов, то есть текстов о себе самих — к текстам о других текстах, к тематике третьего рода — интертекстуальной.
От «Бедной Лизы» естественно перейти к «Станционному смотрителю» Пушкина, который весь написан как бы поверх «Бедной Лизы»: нарочито повторяет ее, чтобы потом вывернуть ее наизнанку. Заодно подрывается и еще один текст — евангельская притча о блудном сыне. Блудным оказывается, наоборот, отец Дуни. Он гибнет, подобно бедной Лизе, а подобная бедной Лизе Дуня (а на самом деле наоборот, совершенно не бедная) остается жить долго и счастливо.
Вообще, весь рассказ металитературен по самой своей сути. Он учит нас читать с открытыми глазами, не давая клишированным текстам и идеям промыть нам мозги. Текст не столько про Дуню и ее любовь, сколько про то, как читать.
В «Шинели» Гоголя интертекстуальность, может быть, и не так важна. Но в характер своего главного героя Гоголь вносит отчетливо автометаописательные нотки. Его Акакий Акакиевич представлен карикатурным писателем. Он страстный переписчик, для которого ничего другого в жизни, кроме писания, нет — по крайней мере сначала. И он, даже идя по городу, воображает себя, как пишет Гоголь, на середине строки, а не на середине улицы — то есть как совершенно истинный поэт.
А в «Бедных людях» Достоевского Пушкин и его «Станционный смотритель», Гоголь и его Башмачкин сходятся все вместе в критических рассуждениях о литературе главного героя — Макара Девушкина, который находит Гоголя слишком высокомерным по отношению к героям. Пушкинский же тон ему гораздо ближе. И любовный роман с героиней (правда, неудачный) развивается у Девушкина именно на таком литературном фоне, как бы преувеличенно карамзинском.
Мета- и интертекстуальность могут быть совершенно неотъемлемой чертой текста, но залегать в нем на такой глубине, которая остается вне диалогов персонажей и признаний автора. Так, жанр исторического романа изобретается Вальтером Скоттом на пересечении любовного романа из жизни вымышленных людей и исторических хроник и драм, где действуют преимущественно короли и придворные, фигуры исторические. Интертекстуальная соль нового жанра — в скрещении двух старых жанров и, соответственно, во встрече и взаимодействии вымышленного рядового персонажа из одного жанра с хрестоматийным историческим из другого. Как очень удачно сказал об этом Пушкин, это история, поданная «домашним образом».
Сам Пушкин, осознав все это, делает следующий шаг, тоже отчетливо интертекстуальный. Он отталкивается и от успешного российского сверхпатриотического подражателя Вальтера Скотта — писателя Михаила Загоскина (автора романа «Юрий Милославский»), — восстанавливая скоттовскую амбивалентность, компромиссность, сложность. И одновременно отталкивается и от самого Скотта тоже, создавая как бы нарочито краткий, во многом иронический, смешной конспект вальтер-скоттовского романа, «отменно длинного»: «Капитанская дочка» примерно втрое короче нормального романа Вальтера Скотта.
Далее исторический роман попадает в руки Толстого, для которого «Капитанская дочка» написана «
Вопросы, которые возникают при разговоре об интертекстах, касаются обычно нескольких важнейших параметров этого явления. Отсылка к другому тексту — явная или не явная? Может быть, подспудная? Может быть, бессознательная? Связь с интертекстом — непосредственная (типа заимствования, типа переклички, полемики — пусть скрытой)? Или чисто типологическая, возникающая, возможно, задним числом и лишь при литературоведческом изучении проблемы, поскольку литература образует единое целое и взаимодействия в ее поле неизбежны? Отсылка — тематически важная, центральная, или периферийная, служебная, поверхностная? Какова, наконец, функция такой отсылки? Простая опора на авторитет? Литературное отталкивание? Полемика? Преодоление влияния классика?
В главе пятой «Евгения Онегина» появляется всем памятный мсье Трике:
С семьей Панфила Харликова
Приехал и мосье Трике,
Остряк, недавно из Тамбова,
В очках и в рыжем парике.
Как истинный француз, в кармане
Трике привез куплет Татьяне
На голос, знаемый детьми:
Réveillez-vous, belle endormie.
Меж ветхих песен альманаха
Был напечатан сей куплет;
Трике, догадливый поэт,
Его на свет явил из праха,
И смело вместо belle Nina
Поставил belle Tatiana.
Концовку эту, конечно, помнят все. Комментаторы «Онегина» разыскали многое о происхождении этого образа, но именно мне посчастливилось наткнуться на то место в «Севильском цирюльнике» Россини по пьесе Бомарше (оба автора были любимыми у Пушкина), где Бартоло, старый опекун, мечтающий стать женихом и мужем Розины, перебивает графа Альмавиву, пробравшегося в дом под видом учителя пения, и поет Розине куплетец в старинном стиле, меняя в нем имя адресатки и, таким образом, слегка апроприируя его: «Розинетта, мой дружок, / Купишь муженька на славу? / Правда, я не пастушок…» — и так далее. И дальше он комментирует: «В песне — Фаншонетта, ну а я заменил ее Розинеттой, чтобы доставить ей удовольствие и чтобы больше подходило к случаю. Ха-ха-ха. Здорово, правда?» Заимствование Пушкина довольно очевидное.
Более того, Пушкин и сам упражнялся в подобных переделках-апроприациях. Такова, например, его знаменитая эпиграмма 1815 года на архаистов, переделанная из французской, принадлежащей тому же Бомарше. Ну, Бомарше я цитировать не буду, а у Пушкина так:
Угрюмых тройка есть певцов —
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов —
Шишков наш, Шаховской, Шихматов,
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!
Здесь всё как у Бомарше, заменены только имена. В том числе стоящие под рифмами. Так что рикошетом Трике бьет и по самому Пушкину. Это автоирония, конечно, вполне характерная для Пушкина.
Некоторые ответы на некоторые типовые вопросы интертекста в данном случае очевидны. Другие вероятны. Третьи гипотетичны и даже гадательны. Заимствование это или типологическое сходство? Скорее всего, заимствование. Сознательное или невольное? Скорее всего, сознательное. Рассчитанное на опознание читателем или нет? Трудно сказать. Но современники его
Как он, без отзыва утешно я пою
И тайные стихи обдумывать люблю., и культивировал загадочную многослойность своих построений. Важен ли этот маленький интертекстуальный фрагмент тематически? Пожалуй, да. Поскольку общая тема второго и третьего родов у Пушкина — это установка на некий вольный просвещенный, вроде бы легкий, но очень информативно требовательный и поучительный треп о литературе и жизни на фоне европейской культуры.