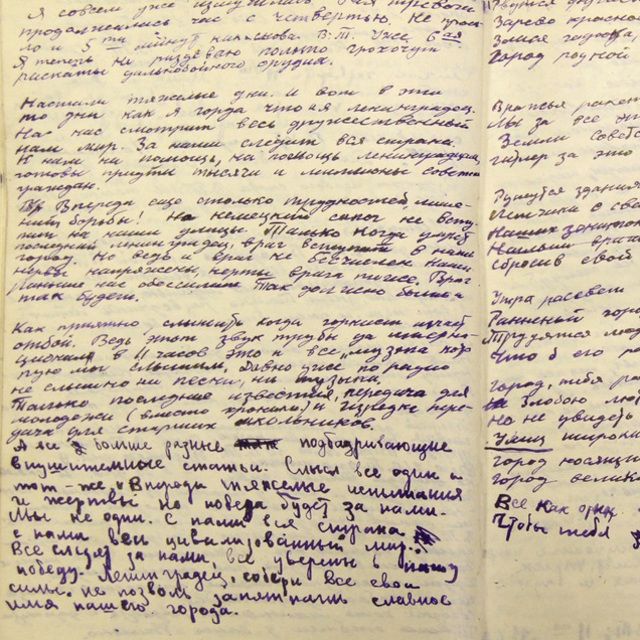Антология блокадной поэзии
Мир блокадной поэзии сложен, разнообразен и противоречив. Пытаясь в нем разобраться, мы оказываемся перед необходимостью его упорядочить, чтобы понять, почему эти литературные свидетельства так разительно отличаются друг от друга. Иногда сложно поверить, что они описывают общую историческую ситуацию, написаны людьми, переживающими одну и ту же катастрофу.
В первую очередь, среди этих текстов есть стихи, которые создавались с ориентацией на «госзаказ». Для таких поэтов, как Николай Тихонов, Ольга Берггольц, Вера Инбер, первой задачей было создать такое высказывание о блокадном опыте, которое бы целиком совпадало с потребностями советской военной пропаганды. В их текстах блокада изображается как испытание, которое необходимо и возможно преодолеть методом коллективного усилия, коллективного напряжения коллективной же воли, — так возникает аллегорическое внеиндивидуальное тело города-фронта, страдающего, но главным образом сражающегося и побеждающего.
Именно такой блокада предстала в публикации — будь то газета, брошюра, открытка или, допустим, блокадный водевиль. Постепенно индивидуальное страдание вообще вытеснялось. Так, даже желание Всеволода Вишневского изобразить блокадный опыт как трагедию (безусловно, оптимистическую) не совпало с ви́дением властей: они отказались от его версии сценария для важнейшего документального фильма «Ленинград в борьбе» (1942), в котором речь в итоге шла в первую очередь о преодолении и торжестве ленинградской воли.
Блокадные поэты, связанные с поисками ОБЭРИУ ОБЭРИУ («Объединение реального искусства») — литературно-театральная группа, существовавшая с 1927 года до начала 1930-х годов в Ленинграде. В нее входили Константин Вагинов, Александр Введенский, Даниил Хармс, Николай Заболоцкий и др., — Геннадий Гор, Павел Зальцман, Дмитрий Максимов, — также как и авторы, следовавшие иным стилистическим традициям, — Татьяна Гнедич, Наталья Крандиевская, Даниил Андреев, рассматривали блокаду в первую очередь как гуманитарное крушение, катастрофу отдельно взятого человека, попавшего в тиски агрессивной бесчеловечной государственности. В этих стихах показан блокадник — беспомощный, дезориентированный, но до последнего не желающий отказываться от своего «я», от своего языка.
Для того чтобы передать такую степень исторической боли, которая превосходит возможности языка, необходимы были приемы и воззрения, пересматривающие самые основы отношений субъекта, поэтического языка и отображаемой действительности. В предвоенном Ленинграде существовала категория авторов, склонных и смеющих задумываться над этой проблематикой, — это круг ОБЭРИУ, именно поэтому поэтические свидетельства Гора, Зальцмана и Максимова производят такое мощное и мучительное впечатление: поэты этого направления обладают инструментарием для того, чтобы показать тотальность распада, которой подвергается блокадник. Однако, казалось бы, более традиционные в своей стилистике Наталья Крандиевская и Татьяна Гнедич, со своим усилием защиты частного и эстетического пространства от вторжения, также производят щемящие, странные тексты несоответствия, где в аду, в пустоте и тьме происходят душераздирающие попытки налаживать свой отдельный мирок: читать Диккенса с жуком, обсуждать с крысой Рембрандта.
Следующей структурообразующей категорией можно считать временную перспективу: стихи, написанные во время блокады, разительно отличаются от стихов, написанных после, по памяти или даже по памяти Другого, как это происходит в стихах, которые пишутся о блокаде сейчас.
Послеблокадная поэзия ставит перед собой задачи реконструкции и реставрации, причем реконструируются и блокадная память, и блокадная личность. Самым ярким примером тут опять оказывается поэтическая работа Берггольц, чья творческая идентичность настолько связана с блокадой, что забвение воспринимается ею как трансгрессия, как предательство, а не как вынужденное обезболивание.
В послеблокадных стихах Глеба Семенова и Вадима Шефнера мы наблюдаем анализ юношеской травмы: блокада не отпускает, но и не выдает себя, свои ужасные смыслы. С этим, возможно, отчасти связаны поздние опусы Гора и Шефнера в области фантастики, где аллегоризация и абстракция становятся основными приемами для неназывания пережитого ужаса. Так, все более абстрактными с годами становятся сновидческие руины блестящего блокадного художника и поэта Павла Зальцмана.
Задачи поэтов, воспроизводящих катастрофу в режиме постпамяти, естественно, совершенно отличны от того, как работали очевидцы и выжившие. Задача этих недавних текстов — восстановление, проявление и возобновление голосов блокады, различные способы наведения диалогических мостов между современной аудиторией и пластом истории, отделенным от нас десятилетиями идеологической цензуры и самоцензуры свидетелей, задавленных кошмаром памяти. В то время как слишком медленно (но все же) появляются попытки научного осмысления этого материала, актуальное искусство до последнего времени сторонилось блокадного архива. Дьявольская разница между научной работой и художественным текстом заключается в неизбежности авторской позиции: обращаясь к историческому материалу сегодня, художник должен быть видимым, оставаясь при этом прозрачным. Литературные опыты Елены Шварц, Виталия Пуханова, Игоря Вишневецкого, Сергея Завьялова — это попытки воплотить зиму