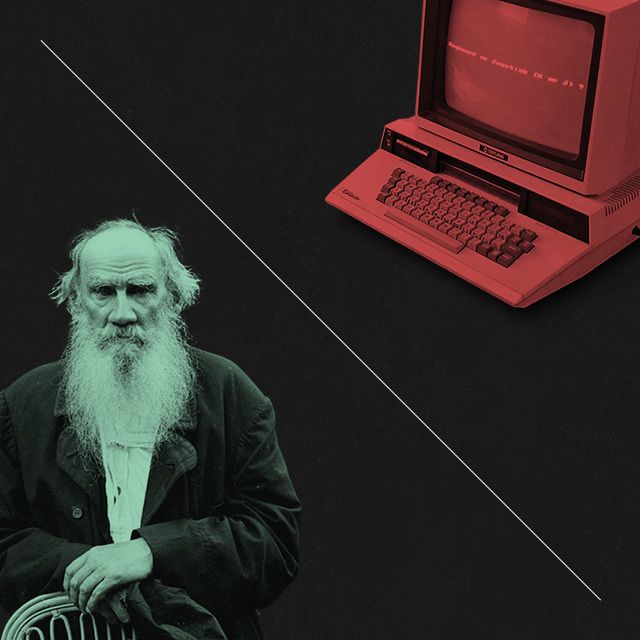Расшифровка Лев Толстой и власть
В сентябре 1878 года Толстой переживал острый духовный кризис. Это было время отказа от художественного творчества, перехода к творчеству религиозному, принятия православия, от которого он впоследствии отказался в пользу собственного вероучения. Свое религиозное обращение он описал на последних страницах «Анны Карениной» — религиозное откровение Левина хронологически совпадало с обращением самого Толстого. В этот же период Толстой начинает набрасывать несколько вариантов автобиографии. На переломе, перейдя в новую фазу своей жизни, он считает необходимым оглянуться на пройденный путь. Один из этих вариантов автобиографии, знаменитая «Исповедь», хорошо известна. Но есть и другая. Он начинает писать текст, который называется «Моя жизнь», от которого в итоге остается буквально несколько разрозненных фрагментов, несколько страниц.
Вот первый из этих фрагментов, в котором Толстой описывает свое первое жизненное впечатление, каким он его помнит:
«Вот первые мои воспоминания. Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мной стоят, нагнувшись,
кто-то , я не помню кто, и все это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собою. Я не знаю и никогда не узнаю, что такое это было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руки или это пеленали меня, уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи, собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страданье, но сложность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому все нужно, я слаб, а они сильны».
Стоит отбросить накопленную за ХХ век привычку подвергать ранние детские воспоминания психоаналитическим толкованиям. Я хотел бы подчеркнуть, что перед нами не информация из подсознания, добытая на кушетке психоаналитика, а вполне сознательная, отчетливая и сделанная взрослым человеком реконструкция собственного детского воспоминания, рефлексия над ним, его (вос)произведение и (вос)создание. Но очень характерно, что на решающем переломе собственной жизни Толстой описывает это впечатление как первое и самое сильное. Это впечатление несвободы, впечатление чужой власти, с которой ты ничего не можешь сделать, и особенно страшной и невыносимой, потому что эта власть не враждебная. Люди, стоящие над ним, любят его и думают, что они делают как ему лучше. А маленький ребенок, которым себя видит в этом воспоминании Толстой, протестует против этой навязываемой ему любви, которую он переживает как насилие. Он связан, ему надо вырваться, он протестует, его не слышат, не понимают, люди жалеют его, но не развязывают. Это, возможно, центральная коллизия жизни Толстого — власть, насилие, которое иногда открытое, враждебное, легко понятное, но в данном случае дружественное и именно поэтому особенно невыносимое и страшное.
Интересно, что Толстой говорит, что его поражает сложность и противоречивость чувства, — то есть в этом же впечатлении есть характерные начатки специфической толстовской психологии, психологического анализа. Маленький ребенок понимает, что насилие над ним исходит из любви и заботы. О человеке вроде бы заботятся, но забота проявляется неизбежно в насилии. И эта борьба с насилием, с правом одного человека осуществлять власть над другим становится, на мой взгляд, центром и нервом жизни, философии и судьбы Толстого.
Характерным образом взгляды Толстого по очень многим вопросам бесконечно менялись на протяжении его жизни. Софья Андреевна, еще не будучи его женой, написала повесть под названием «Наташа», в которой изобразила своего будущего мужа. Толстой был чрезвычайно задет тем, что одной из черт героя, которому он послужил прототипом, была «переменчивость мнений». Он действительно часто менял свои мнения, свои позиции. У него менялись взгляды на любовь, на семью, на религию, на родину, на войну и мир, на патриотизм, но в том, что реконструировано в этом первом впечатлении, то, что можно воспринимать как ядро личности, — в этой позиции Толстой не менял свое мировоззрение никогда. Это идея неприятия власти, идея борьбы и внутреннего протеста, желание докричаться, чтобы тебя развязали, попытка и требование к связывающему, давящему, держащему тебя миру: развяжите меня и отпустите меня. Мир не слышит, не понимает, не хочет отпускать. И с этим Толстой проходит через всю свою жизнь, постоянно ища способы устроить собственную жизнь таким образом, чтобы не испытывать над собой этой власти, и потом переходит к устройству общественной жизни, в которой нет этой давящей его власти человека над человеком.
Позиция Толстого — это позиция радикального анархизма. В некоторой степени его религиозная философия, философия ненасилия, может быть выведена из неприятия идеи власти. Власть осуществляется через насилие, через то, что один человек другому приказывает, что тому делать, с помощью угроз применить к нему
Толстой проходит военную службу. Армия является примером дисциплины, подчинения чужим приказам. На всю жизнь потом для него армия становится образцом насилия одних людей над другими — не столько даже над врагами, в которых ты стреляешь, сколько образцом насилия командиров над солдатами, над теми, кого посылают на войну, не спросив их воли, заставляют убивать и умирать. Толстой был храбрым и энергичным офицером, но он с трудом воспринимал воинскую дисциплину, которая ему не давалась никаким образом. При первом удобном случае он оставил армию, понимая, что военная служба не для него. И потом история Толстого, история всей его жизни — это история последовательных бунтов против правил и стандартов, которые ему навязывало окружение. Начиная с литературной среды второй половины 1850-х годов: он приезжает в Петербург знаменитым писателем, надеждой русской литературы как автор «Севастопольских рассказов» и «Детства»; он фантастически популярен, его очень рано воспринимают как будущего гения, и с самого начала он начинает провоцировать окружающий его круг. Авторитеты вроде Некрасова (главного издателя, вокруг которого создается кружок «Современника»), Тургенева (самого популярного писателя того времени и друга Толстого) пытаются и искренне хотят ему покровительствовать. Они хотят ввести молодого гения в литературу. Но история отношений Толстого с ведущими литературными авторитетами — это история вызова, оскорблений, протеста, бури, кончающихся всегда острыми разрывами.
Однажды Толстой публично обвинил Тургенева, Некрасова и других собравшихся писателей в том, что у них нет убеждений. Обвинить литераторов круга «Современника» в том, что у них нет убеждений, было самым страшным оскорблением, которое можно было им нанести. Они были уверены, что у них не только есть убеждения, но и что эти убеждения определяют будущую судьбу России: это время обсуждения отмены крепостного права, грядущих реформ и так далее. Толстой сказал, что он за свои убеждения готов сражаться, а для его собеседников это всё слова и салонный разговор. Тогда возмущенный Тургенев, всегда переходивший на фальцет, когда волновался, сказал: а что вы тогда здесь делаете? это не ваше знамя, ступайте к княгине Белосельской-Белозерской То есть проводите время не в кругу прогрес–сивных писателей, а в аристократических салонах, одним из которых был салон княгини Белосельской.. На что Толстой сказал: ну, во-первых, это не ваше дело, куда мне идти, а во-вторых, даже если я уйду, у вас убеждения от этого не появятся.
И это непризнание права других определять собственную повестку дня, решать, о чем ты должен говорить, постоянный протест против господствующего мнения, принятых взглядов и правил определяют всю жизнь Толстого. В 1860-е годы, когда вся страна занята острейшими вопросами, которые занимают Россию после падения крепостного права (судебная реформа, гласность, эмансипация женщин, военная реформа и прочее), Толстой изолирует себя в поместье и пишет роман о том, как прекрасна была жизнь при старом режиме, создает идеальный образ старого времени, идя абсолютно наперекор общественному мнению, общей позиции, тренду, который претендует на власть над умами.
Еще до этого времени, когда Толстой прекращает литературную деятельность, он занимается преподаванием — открывает крестьянскую школу. Преподавание (Толстой учит крестьянских детей) — это сфера деятельности, которая, казалось бы, по определению основана на
«…преподавание и учение суть средства образования, когда они свободны, и средства воспитания, когда учение насильственно и когда преподавание исключительно, то есть преподаются только те предметы, которые воспитатель считает нужными. <…> Воспитание есть принудительное, насильственное воздействие одного лица на другое с целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим; а образование есть свободное отношение людей, имеющее своим основанием потребность одного приобретать сведения, а другого — сообщать уже приобретенное им».
И далее:
«Воспитание есть возведенное в принцип стремление к нравственному деспотизму. <…> Права воспитания не существует. Я не признаю его, не признаёт, не признавало и не будет признавать его все воспитываемое молодое поколение, всегда и везде возмущающееся против насилия воспитания».
Это очень радикальная позиция, основанная на том, что ни возраст, ни статус, ни образование, ни авторитет не дают тебе основания считать, что ты знаешь, чему надо учить людей.
Позднее, уже в 1870-е годы, Толстой снова выходит на образовательное поле, исходя из этих позиций: его возмущает идея программ, его возмущает, что образованные люди считают, что они лучше крестьян знают, чему крестьянам надо учиться. Он говорит: образование необходимо, но именно такое, какое человек сам хочет получить. Взбешенный Чернышевский еще на первые яснополянские сборники написал рецензию, где говорится, что, если Толстой не понимает, как надо строить образование, ему надо пойти поучиться в университете, который Толстому не удалось окончить, и
Из этой предпосылки можно вывести и философию истории Толстого, какой мы ее знаем по «Войне и миру». Когда Толстой писал свой роман, он еще не был последовательным пацифистом, каким стал позднее. По этому вопросу взгляды его изменились. Защита своей страны, отражение агрессора казались ему делом естественным, законным, вытекающим из самого порядка жизни. Обычно самые радикальные анархисты вынуждены в вопросе войны признавать необходимость государства — кто еще может организовать армию, организовать необходимую логистическую поддержку и как еще устраивать армию, кроме как на основаниях строгой дисциплины? Толстой пишет апологию народной войны, сохраняя радикальность своих анархических убеждений.
Философия истории Толстого состоит в том, что люди идут на войну не потому, что их туда посылает правительство, не потому, что их мобилизуют, а потому, что они сами этого хотят. Философия истории «Войны и мира» связана с представлением, что именно люди на земле, солдаты или крестьяне в мундирах ведут за собой своих командиров и главнокомандующих вплоть до Кутузова и Александра и направляют их. От власти этот импульс не исходит и не может исходить. Позднее в этом смысле интеллектуальная задача Толстого упрощается: он начинает воспринимать власть и любую войну как зло и насилие в чистом виде. И он пишет об этом, что ладно бы многие подчинялись немногим, если бы это были лучшие люди. Но, по глубокому убеждению Толстого, люди, управляющие государствами, пользующиеся политической властью, — это всегда по определению самые худшие люди из всех возможных. По мнению Толстого, не может быть государственной власти, выражающей интересы своего народа и заботящейся о нем. Толстой не принимает не только очевидного российского деспотизма, не имеющего никакого разумного оправдания, потому что в божественное право царей уже никто не верит, но столь же неприемлемой кажется ему и идея представительной власти, идея о том, что власть можно выбрать и ограничить законами.
В своем трактате «Царство божие внутри вас» Толстой пишет:
«Ошибка зиждется на том, что юристы, обманывая себя и других, утверждают в своих книгах, что правительство не есть то, что оно есть — собрание одних людей, насилующих других, — а что правительства, как это выходит в науке, суть представители совокупности граждан. Ученые так долго уверяли других в этом, что и сами поверили в это, и им часто серьезно кажется, что справедливость может быть обязательна для правительств. Но история показывает, что от Кесаря и до Наполеона, того и другого [Наполеона I и Наполеона III], и Бисмарка правительство есть, по существу своему, всегда сила, нарушающая справедливость, как оно и не может быть иначе. Справедливость не может быть обязательна для человека или людей, которые держат под рукой обманутых и дрессированных для насилия людей — солдат и посредством их управляют другими. И потому не могут правительства согласиться уменьшить количество этих повинующихся им дрессированных людей, которые и составляют всю их силу и значение».
Речь идет об армии, полиции, тюремщиках и так далее.
Абсолютная убежденность в том, что никто и никогда и ни при каких условиях не может управлять другим, естественно приводит к идее о том, что любой государственный закон есть институт институционализированного насилия, с помощью которого одни люди принуждают других к повиновению. Никто не имеет права принимать законы, обязательные для других. Единственные законы, которые существуют, — это только нравственные законы, существующие в сердце человека, и никаких других заведомо не может быть. Никакой суд не может быть легитимен, и никакое преступление не может оправдать тюрьмы, присуждения людей к наказанию, казни и тому подобное.
Исходя из тех же радикально анархических позиций, Толстой категорически не принимал идею социальной революции. Революционеры его интересовали: он вглядывался в них с необыкновенным вниманием, он писал о них в последние годы жизни, ему они были симпатичны именно тем, что это люди, обладающие, в отличие от большинства общества, действительно убеждениями, за которые они готовы отдать жизнь, это люди, искренне сочувствующие бедным, но они тоже верят в то, что имеют право принуждать других делать то, что они считают правильным. Как пишет Толстой в предисловии к статье Черткова «О революции»:
«Под свободой революционеры понимают то же, что под этим словом разумеют и те правительства, с которыми они борются, а именно: огражденное законом (закон же утверждается насилием) право каждого делать то, что не нарушает свободу других».
Это, вообще говоря, распространенное определение правового законного государства. Свободное правовое государство — в том, что человек может делать то, что не нарушает аналогичную свободу другого человека.
«Но так как поступки, нарушающие свободу других, определяются различно, соответственно тому, что люди считают неотъемлемым правом каждого человека, то свобода в этом определении есть не что иное, как разрешение делать все то, что не запрещено законом; или, строго и точно выражаясь, свобода, по этому определению, есть одинаковое для всех, под страхом наказания, запрещение совершения поступков, нарушающих то, что признано правом людей. И потому то, что по этому определению считается свободой, есть в большей мере случаев нарушение свободы людей.
Так, например, в нашем обществе признается право правительства распоряжаться трудом (подати) [налоги, одни имеют право требовать деньги у других на основании законов], даже личностью (военная повинность) своих граждан; признается за некоторыми людьми право исключительного владения землей; а между тем очевидно, что эти права, ограждая свободу одних людей, не только не дают свободу другим людям, но самым очевидным образом нарушают ее, лишая большинство людей права распоряжаться произведениями своего труда и даже своей личностью. Так что определение свободы правом делать все то, что не нарушает свободу других, или все, что не запрещено законом, очевидно не соответствует понятию, которое приписывается слову „свобода“. Оно и не может быть иначе, потому что при таком определении понятию свободы приписывается свойствочего-то положительного, тогда как свобода есть понятие отрицательное».
Замечательным образом здесь мы видим анализ, предвосхищающий либеральную идею Берлина о «свободе от» и «свободе для», который считал единственной подлинной свободой негативную Английский философ Исайя Берлин (1909—1997) определил две концепции свободы: «позитивная» — «свобода для» — свобода быть хозяином собственной жизни, вести какой-то образ жизни, придерживаться тех или иных взглядов, и «негативная» — «свобода от» — от ограничений, накладываемых другими людьми или целым обществом, от вмешательства в частную жизнь. Берлин не ссылается на позднего Толстого, хотя ранний Толстой его интересовал очень, и преемственность здесь в высшей степени очевидна. По Толстому, «cвобода есть отсутствие стеснения. Свободен человек только тогда, когда никто не воспрещает ему известные поступки под угрозой насилия. И потому в обществе, в котором так или иначе определены права людей и требуются и запрещаются под страхом наказания известные поступки, люди не могут быть свободными».
То есть ни в каком обществе, где существует закон и где права письменно определены и человеку угрожают наказанием, свободными люди быть не могут: «Истинно свободными могут быть люди только тогда, когда они все одинаково убеждены в бесполезности, незаконности насилия».
Это утопия полной и радикальной свободы личности. Вопрос, конечно, стоит тогда таким образом: а как эта абсолютная свобода человека может быть осуществлена? Осуществляется она на основе его внутреннего нравственного закона и реализована может быть только явочным порядком, путем категорического отказа от насилия, от судебных тяжб, от собственности, стесняющей и ограничивающей человека. Собственность требует охраны: тебя могут обокрасть, а значит, ты вынужден прибегать к силе закона, поэтому ты можешь быть свободен, только когда у тебя нет собственности, когда ты в том числе свободен от собственного прошлого, от обязательств, которые ты не можешь на себя брать.
Литературное творчество Толстого показывает то же отношение к психологии личности. Человек становится свободен только в тот момент, когда он оказывается свободен от себя самого. Один из ключевых кульминационных эпизодов в «Войне и мире» — это свидание Пьера и Наташи после войны, когда Пьер сначала Наташу не узнаёт, потом она улыбается, он ее узнаёт — и ее, и свою любовь к ней. «Это была Наташа, и он любил ее» и так далее, потом они начинают разговаривать. И княжна Марья его спрашивает в присутствии Наташи о том, что он теперь свободен, — умерла его жена Элен. И Пьер говорит: да, мы не были примерными супругами, но я так тяжело пережил, смерть без утешения, среди других — это ужасно, и прочее. И он видит, что он сказал то, что нужно, что Наташа сочувствует ему, понимает. Одним месяцем его жизни и примерно 20 страницами раньше рассказывается, как Пьер ворочается в постели и, вспоминая, что его жены больше нет, говорит: Господи, как хорошо. То есть всего, что он рассказывает Наташе, вообще никогда не было. Лжет ли он ей, обманывает ли? Нет. Он стал другим человеком. Под ее взглядом он стал другим человеком и искренне не помнит, что с ним было раньше. Это полное перерождение, это отказ от себя, возможность отказаться от связывающей тебя силы прошлого — это тоже форма осуществления свободы.
В реальной повседневной жизни человека, в сущности, единственной формой реализации вот этого неприятия власти становится жест отказа. Человек оказывается свободен от власти, не подчинен только тогда, когда он отказывается от
В 1862 году Толстой отказался от яснополянской школы. Решение оставить преподавание, много для него значившее, было для него трудным, но ему помог обыск, проведенный у него дома по правительственному распоряжению: в Ясной Поляне искали подпольную типографию, не нашли, но переворошили весь дом (сам Толстой тогда отсутствовал). Как он писал Александре Андреевне Толстой в письме, «хорошо, что меня не было, потому что иначе я был бы сейчас уже под судом за убийство». Он был взбешен и как гражданин, который никогда не подстрекал ни к какой революции и насилию, и как аристократ, права которого нарушены, и как анархист, которому продемонстрировали грубую бессмысленную силу: пришли, вломились в дом с обыском, прочитали его интимные дневники, которые он никому не показывал, напугали его престарелую тетушку и так далее. Толстой думает об эмиграции в этот момент, всерьез размышляет об идее покинуть страну. Но он не уезжает, он отказывается от школы, запирается в Ясной Поляне и начинает работать над «Войной и миром». Этот жест отвращения, который вызвало у него государственное насилие, позднее тоже был отрефлексирован в «Моей жизни».
Первое жизненное впечатление Толстого, воссозданное в этом тексте, отражается и в последних впечатлениях его жизни — в том виде, в каком они зафиксировались в дневниках самого Толстого и в воспоминаниях и дневниках близких ему людей. Вот как Толстой описывает в дневнике свой уход из дома. Он, конечно, долго обдумывал и репетировал свой уход из дома, как и все остальные важные решения жизни, пытался уходить, потом возвращался, но окончательный уход описан следующим образом:
«Лег в половине 12. Спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услыхал отворение дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это С[офья] А[ндреевна]
что-то разыскивает, вероятно читает. Накануне она просила, требовала, чтоб я не запирал дверей. Ее обе двери отворены, так что малейшее мое движение слышно ей. И днем и ночью все мои движенья, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, осторожно отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь и входит С. А., спрашивая „о здоровье“ и удивляясь на свет, который она видит у меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Пишу ей письмо, начинаю укладывать самое нужное, только бы уехать».
Мы знаем, что Толстой не выдержал помещичьего стиля жизни, и это было причиной кризиса в семье. Но фактором, определяющим его окончательное решение уйти, стала попытка контроля. Его попытались поставить под контроль, и этого уже невозможно было выдержать. Он покидает дом, он уходит, отказывается от всего, разрывает последние нити, связывающие его с семьей и его бытом. Вот этот жест ухода и отказа становится самым главным.
В этой связи приобретают особенное значение и последние слова, сказанные Толстым в жизни. Обычно, когда описываются последние минуты или часы жизни Толстого, ссылаются на Александру Львовну, его младшую любимую дочь, которая вспоминала его последние слова. И она пишет, что он уходит со словами «всех люблю, люблю много» и так далее. Но, по дневникам семейного врача Толстых Маковицкого, это были не последние слова. Потому что потом Толстому делали укол камфоры, чтобы поддержать сердце. Толстой не любил медицину, не верил во врачей, не хотел никаких уколов. А ему насильно делали укол — опять к его лежащему телу (он уже был в почти бессознательном состоянии) применяли насилие, власть, заботясь о его здоровье. Как Софья Андреевна заботилась о нем, как те два человека, которые стояли в первый день, так и снова — это была насильственная власть — его пытались насильственно поддержать, помочь, вылечить. Последними, по воспоминаниям Маковицкого, сказанными Толстым уже в почти бессознательном состоянии словами были «Пора удирать