Лев Толстой против всех
- 7 лекций
- 4 материала
Аудиолекции о жизни и смерти великого русского писателя, а также его смешные выражения, мудрые мысли, личные вещи и тест на литературное чутье


Аудиолекции о жизни и смерти великого русского писателя, а также его смешные выражения, мудрые мысли, личные вещи и тест на литературное чутье
Семейная тема — важнейшая и в жизни, и в творчестве Толстого. Сначала обратимся к творчеству.
Почти все ранние произведения Толстого так или иначе автобиографичны или имеют какие-то автобиографические истоки. Возьмем дебютное произведение Толстого, повесть «Детство», и вспомним: когда заканчивается детство Николеньки Иртеньева? Оно заканчивается, когда умирает его мать. Смерть матери — это конец детства и начало совершенно другой жизни, это потеря райского состояния души. Николенька теряет мать, когда он находится уже в сознательном возрасте, он понимает, что вот мамы нет, вот она стала тело. Тема смерти матери была и в жизни Толстого, но несколько иначе. Толстой потерял мать, когда ему не было еще и двух лет. Так четверо братьев Толстых и сестра Маша становятся сначала полусиротами, а потом, еще несовершеннолетние, теряют и отца (Льву было восемь лет), и начинаются мытарства по опекуншам, тетушкам, по сестрам отца. Сначала они живут в Москве, у тетушки Александры Ильиничны Остен-Сакен, потом переезжают в Казань к другой сестре отца — Пелагее Ильиничне. И тетушки, в
Давайте посмотрим следующее произведение Толстого. Вот, казалось бы, «Казаки» — каким образом это связано с темой семьи? Герой повести Оленин бежит на Кавказ, потом бежит с Кавказа: молодой человек ищет себя. Но тут есть один очень важный момент, когда вот этот старый казак Ерошка говорит юнкеру Оленину: «Нелюбимый ты
Это тоже автобиографическая тема для Толстого, потому что сам Толстой бежал все время. В 1847 году, когда они с братьями находятся в Казани (кстати, отъезд Оленина очень напоминает отъезд Толстого из Казани), младший брат достигает совершеннолетия, и они делят наследство отца. Лев выпрашивает у братьев именно Ясную Поляну — их родовое имение. Хотя оно не самое богатое — пожалуй, даже самое бедное из всех имений, которые были у их отца Николая Ильича. Почему? Это очень интересный момент.
Толстой впоследствии признавался братьям, что он мечтал завести свою семью с 15 лет. О чем мечтают дети в 15 лет? Уехать в Америку, стать офицером, путешествовать, а Лев в 15 лет мечтает стать семейным человеком. Я думаю, что это связано именно вот с тем, что, пройдя опыт сиротства, опыт мытарств по опекуншам, переездов, Лев мечтал продолжить семейную линию Толстых. Он брал на себя эту ответственность и обязанность и именно поэтому хотел уехать в Ясную Поляну.
Любопытно, что никто из братьев Толстых, кроме Льва, толком и не обрел настоящую семью. Старший, Николай, просто был закоренелый холостяк, к тому же рано умер от чахотки (кстати говоря, на руках Льва). Второй, Сергей, жил семейной жизнью, но она была очень странная: он выкупил из табора цыганку Машу Шишкину и прожил с ней до конца своих дней, до 1904 года. Конечно, это был мезальянс: она была необразованна, курила трубку, раскладывала пасьянсы. А надо знать, что Сергей Николаевич, старший брат Толстого, — это отчасти прототип князя Болконского в «Войне и мире». То есть это острослов, умница, человек, который очень много читал.
Что касается другого брата, Дмитрия, — тот совсем был несчастлив. Он тоже рано умер от чахотки и незадолго до смерти сошелся с девушкой, которую выкупил из публичного дома. Этот момент описан в «Анне Карениной», когда Константин Левин приезжает к своему брату Николаю, умирающему от чахотки. Вот та самая рябая Маша, которая ухаживает за ним, — это вот та Маша, которая была при последних днях Мити.
Несчастлива в своей семейной жизни оказалась и сестра Маша. Она вышла замуж за своего дальнего родственника, Валериана Толстого, у них были дети, но он был такой Стива Облонский из «Анны Карениной», не пропускал ни одной женщины. А Мария Николаевна была очень гордая женщина и ушла от своего мужа. Некоторое время она жила в Москве — Лев снимал для нее и ее детей квартиру, — потом уехала за границу, потом стала монахиней. У нее была очень сложная судьба, семейная жизнь не получилась. И вот однажды Мария Николаевна написала Льву в письме: «Хоть бы
Когда Толстой женится на Сонечке Берс, которая станет графиней Софьей Андреевной Толстой в 1862 году, он уже, в общем, достаточно состоявшийся человек. Он отслужил на Кавказе, воевал в Севастополе, он к тому времени уже известный писатель. Уже опубликованы «Детство», «Отрочество», «Юность», а главное — опубликованы «Севастопольские очерки», которые потом будут названы «Севастопольскими рассказами». И это очерки, которые оценил Александр II: он был в восторге от них. Не говоря уже о том, что их высоко оценили писатели того времени — Тургенев, Некрасов и другие. Толстой — помещик, он мог бы оставить имение на управляющего и уехать за границу, как Тургенев. Но Толстой планирует себе совершенно другую жизнь. Он целенаправленно начинает искать невесту.
Сначала появляется Валерия Арсеньева, молодая девушка, соседка его по имению, сирота; он был ее опекуном. Но у них ничего не получается. Потом возникает дочь великого русского поэта и любимого поэта Толстого Тютчева — Екатерина Тютчева. Все вроде бы идет к тому, что он сделает ей предложение, но нет, тоже не устраивает. Потом Дондукова-Корсакова, племянница вице-президента Санкт-Петербургской академии наук, о котором Пушкин написал язвительные строки: «В Академии наук / Заседает князь Дундук». Были и другие претендентки.
Семья Берсов была близка к семейству Толстого: дед Софьи Андреевны, Александр Михайлович Исленьев, был дружен с отцом Льва Николаевича, Николаем Ильичом. Они вместе охотились, приезжали друг к другу в гости в имения. Так что Толстой впервые приехал в гости к матери Сони, которую он знал с детства. Там он знакомится с тремя девочками. Как он пишет, «милые девочки»: это Лиза, старшая; Соня — средняя сестра; Таня — младшая. Они действительно еще девочки, никаких планов на женитьбу у Толстого на
Семейная жизнь Толстого изучена вдоль и поперек, о ней написано огромное количество книг, исследований, и всегда ставился вопрос: насколько Софья Андреевна соответствовала гению Льва Николаевича? Я думаю, что Толстой сделал очень точный выбор. Примерно понимая характеры двух других сестер, понимаешь, что, конечно, Соня была правильный выбор. Но любопытно, что, когда после скоропалительного венчания в кремлевской церкви они уезжают в Ясную Поляну, Толстой записывает в дневнике два слова: «Не она». И вот эти два слова будущие биографы Толстого трактуют очень
Я думаю, дело не в этом, а в том, что Толстой действительно очень долго искал себе невесту, очень долго подбирал жену, поэтому в этот момент он еще продолжает сомневаться. Но последующая жизнь (по крайней мере, 15 лет семейной жизни Толстых) — это, безусловно, абсолютное счастье. Да, с конфликтами, да, со слезами с ее стороны и сердитостями с его.
Главный конфликт, который происходил в семье Толстого в это время, был связан с тем, что до брака у Толстого была связь с крестьянкой Аксиньей Базыкиной, от которой родился внебрачный ребенок. Об этом впоследствии Толстой напишет одно из самых сильных своих произведений — повесть «Дьявол». И когда он его напишет, он будет прятать рукопись 20 лет в обшивке кресла, чтобы ее не нашла Софья Андреевна. Это, конечно, обижает и приводит к некоторым конфликтам. Тем не менее, чтобы понять, насколько эти 15 лет жизни были плодотворны для Толстого, достаточно сказать, что за это время были написаны «Война и мир» и «Анна Каренина» — два произведения, которые составляют главную мировую славу Толстого. И когда Толстой пишет эти вещи, то Софья Андреевна не просто является его женой, подругой — она является его сотрудницей. Она по несколько раз переписывает черновики, она помогает мужу советами по части женских образов. Наконец, если мы возьмем «Анну Каренину», то ведь история любви, женитьбы и семейной жизни Кити и Левина — это абсолютный слепок истории первых лет семейной жизни Льва Николаевича и Софьи Андреевны. В «Анне Карениной» это воспроизведено просто буквально! Скажем, когда Левин сватается к Кити Щербацкой и на ломберном столике пишет начальными буквами признание в любви и предложение руки и сердца, а Кити угадывает по начальным буквам, что он хочет сказать, — это действительно происходило между Львом Николаевичем и Соней, он тоже писал на ломберном столике. Другое дело, что, как впоследствии писала очевидица этого события — младшая сестра Сони Таня, она не угадывала, конечно, по первым буквам, что он хотел написать, он ей подсказывал. Тем не менее это перенесено. И дальнейшая жизнь Кити и Левина в имении, те проблемы, которые возникают в семейной жизни, радости и горе, — это все списано с их жизни, безусловно.
Но после того, как Толстой сделал предложение Софье Андреевне, он совершил одну роковую ошибку. Эта ошибка описана в «Анне Карениной» — точно такую же совершает Константин Левин. В то время вообще было принято вести дневники. Другое дело, что для Толстого дневник был больше чем дневником: в поздние годы Толстой говорил, что это главное, что он написал. Он ценил свой дневник даже выше «Войны и мира» и «Анны Карениной». И в том числе рассказывал там о вещах, о которых молодой жене не принято рассказывать. Потому что, конечно, у него, как у всякого молодого человека, у офицера, который к тому же путешествовал за границей, были случайные связи с женщинами. Наконец, была связь с Аксиньей в Ясной Поляне и внебрачный сын. И всё это Толстой — я бы сказал, с излишней тщательностью — записывал в своем раннем дневнике. Поэтому — особенно у несведущего читателя — может возникнуть такое ощущение, что молодой Толстой был чуть ли не эротоман. На самом деле это не так. Каждой такой связи он стыдился и именно поэтому обращал пристальное внимание на все эти случаи, фиксировал их, чтобы потом раскаиваться. И когда он сделал предложение Сонечке, а она согласилась стать его женой, он совершил поступок, на мой взгляд, совершенно неправильный: он показал ей эти ранние дневники. Больше того — он заставил ее их прочитать.
Для чего он это сделал? Объяснений этому может быть несколько. Первое: Толстой хотел быть честным перед будущей женой, чтобы у нее не было иллюзий по этому поводу. Принимаешь меня таким или не принимаешь. С другой стороны, есть и более простое объяснение. Толстой просто не хотел, чтобы история связи с Аксиньей и рождение сына стали для нее неожиданностью. Можно было рассказать об этом, но он заставил ее прочитать эти дневники. И это был роковой момент в их жизни, потому что Соня очень болезненно их восприняла и, больше того, не могла забыть на протяжении всей последующей семейной жизни. Когда читаешь ее собственный дневник (а она написала очень талантливый дневник), то видишь, как она часто вспоминала это. Так что этот дневник стал как бы бомбой, заложенной в семейное счастье Толстых. Не нужно было шокировать молодую девушку. Толстой это сделал — трудно судить, прав он был или не прав.
Но 15 лет, с 1862 по 1877 год, Толстой и Софья Андреевна, безусловно, счастливы в семейной жизни. У них рождаются один за другим дети. Однако в 1877 году с Толстым начинается то, что впоследствии стали называть его духовным переворотом, после которого рождается новый Толстой. Он совершенно иначе смотрит не только на семью, а вообще на жизнь и на мир. То, что ему раньше казалось черным, теперь представляется белым; то, что раньше представлялось белым, теперь представляется черным. Первые 15 лет Толстой — правильный муж, правильный помещик, правильный писатель. Он стяжатель, он покупает новые имения в Самарской губернии — это дешевые земли, и он знает, что потом они будут стоить дороже, потому что это чернозем. Он запрашивает большие гонорары у издателей, уходит от Некрасова к Каткову, из «Современника» в «Русский вестник», потому что Катков платит больше. И вообще, так сказать, в его семейных планах — много детей, много денег, большое наследство, которое он оставит детям и так далее.
А вот с конца 1870-х — начала 1880-х годов это совершенно другой Толстой. Толстой, который приходит к идее, что собственность — зло, деньги — безусловное зло, от всего этого нужно освобождаться. Если мы почитаем тот проект семейной жизни, который Толстой записал в своем дневнике в начале 1880-х годов, то мы увидим, что это проект семейной коммуны: две комнаты, в одной живут мужчины, в другой — женщины. Одна комната для уединения, для тех, кто уж совсем отчается. Свой огород, на котором работают все. И всё остальное раздать нищим У Толстого: «Жить всем вместе: мущинам в одной, женщинам и девочкам в другой комнате. Комната, чтоб была библиотека для умственных занятий, и комната рабочая, общая. По баловству нашему и комната отдельная для слабых»..
Софье Андреевне он, конечно, не показал этот проект в написанном виде, но на словах он его высказывал, безусловно. И вот с этого момента в семье начинаются очень серьезные конфликты. Потому что жена не соглашается на этот новый проект жизни. И в связи с этим тоже впоследствии у биографов возникал целый ряд вопросов. Вот с чем это было связано? С тем, что она хотела много денег, что она не понимала своего мужа? Это все не так. Софья Андреевна не была жадной женщиной, и она прекрасно понимала своего мужа. Вообще, она была очень умной женщиной, очень тонко понимала его творчество и, в общем, понимала взгляды, к которым он пришел. Но именно в этот момент, когда с Толстым происходит этот переворот, семья оказывается самой многочисленной. Вообще Софья Андреевна родила 13 детей, но пятеро из них, как это обычно случалось в XIX веке, умерли в младенчестве. Медицина была достаточно низкого уровня, антибиотиков не было, детская смертность была очень высока.
Так вот, к моменту духовного переворота семья — самая многочисленная. Старший, Сергей, должен поступать в университет; другие два его брата, Илья и Лев, должны поступать в гимназию. Татьяна, вторая по старшинству после Сергея, девушка — ей надо выходить замуж. Она очень талантливая художница, ее талант признавал Илья Ефимович Репин; она поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, и в связи с этим семья переезжает из Ясной Поляны в Москву. С другой стороны, на руках у Софьи Андреевны еще грудные дети. И вот в этой ситуации, конечно, встать на сторону мужа она не может. Больше того — я думаю, что и Толстой понимал, что это невозможно, и именно в силу этого искал
Прежде всего, Толстой не отказывается от собственности, а переписывает собственность на жену и детей — это происходит в начале 1890-х годов. Софья Андреевна становится хозяйкой Ясной Поляны, и фактически на нее взваливаются все хозяйственные заботы. Одновременно она является издательницей своего мужа. Она сама издавала его произведения, отвозила их в типографии, затем складировала книги в московском доме в Хамовниках, куда за ними приезжали оптовые книгопродавцы. Потом, в начале 1890-х годов, Толстой пытается полностью отказаться от авторских прав. Это удивительно, когда писатель считает, что он ничего не должен получать за свои произведения, что литература — это духовное дело, поэтому получать за нее деньги нельзя. А доходы от сочинений Толстого — это главные доходы семьи. И опять они находят компромисс: Софья Андреевна получает право издавать те произведения, которые Толстой написал до 1881 года, а это и «Война и мир», и «Анна Каренина», и «Казаки», и «Севастопольские рассказы», это автобиографическая трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность», то есть золотой Толстой в нашем представлении сегодня. Но все, что он пишет после 1881 года, уже ей не принадлежит и безвозмездно расходится по издателям.
Одновременно в семье Толстых появляется человек, о котором нельзя, конечно, не упомянуть, — Владимир Григорьевич Чертков. Фигура очень загадочная, о которой до сих пор спорят. Он был, безусловно, самым преданным учеником Толстого, Толстого после духовного переворота, но сыграл прямо зловещую роль в семейной истории Толстых.
Чертков происходил из очень богатой семьи, ему прочили блестящую армейскую карьеру, но в 1883 году он приходит к Толстому в дом в Хамовниках и, что называется, отдает себя ему в услужение. То есть он готов служить Толстому всю жизнь. Он прочитал его сочинения, включая написанные после духовного переворота, религиозные — «Исповедь», «В чем моя вера» и другие, — и он их абсолютно разделяет. И впоследствии Чертков сыграл очень большую роль в распространении и пропаганде этих сочинений во всем мире. Он сам их переводил, находил переводчиков, печатал за границей, ведь все религиозные сочинения Толстого в России были запрещены духовной цензурой, поскольку не совпадали с церковной позицией. Чертков очень много еще сделал для сохранения архива Толстого, это тоже очень важно.
Но в плане семейной биографии он, конечно, сыграл роковую роль, потому что с определенного момента вступает в очень жесткий конфликт с Софьей Андреевной. Она не желает отдавать своего мужа, считает, что Лев Николаевич еще и отец большого семейства и что он должен служить также семье, а не только всему миру. А Чертков убежден в том, что Толстой не может принадлежать семье, это достояние человечества. И вот этот конфликт, когда главный и самый преданный ученик считает себя куда более близким к гению человеком, нежели его жена, а жена с этим на полных основаниях не соглашается, в конце концов приводит к тому, что Чертков уговаривает Толстого написать завещание на литературные права, в котором жена бы не упоминалась. Это завещание стало одной из главных причин ухода Толстого из Ясной Поляны, потому что слухи о том, что такое завещание написано, до нее все-таки доходили, все это обостряло семейную ситуацию. И осенью 1910 года Толстой со своим другом доктором Маковицким уезжает из Ясной Поляны и умирает на станции Астапово. Софью Андреевну сначала даже решили не пускать к умиравшему мужу. Это была действительно очень трагическая ситуация.
То есть, казалось бы, семейная жизнь заканчивается катастрофой. Да, но это катастрофа, которая имела прелюдию в 48 лет. Они прожили с Софьей Андреевной 48 лет. Она родила 13 детей. Прямых потомков Толстого сегодня по всему миру насчитывается почти 400 человек, они живут буквально во всех странах мира — и знают друг друга. Они переписываются, они раз в два года съезжаются в Ясную Поляну. Я не знаю другого писателя, у которого была бы такая долгая и при жизни, и после жизни семейная история, как у Толстого.
Семейная тема организует все творчество Толстого. Вот возьмите «Войну и мир»: да, эпопея, история народной войны, но попробуйте убрать из романа семейные линии Ростовых, Болконских, историю несчастной женитьбы Пьера и затем его женитьбы на Наташе Ростовой, и вы увидите, что эта эпопея распадется просто на отдельные военные эпизоды и размышления Толстого по поводу этих военных эпизодов. То есть семейные линии — это отражение семейной линии самого Толстого, потому что Ростовы — это Толстые; Болконские — это Волконские, линия матери Толстого. В Пьере, конечно, Толстой в
Но даже если мы возьмем поздние произведения Толстого, когда у него очень сильно изменился взгляд на семью, семейная тема все равно все время возникает. Я уже упоминал повесть «Дьявол» начала 1890-х годов, но тогда же, в 1890 году, появляется «Крейцерова соната», произведение, которое полностью посвящено семейной теме — теме ревности. Произведение, которое начинается с убийства жены и монолога мужа о том, почему он это сделал. Но любопытно, что, если мы возьмем даже последнее крупное законченное произведение Толстого, повесть «Хаджи-Мурат», в котором, казалось бы, нет никакой семейной темы — это история чеченской войны, история реальной личности Хаджи-Мурата, который ушел от Шамиля к русским, потом бежал от них, был настигнут по дороге и убит, — но почему Хаджи-Мурат уходит от русских? А от русских он уходит потому, что Шамиль взял в заложники его жену и сына и грозится сына ослепить. И вот когда Хаджи-Мурат это узнаёт, все остальные соображения просто летят к черту! Семья оказывается главным.
Дети Толстого и Софьи Андреевны — это отдельная очень интересная тема. Все дети Толстого — те, кто дожил до зрелого возраста, — были очень яркими и очень непохожими друг на друга людьми. Но при этом во всех них было
После революции, так уж случилось, что все, кто дожил, за исключением Сергея, самого старшего, оказались за границей. И сегодня потомки Толстого в основном проживают за границей. Это произошло именно в силу революции и Гражданской войны. Его самую младшую дочь, Александру, два раза арестовывали. И вытаскивал ее как раз ученик и самый преданный друг Толстого Владимир Григорьевич Чертков, у которого были тесные связи с большевиками Здесь, очевидно, имеется в виду случайное задержание Александры Толстой 15 июля 1919 года. Толстую действительно арестовали, но через день отпустили. Уже 17 июля она писала сестре: «Милая Танечка! Пишу тебе из дома, куда благополучно пришла вчера в 6 часов вечера. Выпустили меня по ходатайству Черткова через Дзержинского и Каменева, арест был произведен потому, что найден был мой адрес у
Отношения с отцом, особенно у сыновей, были сложные. Очень трудно быть сыном гения. Именно мальчику, потом юноше, потом зрелому мужчине, потому что они все были самобытны, они все были индивидуалисты, все хотели
Тем не менее Толстого дети, безусловно, любили, это видно по их мемуарам, по их дневникам. Почти все они оставили совершенно замечательные воспоминания об отце. Конечно, самой выдающейся личностью из всех стала Александра, которая организовала Толстовский фонд в Америке. Это совершенно грандиозная организация, которая помогала всем беженцам от разных войн, которые оказывались за границей, причем не только русским. К ней с невероятным уважением относились американские президенты, ей посылал поздравительные телеграммы с юбилеем Солженицын. Она дожила до 95 лет и была незаурядной личностью.
Что составляло религиозное ядро личности Толстого? На эту тему написаны уже сотни тысяч работ на всех языках мира, но каждая эпоха требует еще раз вернуться к данной теме: такую большую актуальность для читателей она представляет. Ведь речь идет об отлучении от церкви гордости русской нации, самого известного русского человека начала ХХ века. И самое загадочное здесь то, что граф Лев Толстой последние 30 лет жизни постоянно подчеркивал, что является человеком религиозным, признающим необходимость жизни с Богом. За что же тогда его отлучать?
Было бы важно понять, какие события в молодости могли оказать решающее влияние на формирование сначала критического, а затем и гиперкритического отношения Толстого к Церкви. Многого мы здесь не знаем, но на один известный момент, о котором Толстой впоследствии неоднократно вспоминал, я бы хотел обратить внимание. Это своеобразное открытие, сделанное московскими гимназистами, друзьями Толстого, так потрясшее его в 11-летнем возрасте: Бога нет! Эта новость живо обсуждалась братьями Толстыми и была признана достойной доверия Толстой пишет об этом: «Помню, что, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались этою новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как
Толстой очень рано осиротел: уже в восьмилетнем возрасте он остался без матери и отца, и поэтому говорить о систематическом религиозном воспитании в его случае не приходится. Однако граф был одним из самых усердных читателей XIX века — как с точки зрения количества прочитанного, так и с точки зрения качества чтения. Этот вывод подтверждает его яснополянская библиотека. И Евангелие всегда играло значительную (может быть, решающую) роль в его жизни. Однако воспринимал он евангельский текст сквозь призму знаний и представлений европейского образованного человека того времени. В первую очередь здесь следует упомянуть о горячем увлечении идеями Жан-Жака Руссо, эпохи Просвещения. То есть времени, которое в основном приходится на XVIII век, когда французскими энциклопедистами был провозглашен призыв к прогрессу, знанию, науке, борьбе с абсолютизмом власти, невежеством, предрассудками — в первую очередь религиозными.
Так вот, из эпохи Просвещения писатель вынес три простые идеи. Первое — идея о том, что простое и естественное предпочтительнее культурного и сложного. Второе — идея о том, что носителем этого простого и естественного является русский народ. И наконец, третье — идея о том, что миром и жизнью человека управляет абсолютный и безличный Бог. Совершенно особое место в духовной биографии Толстого принадлежит, как я говорил, одному из главных деятелей французского Просвещения — Жан-Жаку Руссо. Его влияние прослеживается практически во всех сферах мысли, которые притягивали Толстого: воспитание, школьное обучение, история, наука, религия, политика, отношение к современности и так далее.
Я процитирую письмо, отправленное в 1905 году Толстым учредителям Общества Руссо в Женеве:
«Руссо и Евангелие — два самые сильные и благотворные влияния на мою жизнь. Руссо не стареет. Совсем недавно мне пришлось перечитать некоторые из его произведений, и я испытал то же чувство подъема духа и восхищение, которое я испытывал, читая его в ранней молодости».
И именно у Руссо Толстой нашел главную идею своего мировоззрения — критику цивилизации, то есть современного государства и общества, которые фактически подавляют человека, убивают в нем все естественное и при этом называют себя христианскими.
Особо нужно сказать об Оптиной пустыни в жизни Толстого. Оптина пустынь в XIX веке была крупнейшим духовным центром Русской православной церкви, монастырь этот начал возрождаться фактически в начале XIX века и привлекал к себе внимание на протяжении ста лет, до своего закрытия, потому что в этом монастыре проживали подвижники благочестия, монахи, которых в народе называли старцами. Примечательный факт: Толстой, воспринимавшийся монахами пустыни как отступник, отлученный от церкви, в Оптиной бывал чаще, чем любой другой русский писатель, за исключением философа Константина Леонтьева, одного из лидеров русского консерватизма. Леонтьев также после своего религиозного обращения часто бывал в Оптиной пустыни, а с 1887 года в течение последних четырех лет жизни проживал в монастыре.
Что же мы можем сказать о религиозных взглядах Толстого и их отличии от церковного христианства? Очень важным источником для понимания духовной конституции Толстого и эволюции этих взглядов являются своеобразные «символы веры», то есть краткие записи в дневнике, которые появляются достаточно рано и в которых писатель излагает нечто самое важное в области его личной веры.
Вот самый известный отрывок такого рода, который датируется 1855 годом:
«Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение, я понимаю, могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и
когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией — вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня».
В этом тексте мы видим все самое главное, что есть в «религии Толстого». Она должна соответствовать интеллектуальному развитию человечества, в ней нет места таинственности и сказкам, нет места блаженству после смерти, но в ней очень силен момент практический — строительство Царства Божьего здесь, на земле. Причем, как дальше будет писать Толстой, фундаментом этой практической религии становится не вера и не Церковь, и не Воскресение Христово, а моральные заповеди.
Если изучать ранние дневники Толстого, поражает количество всевозможных правил морального порядка, которые предписывает себе писатель. Эти правила призваны регулировать его жизнь, сделать ее чистой и праведной, помочь преодолеть свои недостатки. Но это не всегда получается. И Толстой постоянно ломает себя, кается в распущенной жизни и лени, создает новые правила, планы и графики жизни, снова их нарушает, снова кается. Титаническая моральная работа, которую ведет над собой достаточно молодой человек, действительно впечатляет и имеет в духовной истории XIX века мало аналогов. Граф Толстой последовательно и упорно занимается той «рубкой леса», о которой он писал в одном из ранних рассказов, только теперь это просека в чаще неверия, греха в «лесу», который представляла собой религиозная жизнь его современников.
Результаты размышлений над прочитанным писатель заносил в дневник. Первая запись здесь относится к 1847 году, а последняя сделана в 1910-м, за несколько дней до смерти. Таким образом, Толстой вел дневник 63 года с некоторыми не очень значительными перерывами. Это уже необычно даже для усердных обитателей XIX века. Дневники Толстого — это действительно лаборатория, полигон, собрание набросков, причем не только в области, как сам Толстой говорил, художества.
Уже в этом последнем отношении записи Толстого очень интересны. Читая их, понимаешь, почему русский философ Серебряного века Дмитрий Мережковский назвал Толстого «тайновидец плоти». Но важно, что этим же методом Толстой пытается анализировать и законы духа. Те определения веры, Бога, «я», своего места в мире, которые он сегодня дает в дневнике, а завтра может радикально отвергнуть, превращают дневник Толстого в совершенно особый документ по истории религиозности и духовной мысли XIX века. Именно этим путем Лев Толстой приходит к конфликту с церковным христианством. Он отвергает Церковь, таинство, молитву в ее традиционном понимании; отныне для него Церковь — историческая форма тонкого обмана, угодничества перед имущими классами и государственной властью.
Нужно заметить, что в своих воспоминаниях все близкие Толстому лица подчеркивают очень неожиданный характер переворота, совершившегося в писателе в конце 70-х годов XIX века. В частности, его двоюродная тетка, фрейлина двух императриц, одна из самых проницательных русских женщин XIX века графиня Александра Андреевна Толстая указывает в своих воспоминаниях, что вдруг в 1878 году ее племянник является проповедником
Обычно принято считать, что духовный кризис Толстого приходится именно на конец 70-х — начало 80-х годов. Действительно, в этот период писатель пережил глубокий мировоззренческий перелом, приведший к изменению его отношения к Церкви и появлению в следующие 30 лет жизни ряда произведений религиозно-философской направленности. В этих сочинениях Толстой предпринял попытку теоретически обосновать свои новые взгляды на религию, нравственность, искусство, политику, цивилизацию, крестьянский вопрос — практически на все актуальные вопросы русской жизни.
Но кризисы в жизни Толстого бывали и раньше. Новый перелом носит принципиальный характер. Если раньше Толстой искал способ приспособить свои собственные взгляды к церковному христианству (как было, например, в конце 1850-х годов), найти для себя, образованного человека, место в Церкви, то теперь он радикально отвергает такую возможность. Он отвергает не только таинство, не только церковную догматику, но и фактически свое присутствие в Церкви и ищет способ
Конечно, такая позиция не была
Опыты нового перевода Евангелия, которые начинает предпринимать писатель, имели особое значение для Толстого, как и попытки его нетрадиционной интерпретации. Ведь от того, насколько убедительной была его критика церковного понимания Нового Завета, зависела и убедительность его критики церковной догматики. В первую очередь «освобождение Евангелия» было направлено на критику в нем всего чудесного. Малейшее упоминание какого-либо чуда должно было быть удалено из евангельского текста. Это в первую очередь относится и к главному евангельскому событию — Воскресению Христову. «Евангелие» Толстого, заметим, заканчивается не воскресением Спасителя, а его смертью на Кресте, а все чудеса Христа либо трактуются чисто рационалистически, либо просто отрицаются как неподлинные поздние вставки.
Но работа Толстого над евангельским текстом заключалась вовсе не только в освобождении Евангелия от мистического элемента. Фактически эту работу нельзя назвать переводом в строгом смысле слова, это очень произвольная интерпретация. Я приведу только один пример такого рода. Давайте сравним следующие два отрывка. Эти отрывки относятся к 3-й главе Евангелия от Матфея, стихи 5 и 6, речь в них идет об Иоанне Крестителе. В традиционном, то есть в синодальном, переводе говорится следующее: «Тогда Иерусалим и вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи своя». Выходили к Иоанну Предтече. Вот толстовский вариант этого текста: «И к Иоанну приходил народ из Иерусалима и из деревень по Иордану, из всей земли Иудейской. И он купал в Иордане всех тех, которые сознавались в своих заблуждениях». Ну совершенно очевидно, что сакраментальный смысл, заложенный евангелистом Матфеем, полностью уходит, остается
С точки зрения писателя, Бог — это безличный хозяин и отец, начало начал разума, носитель духовного глубинного «я» человека. И в этом смысле Бог Толстого бессмертен. Фактически Бог Толстого есть духовная сущность в человеке, которая проявляется в любви, поэтому этот Бог может развиваться и совершенствоваться. Это развитие и есть приближение человечества к Царству Божьему на земле.
Я приведу еще одну цитату из дневника Толстого на этот счет:
«Если есть
какой-нибудь Бог, то только тот, которого я знаю в себе, как самого себя, а также и во всем живом. Говорят: нет материи, вещества. Нет, она есть, но она только то, посредством чего Бог не есть ничто, не есть не живой, но живой Бог, посредством чего Он живет во мне и во всем. <…> Надо помнить, что моя душа не естьчто-то — как говорят — божественное, а есть сам Бог. Как только я Бог, сознаю себя, так нет ни зла, ни смерти, ничего, кроме радости».
Очень важно к этому отрывку сделать следующее примечание. Для Толстого поклонение личному Богу, обращение к нему с молитвой, просьбой есть такое же действие (бессмысленное), какое совершают чувашские крестьяне, которые мажут своего идола сметаной, чтобы его ублажить. Странно при этом, как Толстому не приходит в голову, что весь Новый Завет пропитан духом богословского персонализма, то есть восприятия Бога как самостоятельной личности, к которой поэтому можно и нужно обращаться с молитвой. Достаточно вспомнить, например, молитву самого Христа в Гефсиманском саду или многочисленные молитвы первых христиан, включенные в Книгу деяний апостольских. Видно по этому источнику, что члены первой христианской общины воспринимают Бога и воскресшего Христа как живую личность, постоянно присутствующую в их жизни.
Толстой утверждает, что в человеческую природу, в его сознание заложен духовный, божественный, первобытный закон природы, инстинкт добра и ощущение божественной жизни в себе, присутствия в себе Бога. Задача сознания — привести в соответствие разум и чувства человека. Эта идея соответствия присутствует уже в «Казаках» и в «Войне и мире»: инстинктивной мудрости Кутузова противостоит агрессивный и самоуверенный европейский активизм Наполеона. Именно поэтому несколько позже Толстой находил сходные идеи у философов Востока — Конфуция, Лао-цзы и других — о присутствии в человеке некоего объективного нравственного закона.
По Толстому, христианство, как и всякое религиозное учение, заключает в себе две стороны: во-первых, учение о жизни людей — учение этическое, и, второе, объяснение, почему людям надо жить именно так. Эти две стороны могут быть найдены, по Толстому, во всех религиях мира. Такова же и христианская религия. Он пишет: «Она [религия] учит жизни, как жить, и дает объяснение, почему именно надо так жить».
С точки зрения Толстого, христианство в большей степени, чем
Напротив, официальное церковное христианство — как несколько неожиданно и в полном противоречии, к сожалению, с исторической правдой заявляет Толстой — не предъявляет никаких этических требований к своим последователям. Толстой пишет: «Нет ничего, что бы обязательно должен был делать христианин и от чего он должен был бы обязательно воздержаться, если не считать постов и молитв, самой Церковью признаваемых необязательными». Толстой считает, что со времен Константина Великого христианская церковь, цитирую, «не потребовала никаких поступков от своих членов. Она даже не заявляла никаких требований воздержания от чего бы то ни было».
Несколько позже Толстой сформулирует главный тезис своей религиозной системы: все религии мира состоят из морального ядра, то есть ответа на вопрос, что нужно делать, и мистической периферии — во что нужно верить. Мистика есть ошибка и суеверие, а моральная основа всех религий совершенно одинакова и в наиболее полном виде выражена в Нагорной проповеди. Напомню, что Нагорная проповедь — это проповедь, сказанная Христом и помещенная в полном виде в Евангелие от Матфея, это главы пятая, шестая, седьмая, то есть три главы, в которых Христос в компактном виде формулирует основы морального учения христианства. Странно, что такому умному человеку, как Толстой, не видно вопиющее противоречие этой идеи. Ведь требования Нагорной проповеди, например, любить врагов или, скажем, не заботиться о завтрашнем дне носят совершенно революционный характер и никак не вписываются в этику иудаизма или ислама.
Россия узнала о «религии Толстого» благодаря издательской деятельности его ближайшего друга и единомышленника Владимира Черткова. Это представитель богатейшей аристократической фамилии, в прошлом блестящий гвардейский офицер. И вот этот юноша стал самым преданным учеником великого писателя. Деятельность Черткова в буквальном смысле слова имела всемирные масштабы. Очевидно, обладавший качествами выдающегося менеджера, он организовал распространение по всему миру книг и идей писателя. Именно благодаря Черткову мировоззрение Толстого стало своеобразным брендом.
В русской жизни второй половины XIX века существовал антипод Льва Толстого, и таким антиподом был многолетний обер-прокурор Святейшего синода Константин Петрович Победоносцев. Наверное, очень трудно найти людей более разных, чем Толстой и Победоносцев. Толстой — это совесть своего поколения, борец за правду, защитник обиженных, человек с безграничным нравственным авторитетом. Победоносцев в глазах современников является воплощением политического зла, которое ассоциируется с политическим произволом. Обер-прокурор Синода — творец системы контрреформ, гонитель всего прогрессивного и творческого, это тот самый лихой человек, который в конечном счете и превратил Россию в ледяную пустыню.
И в поединке Толстого с Победоносцевым, в представлении русского общества и даже политической элиты, Победоносцев был заранее обречен на поражение. Именно поэтому после отлучения писателя в 1901 году в глазах этого общества и этой элиты он сразу стал одновременно и главным виновником, и главным творцом этого акта, и объектом едких сатирических нападок. Обер-прокурор Синода и его политика ассоциировались с личностью знаменитого основателя испанской инквизиции Торквемадой, с личностью Великого инквизитора Достоевского, ну и более обидные сравнения — это «упырь, простерший над Россией свои крылья», это «злой гений России» и так далее. На одной из карикатур, например, Победоносцев был изображен в виде летучей мыши, держащей в оковах молодую девушку, в которой, естественно, угадывалась Россия.
В жизни Толстого и Победоносцева имел место и личный конфликт, причем очень острый. Он произошел в 1881 году и был связан с вопросом о казни народовольцев, убийц императора Александра II. Толстой обратился с просьбой к новому царю, Александру III, о помиловании, а вот обер-прокурор, недавно назначенный, требовал смертной казни. Этот конфликт развивался почти 20 лет, и в 1899 году разрешился скандалом. И одним из важнейших шагов, приблизивших этот скандал и, соответственно, появление синодального акта о Толстом, стало издание романа «Воскресение», последнего большого романа Толстого. Читающая Россия — во всяком случае, та ее часть, которой были доступны зарубежные издания романа, — была потрясена небывалым глумлением над православной верой и одновременно узнала в чиновнике Топорове обер-прокурора Синода Победоносцева.
В новом романе Толстого, я напомню, была подвергнута уничтожающей сатире вся русская государственная машина — власть, администрация, тюрьмы и так далее. А в двух главах первой части в совершенно кощунственном виде была изображена православная литургия. Толстой показывает действия православного священника как совершенно бессмысленные, а вместо привычного высокого стиля, характерного для Церкви, сознательно использует бытовые термины: например, вместо «чаша» — «чашка», вместо «лжица» — «ложечка» и так далее.
До момента выхода в свет романа «Воскресение» Русская церковь, не говоря уже о русском государстве, проявляла по отношению к Толстому большую терпимость. К концу XIX века толстовская критика церковного учения, духовенства приобрела агрессивный, ожесточенный характер, в особенности после истории с духоборами — сектой, которая была особенно близка Толстому. Духоборы в 1905 году не только заявили о своем отказе брать в руки оружие, но даже публично сожгли имеющееся в их общине оружие и были высланы из России в Канаду. Но по отношению к писателю со стороны Синода, в официальных церковных печатных органах не было сказано ни одного критического слова. Толстого могли критиковать в проповедях, в богословских сочинениях, в публицистических статьях, но, подчеркиваю еще раз, официально его учение не подвергалось
Действительно, для Русской церкви картина сложилась неоднозначная и потенциально очень опасная, если учесть, какой авторитет имел писатель в России и во всем мире. Это была своеобразная ловушка. Промолчать — получить серьезные репутационные потери, учитывая, что уже в Синоде стали получать возмущенные письма от тех, кому удалось прочитать «Воскресение» в бесцензурном издании и кто увидел в романе намеренное оскорбление чувств верующих, как бы мы сейчас сказали. А выступить публично против Толстого не менее опасно, учитывая, что любое выступление Синода против него будет воспринято негативно. Однако примечательно, что вопрос об отлучении Толстого мог быть поставлен только после смерти императора Александра III, который называл писателя не иначе как «мой Толстой» и постоянно просил его не трогать, чтобы не сделать из него мученика, а из императора — его палача.
Сама церковная власть проявила максимальные усилия, чтобы избежать скандала и общественного возмущения. Именно поэтому слова «анафема» и «отлучение» в финальном варианте синодального документа были заменены на более нейтральный, но менее определенный термин «отторжение». И это очень принципиальный момент. Под анафемой подразумевается самое строгое из церковных наказаний, имевшее смысл отделения виновного от церкви и осуждения его на вечную погибель, вплоть до покаяния. Другими словами, в церковном праве под анафемой понимается совершенное отлучение христианина от общения с верными чадами Церкви, от церковных таинств, и это наказание применяется в качестве высшей кары за тяжкие преступления, каковыми являются измена православию, то есть уклонение в ересь или раскол. И в этом смысле слово «анафема» может быть заменено на «проклятие». Одновременно Церковь различала всегда отлучение полное, то есть анафему, и отлучение малое. Малое отлучение — это временное отлучение члена Церкви от церковного общения, служащее наказанием за менее тяжкие грехи. Например, последний вид отлучения имел место в церковной практике в ситуации, когда некоторые христиане отрекались от веры в эпоху гонений. На несколько лет был отлучен от церкви молодой Горький за попытку самоубийства. Правда, для него самого это было, конечно, уже не важно, но тем не менее такой факт имел место.
В практике Православной церкви анафема была не столько наказанием, сколько предупреждением человека, и здесь очень хорошо видно отличие от практики церкви католической, в которой слово «анафема» заменялось термином «проклятие». Именно потому, что анафема была не только и не столько наказанием, сколько предупреждением, двери Православной церкви для отлученного были закрыты не навсегда. При условии его искреннего покаяния и выполнения необходимых церковных предписаний (в первую очередь, как правило, публичного покаяния) его возвращение в церковь было возможно.
Что же представляет собой синодальный акт 1901 года с этой точки зрения? Он носит характер торжественного церковного исповедания и объявляет, что Лев Толстой более не является членом Церкви и не может в нее вернуться, пока не покается. Кроме того, документ удостоверяет, что без покаяния для Толстого невозможны будут ни христианское погребение, ни заупокойная молитва, не говоря уже о евхаристическом общении, то есть об участии в причащении, к чему, собственно, Толстой уже тогда и не стремился. Синодальный акт 1901 года, как и предполагал Победоносцев, был встречен большей частью русского образованного общества крайне неблагоприятно. Русская интеллигенция поддержала писателя, вопреки Синоду, и с большим возмущением отнеслась к синодальному акту. С возмущением и иронией. Именно это имел в виду Чехов, написавший в одном из писем: «К отлучению Толстого публика отнеслась со смехом».
Последний вопрос, который нас будет интересовать, это последние годы жизни Толстого, его уход и смерть. Предварительно надо сказать, что семейная жизнь Толстого дала трещину достаточно рано, фактически еще до духовного переворота. Но в последние годы эта жизнь стала еще сложнее и трагичнее, и главным образом из-за истории с завещанием писателя, которое он подписал тайно от семьи, в лесу, летом 1910 года, что привело к открытому конфликту с Софьей Андреевной Толстой. И в результате этого конфликта 28 октября 1910 года, то есть за десять дней до смерти, Толстой был вынужден тайно бежать из родового гнезда.
Уход Толстого из Ясной Поляны — это событие, которое имело большую важность для всей России, если не для всего мира. Сергей Николаевич Дурылин, известный литературный критик и философ, сообщает, что в день первого известия об уходе газеты буквально рвали из рук, причем подобное отношение к печатной продукции Дурылин помнит только еще один раз в жизни — в день объявления войны с Германией в 1914 году. Для русских газет и журналов и для всего русского читающего общества вопрос стоял следующим образом: это бегство или паломничество, триумф или трагедия, поиск выхода из тупика или поиск сюжета для нового произведения? Действительно, с каким чувством Толстой покидал усадьбу, что стояло за этим уходом? Почему он направился именно в Оптину пустынь?
Одним очень хочется представить дело так, что граф Толстой убегал в никуда, он просто уходил от всех, как и записал в своем дневнике чуть больше чем за месяц до ухода. Приведу это красноречивое свидетельство состояния души Толстого: «От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти от всех». Другими словами, Толстой хотел просто
Мне кажется, обе точки зрения не соответствуют действительности. Уход Толстого — финал его жизни и финал тех поисков, которые составляли главное в его миропонимании. Мы знаем сегодня, что писатель разместился в паломнической гостинице Оптиной пустыни, где его узнали сразу, и совершил прогулку до скита, в котором в этот момент проживал великий оптинский старец Иосиф, преемник преподобного Амвросия, человек огромной любви и милосердия, — с ним Толстой познакомился, по всей видимости, в 1896 году во время своего очередного паломничества в монастырь. Но стоя у порога двери в оптинский скит, Толстой так и не нашел в себе сил переступить этот порог, встреча со старцами не состоялась. Может быть, это была самая трагическая невстреча в жизни писателя.
После посещения Оптиной пустыни писатель направляется в Шамордино, где в это время проживала его родная сестра Марья Николаевна Толстая, самый близкий и дорогой ему человек в данный момент, которую он всю жизнь называл исключительно Машенька. Мы не знаем, как могла сложиться судьба Толстого в дальнейшем, если бы ему удалось задержаться у любимой младшей сестры надолго. Но опасаясь погони, организованной супругой, писатель был вынужден покинуть и Шамордино. По дороге он простудился, заболел двусторонним воспалением легких и умер на станции Астапово. Причем в последние дни жизни к нему из-за твердой позиции Черткова не был допущен для беседы и исповеди другой оптинский старец, преподобный Варсонофий.
Лев Толстой — единственный в России начала ХХ века человек, который пользовался ничем не ограниченной, поистине абсолютной свободой в семье, в своей родной деревне, в обществе, государстве, культуре. Возможно, он был единственным человеком в мире такого масштаба. Он родился в прекрасной, действительно очень ясной Ясной Поляне, типичной русской усадьбе с березовой аллей, речкой Воронкой, яблочными садами, семейными домами и домиками, детьми, внуками, прислугой, охотой, пешими и конными прогулками, пасекой, цветочными оранжереями, крестьянскими школами, вечерним чаем, чтением, играми и концертами. Он прожил там большую часть жизни и по всем законам жанра, логики, справедливости был просто обязан именно там умереть! Он был сказочно богат, он мог брать писательские гонорары или публично отрекаться от них после. Он пользовался всемирной славой. Толстой мог писать все что угодно, не опасаясь
Но Астапово для Толстого было настоящей ловушкой. Писатель оказался в мышеловке, которую в значительной степени сам сотворил. Больной и беспомощный, он лежал на постели, не понимая, что происходит не только в мире, но даже за порогом его комнаты и в ней самой. Ничего не зная о жене и детях, ничего не зная о попытках православного священника поговорить с ним перед смертью и его напутствовать. Сразу после приезда Черткова в Астапово за писателем был установлен строжайший надзор. Дверь в дом начальника станции Озолина была всегда заперта, а ключ от нее хранился у помощника Черткова, Сергеенко, который безвыходно дежурил в передней. В комнате Толстого безотлучно находился Чертков. Вход в дом был возможен,
Именно поэтому Толстой даже не знал, что оптинский иеромонах Варсонофий специально прибыл на станцию Астапово со святыми дарами, для того чтобы попытаться поговорить с писателем перед смертью. Таким образом, в последний, самый ответственный момент жизни великий писатель русской земли, как сказал о нем Тургенев, за уходом которого из Ясной Поляны с напряженным вниманием следил весь цивилизованный мир, оказался в трагическом одиночестве. Его судьба становится предметом переживаний русского императора, Совета министров, премьер-министра Столыпина, Синода, собора старцев Оптиной пустыни, наконец членов семьи. Но Толстой ничего об этом не знает.
Об этом очень ярко пишет замечательный русский писатель Борис Зайцев:
«Но как кончается его жизнь? Умирать не только во вражде с Церковью, но и со своей собственной подругой после почти полувековой общей жизни, имея целый сонм детей. Бежать из своего дома, кончать дни у начальника станции, среди раздора, домашних гвельфов и гибеллинов, враждующих между собой партий. И быть зарытым в яснополянском парке, где можно было закопать и
какую-нибудь любимую левретку».
Круг отчуждения, создававшийся вокруг Толстого более 20 лет, замкнулся.
Во время астаповской болезни Толстого в русской печати дискутировался вопрос о возможности его прощения Церковью. Этот вопрос обсуждается и до сих пор, уже более 100 лет. Время от времени те или иные лица, например родственники Толстого, обращаются с соответствующими просьбами в Синод. Но, с моей точки зрения, отмена синодального акта невозможна по двум причинам: во-первых, такой шаг был бы актом большого неуважения к самому Толстому, к его свободе, ко всему тому, что им было сказано о Церкви. Ведь сам писатель признавал справедливость церковного акта, его точность в констатации того факта, что граф Толстой сознательно ушел из Церкви и не хочет в нее возвращаться. Во-вторых, отмена церковного определения автоматически означала бы возможность молиться о Толстом такими словами, которые он сам воспринимал как кощунство. Откройте православный требник, прочитайте хотя бы маленький отрывок из православной панихиды и спросите себя: можем ли мы так молиться о Толстом?
Церковь
Первые ассоциации со словом «толстовство» в массовом сознании — это ненасилие, отказ от имущества, опрощение, вегетарианство. «Толстовцем» обзывает себя Остап Бендер в «Золотом теленке», передумав отправлять отнятый у Корейко миллион народному комиссару финансов: «Тоже, апостол Павел нашелся, — шептал он, перепрыгивая через клумбы городского сада. — Бессребреник, с-сукин сын! Менонит проклятый, адвентист седьмого дня! Дурак! Если они уже отправили посылку — повешусь! Убивать надо таких толстовцев!» «Жил-был великий писатель / Лев Николаич Толстой, / Не ел он ни рыбы, ни мяса, / Ходил по аллеям босой», — поется в популярной песне, сочиненной накануне войны Сергеем Кристи. Примеры, разумеется, можно множить.
Между тем все это очень важные, но все же следствия. Исходная точка толстовского учения — убежденность, что человеку необходимо представление о смысле жизни, находящемся вне его самого. Без этого его ждут тоска, безысходный ужас, самоубийство.
Известно, что толстовство появляется в результате того духовно-нравственного перелома, который Толстой переживает в конце 1870-х годов. Однако на вопрос, в чем суть этого перелома, ответить не
Что в таком случае меняется в 1878–1880 годах? Основное изменение — все эти мысли высказываются Толстым теперь напрямую, без посредничества художественных образов; систематизируются, становятся основным предметом его рефлексии, главным делом его жизни. А главное — они подтверждаются образом жизни автора: Толстой становится первым толстовцем, превращается из писателя в вероучителя.
Главное обвинение, которое Толстой предъявляет современному миру, — его избыточность. Развитие государства, общества, культуры, науки идет по пути производства множества ненужных человеку вещей (будь то большие поместья, модная одежда или музыка Бетховена) и тем самым уводит его всё дальше от естественного состояния. Так же избыточна и Церковь: в ней слишком много внешнего, формального, того, что замутняет прозрачность первоначального источника. Вообще если пытаться сформулировать суть учения Толстого в одной фразе, то звучать она будет примерно так: «Все простое человеку на пользу, а все сложное — порочно». Поэтому, в частности, необходимо вернуться от Символа веры к Нагорной проповеди, от догматического богословия к этическому учению.
Сама идея представить христианство как нравственную проповедь, искаженную последующими наслоениями, рассказами о чудесах, введением сказочного, мифологического, мистического элемента, очень характерна для современников Толстого. С близким подходом мы сталкиваемся, скажем, в «Жизни Иисуса» Эрнеста Ренана или в так называемой Библии Джефферсона, написанной раньше Библия Джефферсона (1819; опубликована в 1895 году) — книга, составленная одним из отцов-основателей и третьим президентом США Томасом Джефферсоном из отрывков различных изданий Нового Завета. Она повествует о жизни Христа без чудес., но впервые опубликованной практически одновременно с толстовским «Соединением и переводом четырех Евангелий». Но в случае Толстого она приводит к одному важному противоречию. Начинаясь с убеждения, что человеку нужна опора в
Толстой вообще внутренне противоречив, и эта раздвоенность не следствие тех изменений, которые происходят с ним во второй половине 1870-х, скорее наоборот. Страстный охотник, боевой офицер, любитель женщин и светской жизни, он уничтожающе описывает героический тип личности в «Войне и мире» и других сочинениях, а в дневнике постоянно признается в мизогинии, то есть в отвращении к женщинам, и в отвращении к плотской любви. Толстовство — скорее попытка уйти от этой раздвоенности, однако не вполне удавшаяся. Существуют воспоминания о том, как пианист Антон Рубинштейн пригласил Толстого на свой концерт, тот обрадовался «и даже совсем оделся для выезда», но в последний момент усомнился, не противоречит ли это его проповеди, и в результате с ним случился истерический припадок, «так что пришлось даже посылать за доктором» Цит. по воспоминаниям Николая Кашкина в «Международном толстовском альманахе». М., 1909.. Современник иронически замечает по этому поводу, что невозможно представить себе Христа или Магомета размышляющими о соответствии их поступков их же учению.
У «религии» Толстого множество источников: протестантизм, русская народная религиозность, философия Сократа и Шопенгауэра. Важно понимать, что это и один из первых результатов знакомства Европы с восточной мистикой, с тем самым Лао-цзы, который в XX веке окажет громадное влияние на западную культуру от Германа Гессе до рок-музыки. Но все-таки в первую очередь Толстой — сын своей рационалистической и антропоцентричной эпохи. Отсюда неприятие его проповеди младшими современниками — первыми декадентами и символистами, для которых его религиозный поиск оказался недопустимо банальным (вспомним хотя бы знаменитую фразу Дмитрия Мережковского: Толстой упал «хуже, чем в бездну, — в яму при большой дороге, по которой ходят все» Дмитрий Мережковский. «Л. Толстой и Достоевский».).
Толстой как религиозный проповедник вообще оказывается неприемлем для многих современников. Мы помним об отлучении его от церкви, о конфликте с церковными и светскими властями, о преследованиях, которым подвергались его сторонники. Поэтому Толстой представляется нам едва ли не революционером. Однако в борьбе двух лагерей, радикального и лоялистского, которая определяла политическую и социальную жизнь России тех лет, он был в равной степени далек от обеих сторон. Лоялистам он казался опасным анархистом, отрицающим государство и все его институты. Настоящих же революционеров, эсеров и социал-демократов, отталкивало толстовское убеждение, что переустройство общества — лишь производная от внутреннего самосовершенствования человека и социальный переворот сам по себе ничего не даст. Поэтому, кстати, Толстого довольно жестко критикует Ленин.
Тем не менее у него оказывается множество последователей из самых разных социальных слоев. И дело тут не только в писательской известности Толстого, хотя и в ней, конечно, тоже. Самое главное — его проповедь удивительно совпала с духом времени. Достаточно вспомнить судьбу его ближайшего соратника и друга Владимира Черткова, который, будучи выходцем из того же социального слоя, что и Толстой, одновременно с ним и даже чуть раньше пришел к тем же вопросам, а отчасти и к тем же ответам и практическим выводам: осуждал роскошь, переселился из господского дома в комнатку в ремесленной школе, стал ездить в вагонах третьего класса и т. д. Стремление к опрощению вообще оказалось созвучно чаяниям многих представителей высшей аристократии: неслучайно среди ближайших сподвижников Толстого не только конногвардеец Чертков, но и гусар Дмитрий Хилков, морской офицер Павел Бирюков, родовитый дворянин Виктор Еропкин и многие другие. Не менее характерны для эпохи движения трезвенников, пацифистов, вегетарианцев, также находящие поддержку и сочувствие в разных стратах. Отказ брать в руки оружие и борьба с пьянством — характерные черты многих народных религиозных движений.
В силу всех этих причин учение Толстого стремительно приобретает популярность. Возникают толстовские коммуны, народные школы, издательство «Посредник» «Посредник» — издательство, возникшее в 1884 году по инициативе Льва Толстого, Владимира Черткова и др., главным принципом работы которого был выпуск доступной по цене художественной и нравоучительной литературы для народа.; начинается новый вариант «хождения в народ», в том числе в связи с голодом 1891–1892 годов в Центральной России. Первоначально заражены толстовством оказываются преимущественно южнорусские губернии, Украина, Кавказ. В этом нет ничего удивительного, если вспомнить ту громадную роль, которую сам Толстой и его последователи отводили работе на земле.
Толстой не просто утверждает необходимость для каждого человека заниматься физическим, лучше всего — земледельческим трудом (прямо говоря, что было бы желательно любому из нас надеть лапти и идти за сохой). Важнее, что он видит в этом императиве религиозный смысл, своего рода дополнение к заповедям блаженства. Поэтому естественно, что первым и самым прямым следствием толстовского учения стала организация сельскохозяйственных коммун, где трудились самые разные люди: аристократы, земские интеллигенты, военные, крестьяне. Надо сказать, что интеллигентские земледельческие колонии возникали и раньше, вне связи с Толстым. В конце 1860-х — начале 1870-х годов коммуны такого рода появились на черноморском побережье и на Кубани, однако просуществовали недолго. Новая попытка отличалась от предыдущих массовостью и относительной унификацией участников: в толстовских коммунах ходили в крестьянской одежде, причем старой и часто рваной, питались растительной пищей, вели аскетический образ жизни.
Личного имущества у коммунаров, как правило, не было: за счет коммуны их кормили и выдавали одежду, когда старая изнашивалась, а книги они брали из общинной библиотеки. Наиболее радикальные из них вообще отказывались от своего жилья и обуви, даже лаптей, проповедовали идеал целомудрия, называя брак делом «похотливым, затемняющим истину и порабощающим» (впрочем, признавая, что жениться все же лучше, чем прелюбодействовать). Один из лучших знатоков сектантства рубежа XIX–XX веков Александр Пругавин неслучайно назвал толстовцев «современными Диогенами».
Неприспособленность большинства толстовцев к жизни на земле, невозможность последовательно провести в жизнь принцип ненасилия (например, заниматься земледелием без эксплуатации домашних животных), постоянные полицейские преследования привели к тому, что подавляющее большинство проектов по организации коммун оказались весьма недолговечными. Исключение — известная колония «Криница» около Геленджика, просуществовавшая несколько десятилетий. Современник оставил выразительную зарисовку быта такой коммуны:
«Надо было запрячь в водовозку лошадь, и вот человек пять начинали „трудиться“: один тащил вожжи, другой дугу, третий хомут, а двое старались „вопхнуть“ лошадь в оглобли. В криках, понуканиях не было недостатка, и часто кончался этот „труд“ тем, что лошадь так и оставалась незапряженной, ибо никто из „работников“ не знал, как надо запрягать ее, да и побаивался, как бы она не вздумала брыкнуть». Цит. по: Евгений Баранов. «Толстовцы». М., 1912.
Стремление «сесть на землю» сопровождается сильным антикультурным настроением. Один писатель начала XX века передает свой разговор с последователем Толстого, интеллигентным врачом, который мечтал сжечь все книги, кроме Евангелия, так как они «вреднее и опаснее всякой холеры, всякой чумы». В толстовцах вообще очень сильно это недоверие к культуре, особенно к письменной культуре. Отсюда интерес к устному слову, устной проповеди. Один из самых известных толстовцев, Исаак Фейнерман, писавший под латинским псевдонимом Тенеромо, издал несколько сборников записанных им высказываний Толстого. Свою деятельность он объяснял как раз необходимостью зафиксировать для современников и потомков свои беседы с Толстым, где индивидуальность учителя проявляется полнее, чем в его писаниях. Вероятно, в этом сказывается ориентация на Евангелие как на письменную фиксацию устной проповеди.
Отдельная и очень сложная тема — толстовцы и Толстой. Выше мы говорили о Толстом как о первом толстовце. Но сам он говорил про себя: «Я Толстой, но не толстовец». Точнее будет сказать, перефразируя Козьму Пруткова, что в писателе жило огромное «желание быть толстовцем» — желание, которое он никогда не смог реализовать до конца в силу все той же двойственности своей натуры, которая проявилась в несостоявшемся походе на концерт Рубинштейна и во многих других эпизодах. Главное колебание Толстого, длившееся годами, — уйти ему из Ясной Поляны или остаться? «Все так же мучительно. Жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена. Куда ни выйду — стыд и страдание…» — такими записями пестрят его дневники. Конфликт Толстого с семьей начинается в середине 1880-х годов и продолжается четверть века, практически до смерти писателя. На идейные разногласия накладываются имущественные споры: Толстой пытается отказаться от авторских прав, не препятствует яснополянским крестьянам расхищать барское имущество; жена и дети предсказуемо против.
Надо понимать, что Толстой не уходит из имения не от привычки к барской жизни, в чем обвиняли его недоброжелатели. Наоборот, он полагает, что уход — это слишком легкий выход, бегство от своего креста вместо готовности нести его до конца. Но со стороны это воспринимается
С другой стороны, и Толстого раздражают некоторые последователи с их склонностью спорить о деталях учения, игнорируя главное в нем. Он саркастически описывал богословские полемики о всяких не стоящих внимания мелочах — и вдруг его сторонники начинают вести себя так же. Кроме того, Толстой чувствует опасность превращения толстовства в «лидерское движение», секту. Писатель противится его оформлению, для него толстовство — меньше всего структура, организация. Отсюда его резкая реакция на предложение двух единомышленников провести в 1892 году съезд толстовцев в Ясной Поляне: «Не грех ли выделять себя и других от остальных? И не есть ли это единение с десятками — разъединение с тысячами и миллионами?» Любовь Гуревич Любовь Гуревич (1866–1940) — писательница, критик, публицист и общественный деятель; публиковала Толстого в журнале «Северный вестник». вспоминает, как иронически Толстой реагировал на газетные сообщения о предстоящем съезде:
«Вот отлично!.. Явимся на этот съезд и учредим
что-нибудь вроде Армии спасения. Форму заведем — шапки с кокардой. Меня авось в генералы произведут. [Дочь] Маша портки синие мне сошьет…» Цит. по: «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников». Т. 2. М., 1978.
В этой борьбе с собственными поклонниками Толстой победил: толстовство не превратилось в скованную догматами окаменелость. Тот же Пругавин с полным основанием констатировал:
«Из Толстого, как из моря, разные люди почерпают различные моральные и религиозные ценности. Каждый берет то, что ему более сродно, что отвечает его наклонностям, его духовным запросам». Цит. по: Александр Пругавин. «О Льве Толстом и толстовцах». М., 1911.
Более того, даже границы самого понятия «толстовство» установить зачастую трудно, если не невозможно. Современники отмечают склонность сторонников Толстого сводить любой разговор на любую, сколь угодно сложную, тему к набору элементарных постулатов: «все люди братья», «все мы дети единого Отца», «весь мир есть дом Божий». Понятно, что при таких исходных данных толстовцев не всегда можно отграничить от представителей других религиозных учений. Известен непреходящий интерес Толстого и его последователей к духоборам, штундистам, молоканам, разного рода «братцам» (низовым проповедникам). Особенно активно занимался этим один из самых колоритных толстовцев Иван Трегубов, основатель «Общины свободных христиан». А в 1920 году Павел Бирюков предлагает советской власти издавать журнал «Сектант-коммунист».
Вообще, тема взаимовлияния Толстого и сектантов сложна и многогранна. Накануне пережитого им духовного кризиса и тем более после него он пристально следит за активностью разнообразных толков и сект, от самодеятельных до более крупных, вникает в особенности их вероучения, читает материалы о них, знакомится с исследованиями и исследователями. Однако в этот момент Толстого еще отделяет от сектантов определенная дистанция. Свидетель его встречи с самарскими молоканами в 1881 году отмечает, как негативно реагирует Толстой на шутки молокан о духовенстве и православной обрядности Александр Пругавин. «О Льве Толстом и толстовцах». М., 1911.. В дальнейшем Толстой постоянно увлекался то одним, то другим проповедником и «народным философом»: Василием Сютаевым, Александром Маликовым, Тимофеем Бондаревым. Но постепенно началось обратное воздействие. Вскоре один из главных оппонентов Толстого, обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев, обобщая полевые наблюдения православных миссионеров, проницательно заключает:
«Как более свежее и богатое умственными силами учение, толстовство начинает подчинять себе все другие сектантские лжеучения, мало-помалу теряющие под влиянием его свою самостоятельность и оригинальность».
Примеров тому множество. Остановимся подробнее на событиях в селе Павловка Сумского уезда Харьковской губернии, которые личный секретарь Толстого Николай Гусев назвал «страшным взрывом, прогремевшим на всю Россию». В сентябре 1901 года группа павловских сектантов, много лет конфликтовавших с местным священником и урядником и подвергавшихся преследованиям (в числе прочего — за отказ от присяги на верность императору и от воинской службы), ворвалась в церковь, осквернила алтарь, разломала хоругви, разбила иконы, опрокинула престол, разорвала напрестольное Евангелие, поломала крест. По выходе из церкви погромщики были избиты разъяренной толпой, арестованы, судимы и отправлены кто на каторгу, кто в ссылку.
Самое любопытное в павловских событиях то, что и в отчетах светских и духовных властей, и в газетных репортажах люди, разгромившие храм, именуются то штундистами Штундизм (от нем. Stunde — час, для чтения и толкования Библии) — движение протестантской направленности, распространившееся в XIX веке в южнорусских и других губерниях России., то толстовцами, то есть и власть, и журналисты затрудняются с четким определением их религиозной принадлежности. Сами они называли себя «детьми Божиими». Впрочем, поскольку религиозное брожение в губернии началось после того, как последователем Толстого объявил себя местный помещик князь Хилков, можно с уверенностью утверждать, что «дети Божии» если и не были чистыми толстовцами, то, по крайней мере, испытали сильное влияние идей яснополянского проповедника. Неслучайно в адресованном харьковскому губернатору рапорте о заседании суда по этому делу утверждалось:
«Все, получившие земли от князя Хилкова, делаются сектантами, являются на беседы к князю, выслушивают его толкование Евангелия по графу Толстому».
Интересно, что при всем рационализме толстовства оно, попав на народную почву, обрастало своей мифологией. Так, павловские крестьяне верили, что в саду Хилкова «росло дерево, приносящее добрые плоды, и кто вкушал того плода, то тот познавал, в чем добро и зло» Н. Гусев в журнале «Русская мысль». № 8. 1907..
Еще один пример такого пограничного религиозного движения — так называемые духоборы-постники, выделившиеся в середине 1890-х годов из среды традиционного духоборства в особое течение именно под влиянием толстовской проповеди. После переезда с помощью Толстого и толстовцев в Канаду от преследований российского правительства они раскололись еще раз. В результате нового раскола образовалась группа «Сыны свободы», решившая бороться с цивилизацией при помощи террора. Ее члены начали уничтожать сельскохозяйственную технику, поджигать школы и линии электропередачи. Как и павловские события, деятельность духоборов-свободников опровергает распространенное убеждение, что проповедь Толстого нельзя использовать для обоснования насилия.
Вообще, толстовство легко подвергалось радикализирующим трансформациям. Несмотря на то значение, которое сам Толстой придавал земледельческому труду, некоторые его последователи отказывались пахать и сеять, так как это насилие над живым организмом матери-земли. Нередко толстовцы не ели не только мясо и рыбу, но и растительную пищу, не пили не только спиртное, но и чай (и тем более кофе), отказывались называть свое имя и место рождения, ибо всё это формы казенного учета, придуманные государством для закрепощения подданных. Уже упоминавшийся толстовец Трегубов планировал своего рода «новое крещение» Руси: он мечтал провести в Киеве «крестный ход», по окончании которого участники выбросят в Днепр новых идолов — иконы и хоругви.
Но, конечно, прямое насилие действительно для толстовства крайне нехарактерно, все-таки их этос строился на прямо противоположных основаниях. Известен случай, когда двух толстовцев заперли в вонючей и душной арестантской. Когда один из них стал колотить в дверь, требуя их выпустить, другой объяснил ему, что такого рода протест против насилия невозможен с точки зрения учения Толстого, и первый усовестился и признал свои действия «соблазном и падением».
Один из индийских поклонников Толстого уверял, что, живи писатель в Индии, он был бы объявлен новым воплощением Будды или Кришны Д. Гопал Четти. «Международный толстовский альманах». М., 1909., и в этом утверждении было гораздо меньше восторженного преувеличения, чем может показаться нам сейчас. «Над Толстым горит теперь такой венец, какого при жизни не имел решительно ни один человек — „с основания земли“ и с начала человеческой истории» Газета «Новое время» от 11 февраля 1909 года., — писал уже русский его современник Петр Перцов, относившийся к Толстому весьма критически, а потому едва ли склонный в данном случае к гиперболам.
Проповедь Толстого имела самые разные следствия. Не без его влияния возникли, например, «Собрания русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга» священника Георгия Гапона, увлекшегося толстовством еще в полтавской семинарии. Толстой оказал огромное влияние на религиозные и общественно-политические движения по всему миру, например на Махатму Ганди, на русскую литературу: так, Пастернак проецирует свой путь на путь Толстого («Нельзя не впасть к концу, как в ересь, / В неслыханную простоту»), строит роман «Доктор Живаго» во многом по образцу «Воскресения». Пафос земледелия как идеального занятия для любого человека сказался на опыте первых палестинских кибуцев, создававшихся евреями — выходцами из Российской империи, многие из которых находились под сильным влиянием проповеди Толстого.
«Как бы я желал уметь сказать все, что я чувствую о Достоевском. <…> Я никогда не видел этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек. Я был литератор, и литераторы все тщеславны, завистливы, я по крайней мере такой литератор. И никогда мне в голову не приходило меряться с ним — никогда. Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только радость. Я его так и считал своим другом и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг за обедом — я один обедал, опоздал — читаю: умер. Опора
какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу».
Это письмо Толстой отправил своему другу и многолетнему корреспонденту философу Николаю Страхову сразу, как только узнал о смерти Достоевского. Письмо носит характер исповеди, написано в 1881 году, то есть как раз в то время, когда Толстой чувствовал себя особенно одиноким на своем новом пути. Человека, которого он никогда не видел, с которым нередко расходился во взглядах и эстетических вкусах, он называет своим другом, самым-самым близким, дорогим, нужным («это мое»), опорой, которая «вдруг отскочила». Присутствие Достоевского в мире Толстого было очень важным, необходимым, по ощущению Толстого. С уходом Достоевского
Оба великих русских писателя были современниками, но при этом никогда не встречались и не обменялись ни одной строчкой в письмах. Кроме того, они были очень разными людьми и очень
Говоря о невстречах Толстого и Достоевского, я имею в виду идейные встречи — пересечения на перекрестках мыслей, чувства, интуиции, истории, когда по
10 марта 1878 года они оба присутствовали на публичной лекции молодого магистра философии, доцента Московского университета, в будущем отца русской религиозной философии Владимира Соловьева. Санкт-петербургские лекции Соловьева, прочитанные по поручению Общества любителей духовного просвещения, начались с Великого поста в январе 1878 года и составили знаменитый цикл «Чтений о богочеловечестве». Писатели даже не подозревали, что они оба одновременно находятся в лекционном зале. Причем Достоевский присутствовал на лекции с женой Анной Григорьевной. В этом же зале находился человек, который был знаком и с Толстым, и с Соловьевым, и с Достоевским, — это был упоминавшийся Николай Страхов. Но по
Ситуация действительно сложилась совершенно парадоксальная: два великих русских писателя не смогли познакомиться друг с другом, при этом каждый из них в отдельности был прекрасно знаком со многими другими современниками — с Тургеневым, Гончаровым, Некрасовым, Островским. Видимо, здесь имело значение некое особое обстоятельство. Дело в том, что Николай Страхов — человек сложный, мнительный и завистливый — понимал свое собственное значение в передаче всему миру той или иной информации о Толстом и Достоевском и не хотел эту позицию друга, наперсника (в первую очередь для Толстого) и корреспондента терять. Ибо знакомство и дружба с Толстым — «немалый моральный капитал» Цит. по: Игорь Волгин. «Последний год Достоевского: исторические записки». М., 1991. .
Возможно, впрочем, как полагает литературовед Игорь Волгин, что этой встречи не хотел и Толстой. В период обострения своих религиозных исканий граф не боялся встречаться с известными старцами, богословами и церковными деятелями. И, более того, не только не боялся, но и сознательно искал этих контактов. Но именно встречи с Достоевским, человеком того же духовного масштаба и измерения, Толстой мог не желать и даже
К сожалению, в тот момент и сразу после него оба писателя даже не знали, что находятся в одном помещении. Много позже, уже после смерти Достоевского, когда его вдова единственный раз в жизни лично беседовала с Толстым и сообщила ему о своем присутствии на этой лекции вместе с мужем, граф очень расстроился и произнес многозначительную фразу: «Как мне жаль! Достоевский был для меня дорогой человек и, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить». Об этом пишет Анна Григорьевна Достоевская в своих воспоминаниях.
Я хотел бы обратить внимание еще на одну очень важную невстречу. Двоюродная тетка Толстого, графиня и фрейлина Александра Андреевна Толстая, познакомившись с Достоевским незадолго до его смерти, признавалась в своих воспоминаниях, что «часто спрашивала себя, удалось ли бы Достоевскому повлиять на Толстого». Мы можем сколько угодно гадать на эту тему, но доподлинно известно, что за 17 дней до смерти Достоевского, а именно 11 января 1881 года, Александра Андреевна Толстая передала последнему одно из писем, полученных ею от Толстого. Прочитав его, Достоевский схватился за голову и воскликнул: «Не то, не то!»
Но что именно «не то»? Текст, который видел и читал Достоевский, — это письмо Толстого тетушке от 2 или 3 февраля 1880 года. В этом письме Толстой заявляет, что не может верить в то, что представляется ему ложью, и не только не может, но и уверен, что в это верить нельзя. Что «бабушка» (так в шутку писатель называл фрейлину, которая была на 11 лет его старше) верит «с натуги», то есть заставляет себя верить в то, что не нужно ни ее душе, ни отношениям этой души с Богом. Такое насилие над душой и совестью есть кощунство и служение князю мира сего. В этом же самом письме Толстой провозглашает, что вера в Воскресение, Богородицу, искупление есть для него также кощунство и ложь, творимые для земных целей.
Интересно, что Толстой указывает на невозможность для мужчин с образованием «бабушки» верить в такие истины. В финале письма Толстой призывает «бабушку» проверить, крепок ли тот лед, на котором она стоит, и говорит ей: «Прощайте!» Сам писатель «чуть-чуть со вчерашнего дня» открыл для себя эту новую веру, но вся его жизнь с этого момента переменилась: «Все перевернулось, и все стоявшее прежде вверх ногами стало вверх головами». Конечно, для Достоевского это открытие Толстого не могло быть
Очень интересный комментарий к реакции Достоевского, вот к этому «Не то, не то!» на письмо Толстого, Александра Андреевна дает в своем письме, более позднем, жене писателя Софье Андреевне Толстой. Сравнивая Толстого и Достоевского, «бабушка» отмечает, что оба горели любовью к людям, но последний, то есть Достоевский, цитирую, «как-то шире, без рамки, без материальных подробностей и всех тех мелочей, которые у Лёвочки стояли на первом плане. А когда Достоевский говорил про Христа, то чувствовалось то настоящее братство, которое соединяет нас всех в одном Спасителе. Нельзя забыть выражение его лица, ни слов его. И мне сделалось тогда так понятно то громадное влияние, которое он имел на всех без различия, даже и на тех, которые не могли понять его вполне. Он ни у кого ничего не отнимал, но дух его правды оживлял всех».
Говоря о Толстом и Достоевском, всегда поражаешься тому, как
Достоевский не может похвастать такой биографией и родней. Он всю жизнь, в отличие от Толстого, испытывал большую нужду. Причем если Толстой карточные долги мог довольно легко отдавать с помощью своих помещичьих доходов, то у Достоевского таких доходов не было и он, также имея склонность к острым игровым ощущениям, вынужден был впоследствии за это расплачиваться горько, жить просто в долг, забирая в издательствах деньги вперед под ненаписанные сочинения.
Оба писателя в середине 50-х годов находились в довольно трудных жизненных обстоятельствах. Но если Толстой в Крыму на войне имел возможность заниматься литературой, вести дневник, стал, по отзывам современников, храбрым офицером, то Достоевский, лишенный всех прав состояния, на каторге и в ссылке в Сибири должен был фактически начинать жизнь заново, имея возможность читать только одну книгу, и этой книгой было Евангелие.
И так во всем — или почти во всем. Если один богат, то другой беден. Если один получает баснословные гонорары, то другой пишет ради куска хлеба. Если один буквально боготворит Руссо и почитает его за призыв возвратиться к естественному состоянию человечества, то другой к Руссо относится очень критично и равнодушно. И наоборот, в жизни Толстого Вольтер не сыграл значительной роли, а для Достоевского это очень важный автор, влияние которого, например, очень хорошо прослеживается в скептицизме Ивана Карамазова. Если один становится всемирно известным писателем сразу после выхода «Анны Карениной», то второму долго придется доказывать свою гениальность. В середине 1850-х годов и тот и другой создают два крайне примечательных документа. Это своеобразные «символы веры», то есть тексты, отражающие их религиозные представления. Хотя тексты эти созданы достаточно молодыми людьми, они имеют огромное значение для понимания их мировоззрения.
Вот «символ» Толстого, датируемый 1855 годом:
«Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и
когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией — вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня».
А вот как выглядит «символ» Достоевского. Он был сформулирован в письме, отправленном Наталье Дмитриевне Фонвизиной из Омска, где Достоевский в тот момент отбывал ссылку. Наталья Фонвизина — жена декабриста Михаила Фонвизина, последовавшая в ссылку за мужем в Сибирь в 1828 году. Знакомство с женами декабристов очень поддержало Достоевского по пути на каторгу. В январе 1850 года Наталья Дмитриевна подарила Достоевскому единственную книгу, которую, как я говорил, он, в соответствии со строгими правилами содержания в заключении, сможет читать, — это Евангелие. И вот в письме 1854 года Достоевский, вспоминая этот эпизод, попутно формулирует свое понимание веры в Христа:
«Я слышал от многих, что Вы очень религиозны, Н<аталия> Д<митриевна>. Не потому, что Вы религиозны, но потому, что сам пережил и прочувствовал это, скажу вам, что в такие минуты жаждешь, как „трава иссохшая“, веры, и находишь ее, собственно, потому, что в несчастье яснеет истина. Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в
такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, мужественнее, совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».
Попытаемся сопоставить эти два текста, которые, как я сказал, появились практически в одно и то же время. Возникает впечатление, что оба писателя в первой половине 1850-х годов шли в одном направлении, искали отправной точки, фундамента веры. И оба пережили при этом глубокий мировоззренческий, религиозный кризис. И для обоих фундаментом новой жизни стал Христос.
Что же общего и разного было у писателей в восприятии Христа? Общее, я бы сказал, это печать гуманистического понимания его образа, выделение и подчеркивание в нем человеческого измерения. Ницше скоро скажет свое знаменитое «слишком человеческое» «Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов» — работа Ницше, опубликованная в 1878 году.. Толстой пишет об этом прямо, стремясь освободить этот образ от всего, что противоречит его собственным представлениям и представлениям его учителей — просветителей XVIII века. В «символах» писателя, созданных уже в ранней молодости, противопоставление того Христа, которого хочет знать Толстой, тому Христу, которого он знать не хочет и не может, выражено совершенно определенно. А вот у Достоевского, с моей точки зрения, этого противопоставления нет. Есть только Христос, которого он хочет любить. И им любоваться. Но и он подчеркивает в своем видении Христа только человеческие качества, обратите внимание: «прекрасное», «глубокое», «симпатичное», «разумное», «мужественное», «совершенное». Это тоже пока еще «слишком человеческое». Пожалуй, только красота здесь стоит несколько особняком: для Достоевского всю жизнь это понятие значило гораздо больше, чем только эстетическую категорию. Так вот, образ Христа — это проблема, которая является одной из центральных в творчестве Достоевского, и в таком виде она почти не существовала для Толстого.
Поразительно, но очень часто те или иные формулировки Достоевского фактически были ответом на вопрошания Толстого, которые Достоевскому просто не могли быть известны. Я напомню, что Достоевский скончался в 1881 году, то есть в момент именно религиозного кризиса Толстого. После этого Толстой прожил еще 30 лет. Вся жизнь Достоевского проходит в размышлениях над вопросом, который был так актуален и для Толстого: «Возможно ли веровать?», «Возможно ли серьезно и вправду веровать?», «Можно ли веровать, быв цивилизованным, то есть европейцем, то есть веровать безусловно в божественность Сына Божьего Иисуса Христа?» (ибо вся вера только в том и состоит). И наконец, еще одна формулировка: «Можно ли веровать во все то, во что православие велит веровать?» И все эти формулировки берутся из подготовительных материалов к роману Достоевского «Бесы». В одном из своих писем Достоевский говорит, что самый главный для него вопрос — как заставить интеллигенцию согласиться с христианством: «Попробуйте заговорить — или съедят, или сочтут за изменника».
Совершенно справедливо русский литературный критик и богослов, профессор парижского Свято-Сергиевского православного богословского института Константин Мочульский указывает:
«С беспощадной логикой намечается трагическая дилемма — или верить, или „все сжечь“. Во всей мировой литературе вопрос о возможности веры для цивилизованного человека XIX века не ставился с такой бесстрашной откровенностью, как в этом черновике к „Бесам“. Спасение России, спасение мира, судьба всего человечества в одном этом вопросе: веруеши ли?»
Итак, уже в ранних «символах» двух писателей заложено важное различие. Толстой со своим, можно так выразиться, панморалистическим отношением к жизни и действительности хочет слышать Христа, для него главным является вероучение, выраженное в Нагорной проповеди. Этим учением Толстой способен восхищаться и вдохновляться. Для Толстого Христос — только учитель, пусть и великий учитель. Это этический критерий, но он не хочет — скорее не может — видеть Христа. Для Достоевского главное здесь — не слышать, а именно видеть. Эстетический критерий является определяющим. В первую очередь важно не учение Христа, а сам лик Христов, неразрывно связанный с красотой. Красота лика Христова является, как скажет Достоевский несколько позже, страшной силой, спасающей мир. Спасающей, конечно, и учением, и заповедями.
Уже в XX веке, после первых ужасов и зверств большевистской революции, русский философ Николай Бердяев напишет, что моралистический нигилизм Толстого явился для России глобальным несчастьем, наваждением, соблазнительной ложью, противоядием против которой должны были стать «пророческие прозрения Достоевского». Даже из этого короткого анализа видно, что просвещенческий гуманизм Толстого и Достоевского имеет общие корни, но разные плоды. Можно сказать, что это противопоставление этического и эстетического гуманизма.
Важно и другое. «Символ» Толстого невероятно жестко очерчен и замкнут. Кажется, что это окончательная чеканная формулировка, в которой никто не может измениться, к тому же ориентированная на чужое восприятие («человечество»). Наоборот, «символ» Достоевского открыт для движения, динамики, творческого переосмысления и, что очень важно, для обогащения своего маленького и несовершенного опыта
Теперь я хотел бы немного сказать о разных методах — методах Толстого и Достоевского. Вот это различие их методов является, с моей точки зрения, достаточно яркой иллюстрацией сказанного выше, причем это различие в методах и творческих, и, можно сказать, духовных. Здесь слово «метод» я употребляю в очень широком смысле: это и художественный метод, и духовные установки, и всё, что с этим связано.
Метод Толстого — это выявление «инстинкта Божества» в живых существах. Что это такое — видно из следующей цитаты, то есть из записи, сделанной Толстым в дневнике в 1865 году:
«Вчера увидал в снегу на непродавленном следу человека продавленный след собаки. Зачем у ней точка опоры мала? Чтобы она съела зайцев не всех, а ровно сколько нужно. Это премудрость Бога. Но это не премудрость, не ум, это инстинкт Божества. Этот инстинкт есть в нас».
Итак, что нам хочет сказать Толстой? В каждом человеке есть врожденный инстинкт, который, в частности, дает ему представление о Боге. Но не только о Боге. Например, полководцу Кутузову в романе «Война и мир» этот инстинкт дает способ не нарушать естественного хода событий и дождаться, так сказать, естественного конца, когда враг, то есть французы, Наполеон, будет повержен не с помощью
Теперь мы понимаем, почему Дмитрий Мережковский назвал Толстого «тайновидцем плоти». Дело в том, что для Толстого в этом земном мире нет тайн. Он знает, о чем думает лошадь, как ступает по снегу собака, куда и зачем летают пчелы, на сколько именно цветков они должны сесть. Но важно, что это всегда земная перспектива, это всегда духовная горизонталь. Мысль Толстого, как правило, никогда не поднимается в заоблачные дали, не стремится к горнему, Толстого не интересуют вопросы о бессмертии души, о воскресении. Мысль Толстого привязана именно к земле. И тот же Мережковский назвал Достоевского «тайновидцем духа». Почему? Потому что, по мысли Достоевского, человеческая природа сокрикосновенна мирам иным. «Миры иные» — это выражение старца Зосимы из последнего романа Достоевского «Братья Карамазовы». Что это такое — миры иные? Старец Зосима говорит о том, что человеческое «я» не укладывается в земной порядок вещей, а ищет
Так вот, Достоевский утверждает, что в этом смысле реализм не изображает действительность, он просто ее копирует. Потому что за этой подкладкой, которую мы видим и которая проступает в писателях, в трудах писателей, присутствует некоторая религиозная подоснова, можно сказать евангельская подоснова. Метод Достоевского заключается в том, чтобы вскрыть эту евангельскую подоснову. Именно поэтому в романах Достоевского очень часто некий евангельский эпизод является ключевым. Например, в романе «Преступление и наказание» переломным моментом является чтение Соней Мармеладовой Раскольникову повествования о воскрешении Лазаря. Я напомню, что воскрешение Лазаря — это один из главных, ключевых эпизодов Евангелия от Иоанна, четвертого Евангелия, в котором говорится о том, что Христос воскрешает четверодневного мертвеца, то есть по всем законам человеческой жизни и логики человеческой этот человек воскреснуть уже никак не может. А вот Христос его воскрешает, и воскрешение Лазаря становится прообразом воскресения самого Христа. А в романе «Братья Карамазовы» таким очень важным для понимания фабулы романа и замысла Достоевского эпизодом является глава «Кана Галилейская». Кана Галилейская — тоже эпизод, взятый из Евангелия от Иоанна, из второй главы, где говорится, что Христос совершает свое первое чудо: он превращает простую воду в очень вкусное вино. И это чудо,
Выдающийся русский богослов и философ XX века Сергей Булгаков, впоследствии протоиерей Сергий Булгаков, отметил
Я хочу закончить лекцию словами замечательного русского философа Василия Розанова, которые он сказал о трех гигантах XIX века — Толстом, Достоевском и Леонтьеве Константин Леонтьев (1831—1891) — русский мыслитель, писатель; автор трактата «Византизм и славянство», статей «О романах графа Толстого», «Достоевский о русском дворянстве». С 1880 года жил в Оптиной пустыни, где встречался с Толстым. В конце жизни принял монашеский постриг.. Процитирую этот отрывок из одной из статей Розанова:
«…с Достоевским и с Толстым Леонтьев разошелся, как угрюмый и не признанный брат их, брат чистого сердца и великого ума. Но он именно из их категории. Так Кук открыл Австралию, Колумб — Америку, и хотя они плыли по румбу разных показаний компаса, однако история обоих их описывает в той же главе: „великие мореплаватели“. Сущность этого „великого мореплавания“ заключается в погружении в умственный океан, в отдаче всего себя, до последних фибр, до злоключений, до опасности и личного несчастья, — диковинкам его глубин и отдаленностей. Все три они, и Достоевский, и Толстой, и Леонтьев, не любили берега, скучали на берегу. Берег — это мы, наша действительность, „Вронские“».
Тема смерти занимает важнейшее место в творчестве любого русского писателя. Наш замечательный пушкинист Валентин Семенович Непомнящий однажды попытался объяснить, в чем разница между русской и европейской культурой. Хотя понятно, что очень много общего и что русская культура во многом вышла из европейской, но тем не менее в чем разница? И он сказал, что европейская культура — это культура рождественская, а в России главный религиозный праздник скорее Пасха. Почему так? Рождество — это приход Иисуса в мир и преображение мира. А Пасха — это смерть и воскресение Иисуса, но все-таки прежде всего смерть на кресте. Вот почему именно Пасха стала в России ведущим религиозным праздником? Наверное, это
В русской литературе, конечно, тема смерти занимает огромное место, и Толстой здесь не исключение. Эта тема играла огромную роль и в его творчестве, и в жизни, причем не только после его знаменитого духовного переворота, когда Толстой стал совершенно
Когда публика прочитала этот рассказ, многие пришли в недоумение. Смерть барыни — да, она избалованна, она боится смерти, ей есть что терять. Смерть мужика тоже понятна: он мужик, ему терять нечего, он жил трудно, а там, на том свете, может быть,
Собственно говоря, в этом рассказе уже заложено отношение Толстого к смерти, которое впоследствии он просто будет развивать в своем сознании. Потому что о смерти он будет думать постоянно. Если мы будем читать дневники Толстого (а это 13 томов), то мы увидим, что размышления о смерти — это лейтмотив всего дневника: как умирать, что будет после смерти, зачем живет человек. Да и сам его духовный переворот конца 1870-х — начала 1880-х годов был во многом продиктован именно страхом смерти. Толстой писал об этом совершенно прямо в своей «Исповеди».
Толстой писал там, что однажды вдруг понял, что его существование на земле абсолютно бессмысленно, потому что он умрет. Он писал: ну хорошо, ну, стану я очень богатым помещиком, будет у меня четыре тысячи, шесть, двадцать тысяч десятин земли — и что? Ведь я же умру. Ну хорошо, стану я знаменитым писателем, буду я известнее Шекспира. Ну и что? Ведь я же все равно умру У Толстого: «Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю — зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: „Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..“ И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: „Зачем?“ Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: „А мне что за дело?“ Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: „Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну и что ж!..“»
(«Исповедь»).. И вот эта мысль о смерти, о том, что смерть делает бессмысленным существование человека, собственно, и приводит его к духовному перевороту.
В 1869 году, как раз когда Толстой заканчивает «Войну и мир», с ним происходит то, что впоследствии назовут «арзамасским ужасом». Вкратце история такова: этот огромный роман он писал (особенно последние страницы) с невероятным напряжением. У него были головные боли; он решил, что называется, развеяться. В одной из газет он прочитал, что в Пензенской губернии довольно дешево продается одно имение, и поехал его присмотреть. И вот по дороге в это имение в арзамасской гостинице на него напал невероятный страх. Ночью ему вдруг стало страшно — непонятно почему. На следующий день этот страх повторился, но он был к нему уже готов, и поэтому это прошло легче. В тот же день Толстой писал жене, но ни о каком ужасе, ни о каком страхе смерти в этом письме нет. Но спустя 15 лет, как раз когда начался его духовный переворот, он пишет повесть «Записки сумасшедшего», где вспоминает об этом событии и описывает его именно уже как страх смерти. Причем смерть появляется как героиня этого рассказа В оригинале: «Да что это за глупость, — сказал я себе. — Чего я тоскую, чего боюсь». — «Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут»..
В «Исповеди» Толстой пишет, чем с ним произошло то, что происходило с путником в одной восточной притче, когда он бежал от дикого зверя по пустыне, прыгнул в колодец, повис на ветвях кустарника, который рос через стены этого колодца, и увидел, что внизу находится огнедышащий дракон, который его поглотит, если он упадет туда. Вверху — дикий зверь, внизу — дракон, он держится за ветки, и эти ветки подтачивают две мыши — одна черная, другая белая: это день и ночь, то есть время. И он понимает, что рано или поздно он все равно упадет в пасть этого дракона. Но пока он висит на этих ветвях, он видит, что на ветках — капли дикого меда, и начинает их слизывать языком. И Толстой пишет, что вся эта жизнь, все приобретения, имения, занятия искусством — это все временные капли дикого меда. Но все равно ты упадешь и умрешь очень скоро.
Тема страха смерти неожиданно появляется в финале «Анны Карениной». Обычно все помнят, что Анна бросилась под поезд, и всё. На самом деле там еще есть большая часть о жизни Левина и Кити в имении. Левин абсолютно счастлив со своей Кити, прекрасная семейная жизнь, и тем не менее он вдруг приходит к мысли о самоубийстве. И боится ходить на охоту, прячет от себя веревки. То же самое происходило с Толстым в начале его семейной жизни. Толстой потом вспоминал о том, что он уходил на охоту и не брал с собой патроны, боясь застрелиться. Он прятал от себя веревки. Почему? С одной стороны, страх смерти, с другой стороны — тяга к самоубийству. Толстой писал в «Исповеди», что он пребывал в
Где здесь может быть спасение? Конечно, только в религии. И духовный переворот Толстого, безусловно, связан с тем, что Толстой становится религиозным человеком. Это необходимо понять: Толстой после духовного переворота — это религиозный человек. Это человек, для которого вера в Бога является главным, что есть в жизни. Толстой в «Исповеди» прямо пишет, что без веры в Бога нет жизни. Если человек не верит в Бога, он не живет. И одновременно, когда с Толстым происходит духовный переворот, он приходит к Церкви. Это, может быть, немножко странно звучит для современного человека: что значит «приходит к Церкви»? В нашем представлении люди XIX века все были церковные. На самом деле это не так. Религиозными были мужики, крестьянская масса, безусловно, но что касается просвещенного дворянства, уже начиная
Посмотрите начало «Войны и мира»: старый князь Болконский и князь Андрей — они же абсолютные атеисты! Да, по необходимости они ходят в церковь, потому что без церкви нельзя креститься, венчаться, потому что она одновременно была еще и институцией, которая просто закрепляла гражданские права человека. Но веры никакой нет. Когда князь Андрей уходит на войну и его сестра, княжна Марья, дает ему образок, который, как она говорит, «еще твой дедушка носил на войнах», что говорит ей князь Андрей? Он говорит: мол, ну давай, не пуд же он весит… В оригинале: «„Его еще отец моего отца, наш дедушка, носил во всех войнах“. <…> „Ежели он не в два пуда и шеи не оттянет… Чтобы тебе сделать удовольствие…“». То есть он отшучивается, хочет сделать приятное сестре. Это потом будет небо Аустерлица, это потом, перед смертью, Андрей станет религиозным человеком, совершенно
А вот в конце 1870-х — начале 1880-х годов, когда с ним происходит духовный переворот, он становится человеком религиозным. Первое, что делает Толстой, — идет в церковь. Но дружбы Толстого и Церкви по многим причинам не получилось. Сам Толстой в «Исповеди» объясняет это тем, что он не смог поверить в таинство евхаристии, не смог поверить в то, что хлеб и вино претворяются действительно в кровь и тело Иисуса. А принимать это просто как условность, которую нужно исполнять, он тоже не мог. Это характер Толстого: он был максималистом. Он писал, что, когда идешь по тонкому льду, по краю реки или пруда, нужно пробивать до материка, до твердого основания.
И в своей мысли Толстой всегда старался идти до конца. То есть если он не верил в это, то принимать это просто как условный ритуал он не мог. Но, конечно, было много и других причин, почему Толстой не мог стать церковным человеком. Все-таки он был поклонником разума, наследником века просвещения. И вот эта мистическая, ритуальная сторона религии была неприемлема: Толстой в нее не верил, считал сказками. И одновременно считал, что жить без Бога и без веры в Бога невозможно, потому что тогда приходит страх смерти и жизнь лишается смысла.
Это был очень важный конфликт в сознании Толстого. Казалось бы, ну приди к Церкви — и все, спасен. Нет, Толстой так не может. Он ищет свою религию, свои основания веры. Он пишет один за другим несколько сочинений на эту тему — «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?». Главный, пожалуй, религиозный трактат — «Царство Божие внутри вас», где он пытается обосновать свое основание веры, которое заключалось в том, что Бог, безусловно, существует, но мы его не знаем и знать не можем. Представлять его в виде человека — это неправильно. Кто сказал, что Бог — человек, что он выглядит так, а не иначе? Кто сказал, что он
Вот это в общих чертах основание толстовской веры, которое он развивает во многих своих религиозных сочинениях и художественных произведениях. Например, одно из самых потрясающих произведений позднего Толстого — это повесть «Хозяин и работник». Фабула этой повести очень проста: купец вместе с мужиком, который работает у него возницей, заблудились в метель в степи и должны погибнуть. И один должен закрыть другого своим телом. По законам такого сентиментального жанра, конечно, работник должен закрыть хозяина: хозяин спасется, работник выполнил свою миссию. А у Толстого происходит наоборот: у него купец Василий закрывает своим телом работника, замерзает, а работник остается в живых. Но дальше после этого происходят удивительные вещи. Толстой показывает в художественном произведении, что происходит с купцом Василием после смерти, как он легко и буквально переходит в Царство Божие, освобождаясь от всего земного. Почему? Потому что он сделал главное, что должен сделать человек на земле: он поработал работником у высшего хозяина — у Бога, он спас другого человека, он отдал себя.
С другой стороны, примерно в это же время Толстой пишет повесть «Смерть Ивана Ильича», где происходит нечто обратное. Финалы очень похожи, но поначалу в повести происходит нечто другое. Иван Ильич умирает от рака и страшно боится смерти, потому что боится потерять свою индивидуальность, боится потерять свое «я». И только когда, уже приближаясь к смерти, он понимает, что «я» — это не главное, что главное — это Бог, главное — это вечность, тогда тоже происходит вот такой свободный переход в Царство Божие.
Проблема была еще и в том, что, вступая в конфликт с Церковью, Толстой вступал в конфликт с государственным институтом. Не признавать церковные обряды, выступать против церковных обрядов — это было государственным преступлением. Россия была православным государством — это нужно понимать. Поэтому ни одно из произведений Толстого на религиозные темы до 1905 года, когда появился известный манифест о свободе слова, не было опубликовано в России. Они печатались только за границей и приходили сюда в нелегальных изданиях.
В 1901 году произошло очень важное событие, которое буквально всколыхнуло всю Россию и имело огромный резонанс в мире. Произошло то, что называют отлучением Толстого от церкви. Действительно, в феврале 1901 года появился акт об отпадении Толстого от Православной церкви. Формально отлучение Толстого от церкви не являлось отлучением. То есть слова «отлучение» не было в том акте, который был выпущен Святейшим синодом. Акт назывался «Определение с посланием Святейшего синода… об отпадении графа Льва Толстого от Церкви». Дальше было изложено, почему он отпал. И там все было правдой. Отпал, потому что не признаёт ни одного из церковных догматов, — и он действительно их не признавал.
И еще одна вещь, которая инкриминировалась Толстому (и тоже было правдой), — это злосчастная глава в романе «Воскресение», который выходит как раз в конце 90-х годов, где были две маленькие главки с описанием евхаристии — таинства причастия — в церкви пересыльной тюрьмы, где оказывается главная героиня романа Катюша Маслова. И действительно, евхаристия, в общем, описана Толстым в таких, мягко говоря, иронических, а грубо говоря, в издевательских тонах. Надо сказать, что эти две главы в первом издании в России не были, конечно, опубликованы, они были выброшены из романа, но в зарубежном издании были Чертковым Владимир Чертков — ученик и преданный друг Толстого. изданы, поэтому были прочитаны и в России. Это была, конечно, большая обида для Церкви.
Фактически это было отлучение. Или гражданская смерть. Почему? Россия была православным государством. Для того чтобы узаконить ребенка, его нужно было крестить. Для того чтобы вступить в брак, нужно было венчаться. Если человек признавался отпадшим от Церкви, его не могли после смерти отпеть и похоронить на православном кладбище, что было очень важным моментом для жены Толстого Софьи Андреевны. Она понимала, что ее муж умрет раньше нее, он был намного старше, и для нее было принципиально, чтобы муж был похоронен так же, как уже умершие малолетние дети, — по православному обычаю, на православном кладбище. Фактически этот акт лишал ее возможности сделать это. Кроме того, после вынесения такого определения за Толстого нельзя было молиться в церкви, и это был очень важный момент, потому что среди поклонников Толстого (в том числе и позднего Толстого, в том числе и Толстого, пришедшего к своим радикальным религиозным воззрениям) было очень много людей церковных. И для них молиться за Толстого в церкви было очень важно. Поэтому, когда Толстой в своем ответе Синоду писал, что в этом определении есть некая доля лукавства, он, конечно, был прав, потому что все-таки это было отлучение.
Удивительная вещь: когда в феврале 1901 года выходит это определение, Толстой как раз через несколько месяцев оказывается тяжело болен. Причем об этом пишут все газеты. Толстой уже очень знаменитая фигура; каждое событие, которое происходит в Ясной Поляне, отслеживается газетчиками. Толстой тяжело заболевает, и его увозят в Крым в надежде, что там он вылечится. Туда едет вся семья: Софья Андреевна, дети. Толстовец Павел Буланже, который служил на железной дороге, предоставляет им целый вагон. Очень богатая графиня Софья Панина предоставляет им свою дачу в Гаспре. Толстого привозят туда, и там ему становится еще хуже. И фактически в эту зиму
И вот в этот момент, когда Толстой находится в Крыму, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский и первенствующий член Святейшего синода Антоний (Вадковский), который и был инициатором вынесения определения об отпадении Толстого, обращается к Софье Андреевне с письмом, в котором просит ее, чтобы она уговорила Льва Николаевича вернуться в лоно Православной церкви. Это было важно и для Церкви, и вообще для государства. Потому что ситуация была скандальна: великого писателя отлучили, средневековый акт. Говорили, что чуть ли не анафеме его предали, хотя анафеме тогда уже никого не предавали.
И Софья Андреевна идет к Льву Николаевичу с этим предложением Вадковского. Больше того, она сама пытается уговорить мужа. Она говорит ему: мол, Левочка, ну что тебе стоит? Смирись. Не надо каяться (его не просили каяться), просто скажи, что ты примиряешься с Церковью. И вот это очень интересный момент, потому что Толстой сам думает, что умрет (к нему приезжают все сыновья, и он напутствует каждого, то есть ведет себя как умирающий отец), и когда жена приходит к нему с этим предложением, то он ей говорит: «О примирении речи быть не может. Я умираю без всякой вражды или зла, а что такое церковь? Какое может быть примирение с таким неопределенным предметом?» И далее: «Напиши ему, что моя последняя молитва такова: „От тебя изошел, к тебе иду. Да будет воля твоя“» — имеется в виду Бог. А когда Софья Андреевна уже ушла и ее место у постели больного заняла старшая дочь Татьяна, он сказал ей, чтобы она пошла и сказала матери, чтобы та не отвечала Антонию вообще ничего.
Это очень важный момент, потому что он показывает, что, казалось бы, умирающий хватается за соломинку. Примирись — вдруг ты не прав? Нет, Толстой был убежден в своей правоте. В этой связи говорят о его гордыне. Не знаю, гордыня это или нет, но Толстой очень твердо придерживался своего взгляда на Бога и на веру. Это можно назвать, условно говоря, таким практическим христианством. Толстой считал, что главная сторона христианства не в следовании обрядам, а в исполнении того, что завещал Христос: любить ближнего, не воевать, не проявлять насилия по отношению к другому, отвечать добром на зло, поделиться последней рубахой и так далее. Вот это главное. Человек — работник, Бог — хозяин. Иисус объяснил, как нужно служить Хозяину, как нужно служить Отцу. Интересно, что в дневниках Толстой очень часто Бога называет Отцом. «Отец, Отец, помоги мне, объясни мне» — подобные выражения в его дневнике встречаются очень часто.
Отлучение от церкви сыграло очень серьезную роль в конце жизни Толстого. Дело в том, что с этим была отчасти связана и проблема завещания. Ведь неслучайно завещание называют духовным завещанием. В ночь на 28 октября 1910 года была глухая беззвездная ночь; Толстой внезапно встал, спустился со свечой в комнату к своему лечащему врачу и другу доктору Маковицкому, разбудил его, потом разбудил дочь Сашу и ее подругу Варвару Феокритову и сказал, что решил ехать. Это было внезапное решение, этого никто не ожидал. То есть ждали, что
Конечно, этому событию предшествовал целый ряд очень серьезных конфликтов, которые происходили в семье. И главный конфликт был связан с завещанием. Дело в том, что вставал вопрос: когда Толстой умрет, кто будет распоряжаться его литературным наследием? Это было огромное наследие, причем не все было опубликовано. Не были опубликованы дневники, не были опубликованы многие произведения, в том числе и классические: «После бала», «Хаджи-Мурат», «Живой труп» и другие вещи. И здесь конфликтовали две стороны: жена Софья Андреевна, которая считала, что распоряжаться этим должна она (у нее, безусловно, были на это права: она была супругой Толстого 48 лет), и Владимир Григорьевич Чертков — главный духовный ученик, духовный друг Толстого, главный толстовец, который считал, что всем должен распоряжаться он, потому что он знает, как правильно этим распорядиться. И на Толстого оказывалось, конечно, колоссальное давление в этом плане с обеих сторон: и со стороны Черткова, и со стороны Софьи Андреевны. Каждая сторона требовала, чтобы права были только у нее.
Победил Чертков. Причем не самым красивым образом, потому что завещание было подписано тайно, буквально в лесу, возле деревни Грумант (недалеко от Ясной Поляны), куда съехались свидетели. Сам Чертков туда не поехал, потому что понимал, что впоследствии, когда обнаружится, что завещание продавил он, его присутствие при подписании этого акта будет совсем уж неприличным.
Формально все литературные права были отписаны младшей дочери Толстого, Александре. Из всех детей Толстого она была единственной, кто в тот момент жил в доме в Ясной Поляне: у остальных уже были свои семьи, они жили в других местах. Саша была абсолютно предана отцу, его идеям, но в то же время она была предана еще и Черткову. Она была не только толстовкой, но и, если так можно выразиться, чертковкой. И у нее были очень сложные отношения с матерью — по разным причинам. Формально по завещанию все отдавалось Саше, но реально заниматься изданиями Толстого будет Владимир Григорьевич Чертков.
После смерти Толстого завещание было обнародовано. Семья во главе с Софьей Андреевной (главным образом сыновья) поначалу пыталась протестовать, но они не стали оспаривать это завещание в суде. И, в
Проблема была еще и в том, что Толстой не мог сказать жене правду, потому что в этом случае весь гнев пал бы на Александру. А солгать он тоже не мог. Такая вот удивительная вещь: в семье Толстых нельзя было говорить неправду в глаза. Так был воспитан Толстой, и так были воспитаны все его дети. Молчать можно было, а вот сказать неправду в глаза было нельзя категорически. И Толстой оказался в жуткой ситуации: он и правду сказать не мог (что подписал завещание), и молчать не мог, потому что Софья Андреевна постоянно спрашивала об этом. Поэтому в
Хотя, конечно, одним семейным конфликтом объяснить его уход нельзя. У Ивана Бунина есть совершенно замечательное эссе, которое называется «Освобождение Толстого». Бунин в нем рассматривает уход Толстого как некий буддический акт. Действительно, в уходе Толстого, если посмотреть, есть
С Толстым отчасти происходит то же самое, только уже в преклонном возрасте. Он тоже живет в Ясной Поляне, тоже, условно говоря, окружен такой роскошью (хотя эта роскошь относительная). Но тем не менее рядом живут мужики под соломенными крышами, живут очень тяжело. И Толстой уходит из этого мира и умирает на железнодорожной станции Астапово.
Причем интересный момент: когда Толстой уходил из Ясной Поляны, толстовцы предполагали, что он поедет к ним. Но когда они едут с Маковицким на коляске, он говорит, что, мол, только не в толстовскую коммуну. И это тоже совпадает с тем, что происходит с Буддой в конце жизни: Будда отказывается умирать в буддийском монастыре (которые уже возникли по всей Индии) и умирает в уединенном месте, под деревом. Поэтому Бунин, который рассматривает уход Толстого как некий буддический акт, наверное, тоже в
Когда Толстой оказывается в Астапове и уже действительно умирает, возникает новая ситуация, которая тоже показывает отношение Толстого к смерти. Перед тем как оказаться в Астапове, Толстой едет в православный монастырь, и не просто в православный монастырь, а в Оптину пустынь. Это один из самых сильных православных монастырей. В связи с этим поздние биографы Толстого пытались понять, с чем это связано. Может быть, это было связано с тем, что Толстой действительно хотел помириться с Церковью и выйти на
Последние дни фактического умирания Толстого удивительны в том плане, что это тоже была такая же проверка, как Крым. Поначалу, когда Толстой сошел в Астапове, у него было воспаление легких, он не думал еще, что умирает, он думал, что вылечится и поедет дальше. Но в
И еще очень важный момент в умирании Толстого, на который не обращали внимания его биографы, а он чрезвычайно важен. Считается, что последними словами Толстого перед смертью были такие слова: «Только одно прошу вас помнить: вокруг много людей, а вы смотрите на одного Льва» В пересказе дочери: «Вы смотрите на одного Льва, а на свете есть много людей, кроме Льва Толстого».. Действительно, Толстой произнес эти слова незадолго до смерти, и это слова потрясающие совершенно, потому что великий человек, человек, которого знает весь мир, напоминает людям о том, что он не главный на земле и что не надо всем концентрироваться только на нем, но не это были последние слова Толстого. Последние слова Толстого, как свидетельствует его врач Маковицкий, который присутствовал при этом, были: «Не надо морфину». У него заплетался уже язык, и он произносил: «Не надо парфину…»
Почему морфию? Ну, это была обычная врачебная практика, медицинская практика, когда человеку, чтобы он не испытывал предсмертных мук, вкалывали наркотик. Тогда это был морфий. И он спокойно в бессознательном состоянии умирал. Это делается и сегодня очень часто. И врачи, которые находились при Толстом, собирались как раз вколоть ему морфий. И Толстой это понял и стал говорить: «Не надо… Не надо парфину…» Притом что он мучился, безусловно, Маковицкий пишет об этом, он задыхался, отказывало сердце. Почему?
Дело в том, что Толстой, особенно в поздние годы жизни, очень болезненно относился ко всякого рода вещам, которые затуманивают сознание. Он не пил даже чай, он не пил кофе, не говоря уже о том, что не пил вина, бросил курить в 60-летнем возрасте. И для него всякий препарат, всякое возбуждающее или, наоборот, затуманивающее вещество — это отказ разума. Толстой хотел встретить смерть с открытым, ясным разумом. Увидеть этот переход, как его увидел его герой, купец Василий, в «Хозяине и работнике». К сожалению или нет, врачам было виднее, морфий все-таки ему вкололи, и Толстой умер в бессознательном состоянии.
Вот так тема смерти проходила через всю жизнь Толстого и через его творчество. И любопытно, что, когда Толстого отлучили от церкви, он ведь написал ответ Святейшему синоду. Ответ по объему был почти в шесть раз больше, чем само определение. То есть Толстой искал, он хотел объяснить, почему он не в Церкви — это не был момент презрения
Прав ли был Толстой в этом конфликте или не прав — вопрос очень сложный, который дискутируется до сих пор, и на эту тему пишутся целые книги, трактаты. Этот вопрос волнует и серьезных богословов, и богословы об этом очень много пишут. Факт тот, что Толстой прошел этот путь, и прошел его самостоятельно, и был последователен и честен на этом пути. И его смерть в Астапове это, безусловно, доказала.
Самое сильное место в Ясной Поляне — это, конечно, могила Толстого. Она находится довольно глубоко в лесу, далеко от дома, до нее довольно долго идти, причем идти такой темной дубовой аллеей. И когда ты идешь по ней, ты приходишь к обрыву в лесу, а на краю этого обрыва находится холмик, который украшен только еловыми ветками. Вот под этим холмиком лежит писатель, который считается сегодня писателем номер один во всем мире. И, конечно, когда люди впервые оказываются на могиле Толстого, возникает очень много вопросов. Зачем, почему так — без креста, без ограды?
Эти вопросы возникают в голове, когда ты видишь другое захоронение: примерно в трех километрах от Ясной Поляны находится село Кочаки, где есть старинная церковь, рядом с церковью кладбище, и там похоронены очень многие Толстые. Там похоронен отец Толстого, его мать, его дед Волконский, его брат Дмитрий. Там похоронена Софья Андреевна, шестеро из тринадцати их детей. Они все лежат под крестами. Мать и отец в склепе, а вот Софья Андреевна, дети — они все лежат под простыми деревянными православными крестами. Очень дружно, семейно лежат, если можно говорить так о захоронении.
А вот Лев Николаевич — один, да еще и далеко от дома, да еще и в лесу. Конечно, это могила, которая как бы предполагает быть очень скромной: вот просто похоронили в лесу. На самом деле, конечно, она оставляет ощущение невероятной гордости. И я бы эту могилу сравнил вообще с египетскими пирамидами или с Тадж-Махалом, потому что эта вроде бы скромная могила, конечно, говорит о
Толстой считал, что человеческое тело после смерти не стоит ничего, что дух, душа его уходит к
Очень много вопросов задает эта могила. Иногда говорят, что неправильно человеку быть похороненным так. Я считаю, что Толстой похоронен правильно. Потому что могила задает еще и другой вопрос: насколько нужно окружать великого человека после смерти всякого рода монументами, постаментами, мемориалами, мавзолеями и так далее. Толстой говорит о том, что великий человек должен быть максимально скромен. Вот такая парадоксальная могила.
В сентябре 1878 года Толстой переживал острый духовный кризис. Это было время отказа от художественного творчества, перехода к творчеству религиозному, принятия православия, от которого он впоследствии отказался в пользу собственного вероучения. Свое религиозное обращение он описал на последних страницах «Анны Карениной» — религиозное откровение Левина хронологически совпадало с обращением самого Толстого. В этот же период Толстой начинает набрасывать несколько вариантов автобиографии. На переломе, перейдя в новую фазу своей жизни, он считает необходимым оглянуться на пройденный путь. Один из этих вариантов автобиографии, знаменитая «Исповедь», хорошо известна. Но есть и другая. Он начинает писать текст, который называется «Моя жизнь», от которого в итоге остается буквально несколько разрозненных фрагментов, несколько страниц.
Вот первый из этих фрагментов, в котором Толстой описывает свое первое жизненное впечатление, каким он его помнит:
«Вот первые мои воспоминания. Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мной стоят, нагнувшись,
кто-то , я не помню кто, и все это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собою. Я не знаю и никогда не узнаю, что такое это было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руки или это пеленали меня, уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи, собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страданье, но сложность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому все нужно, я слаб, а они сильны».
Стоит отбросить накопленную за ХХ век привычку подвергать ранние детские воспоминания психоаналитическим толкованиям. Я хотел бы подчеркнуть, что перед нами не информация из подсознания, добытая на кушетке психоаналитика, а вполне сознательная, отчетливая и сделанная взрослым человеком реконструкция собственного детского воспоминания, рефлексия над ним, его (вос)произведение и (вос)создание. Но очень характерно, что на решающем переломе собственной жизни Толстой описывает это впечатление как первое и самое сильное. Это впечатление несвободы, впечатление чужой власти, с которой ты ничего не можешь сделать, и особенно страшной и невыносимой, потому что эта власть не враждебная. Люди, стоящие над ним, любят его и думают, что они делают как ему лучше. А маленький ребенок, которым себя видит в этом воспоминании Толстой, протестует против этой навязываемой ему любви, которую он переживает как насилие. Он связан, ему надо вырваться, он протестует, его не слышат, не понимают, люди жалеют его, но не развязывают. Это, возможно, центральная коллизия жизни Толстого — власть, насилие, которое иногда открытое, враждебное, легко понятное, но в данном случае дружественное и именно поэтому особенно невыносимое и страшное.
Интересно, что Толстой говорит, что его поражает сложность и противоречивость чувства, — то есть в этом же впечатлении есть характерные начатки специфической толстовской психологии, психологического анализа. Маленький ребенок понимает, что насилие над ним исходит из любви и заботы. О человеке вроде бы заботятся, но забота проявляется неизбежно в насилии. И эта борьба с насилием, с правом одного человека осуществлять власть над другим становится, на мой взгляд, центром и нервом жизни, философии и судьбы Толстого.
Характерным образом взгляды Толстого по очень многим вопросам бесконечно менялись на протяжении его жизни. Софья Андреевна, еще не будучи его женой, написала повесть под названием «Наташа», в которой изобразила своего будущего мужа. Толстой был чрезвычайно задет тем, что одной из черт героя, которому он послужил прототипом, была «переменчивость мнений». Он действительно часто менял свои мнения, свои позиции. У него менялись взгляды на любовь, на семью, на религию, на родину, на войну и мир, на патриотизм, но в том, что реконструировано в этом первом впечатлении, то, что можно воспринимать как ядро личности, — в этой позиции Толстой не менял свое мировоззрение никогда. Это идея неприятия власти, идея борьбы и внутреннего протеста, желание докричаться, чтобы тебя развязали, попытка и требование к связывающему, давящему, держащему тебя миру: развяжите меня и отпустите меня. Мир не слышит, не понимает, не хочет отпускать. И с этим Толстой проходит через всю свою жизнь, постоянно ища способы устроить собственную жизнь таким образом, чтобы не испытывать над собой этой власти, и потом переходит к устройству общественной жизни, в которой нет этой давящей его власти человека над человеком.
Позиция Толстого — это позиция радикального анархизма. В некоторой степени его религиозная философия, философия ненасилия, может быть выведена из неприятия идеи власти. Власть осуществляется через насилие, через то, что один человек другому приказывает, что тому делать, с помощью угроз применить к нему
Толстой проходит военную службу. Армия является примером дисциплины, подчинения чужим приказам. На всю жизнь потом для него армия становится образцом насилия одних людей над другими — не столько даже над врагами, в которых ты стреляешь, сколько образцом насилия командиров над солдатами, над теми, кого посылают на войну, не спросив их воли, заставляют убивать и умирать. Толстой был храбрым и энергичным офицером, но он с трудом воспринимал воинскую дисциплину, которая ему не давалась никаким образом. При первом удобном случае он оставил армию, понимая, что военная служба не для него. И потом история Толстого, история всей его жизни — это история последовательных бунтов против правил и стандартов, которые ему навязывало окружение. Начиная с литературной среды второй половины 1850-х годов: он приезжает в Петербург знаменитым писателем, надеждой русской литературы как автор «Севастопольских рассказов» и «Детства»; он фантастически популярен, его очень рано воспринимают как будущего гения, и с самого начала он начинает провоцировать окружающий его круг. Авторитеты вроде Некрасова (главного издателя, вокруг которого создается кружок «Современника»), Тургенева (самого популярного писателя того времени и друга Толстого) пытаются и искренне хотят ему покровительствовать. Они хотят ввести молодого гения в литературу. Но история отношений Толстого с ведущими литературными авторитетами — это история вызова, оскорблений, протеста, бури, кончающихся всегда острыми разрывами.
Однажды Толстой публично обвинил Тургенева, Некрасова и других собравшихся писателей в том, что у них нет убеждений. Обвинить литераторов круга «Современника» в том, что у них нет убеждений, было самым страшным оскорблением, которое можно было им нанести. Они были уверены, что у них не только есть убеждения, но и что эти убеждения определяют будущую судьбу России: это время обсуждения отмены крепостного права, грядущих реформ и так далее. Толстой сказал, что он за свои убеждения готов сражаться, а для его собеседников это всё слова и салонный разговор. Тогда возмущенный Тургенев, всегда переходивший на фальцет, когда волновался, сказал: а что вы тогда здесь делаете? это не ваше знамя, ступайте к княгине Белосельской-Белозерской То есть проводите время не в кругу прогрес–сивных писателей, а в аристократических салонах, одним из которых был салон княгини Белосельской.. На что Толстой сказал: ну, во-первых, это не ваше дело, куда мне идти, а во-вторых, даже если я уйду, у вас убеждения от этого не появятся.
И это непризнание права других определять собственную повестку дня, решать, о чем ты должен говорить, постоянный протест против господствующего мнения, принятых взглядов и правил определяют всю жизнь Толстого. В 1860-е годы, когда вся страна занята острейшими вопросами, которые занимают Россию после падения крепостного права (судебная реформа, гласность, эмансипация женщин, военная реформа и прочее), Толстой изолирует себя в поместье и пишет роман о том, как прекрасна была жизнь при старом режиме, создает идеальный образ старого времени, идя абсолютно наперекор общественному мнению, общей позиции, тренду, который претендует на власть над умами.
Еще до этого времени, когда Толстой прекращает литературную деятельность, он занимается преподаванием — открывает крестьянскую школу. Преподавание (Толстой учит крестьянских детей) — это сфера деятельности, которая, казалось бы, по определению основана на
«…преподавание и учение суть средства образования, когда они свободны, и средства воспитания, когда учение насильственно и когда преподавание исключительно, то есть преподаются только те предметы, которые воспитатель считает нужными. <…> Воспитание есть принудительное, насильственное воздействие одного лица на другое с целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим; а образование есть свободное отношение людей, имеющее своим основанием потребность одного приобретать сведения, а другого — сообщать уже приобретенное им».
И далее:
«Воспитание есть возведенное в принцип стремление к нравственному деспотизму. <…> Права воспитания не существует. Я не признаю его, не признаёт, не признавало и не будет признавать его все воспитываемое молодое поколение, всегда и везде возмущающееся против насилия воспитания».
Это очень радикальная позиция, основанная на том, что ни возраст, ни статус, ни образование, ни авторитет не дают тебе основания считать, что ты знаешь, чему надо учить людей.
Позднее, уже в 1870-е годы, Толстой снова выходит на образовательное поле, исходя из этих позиций: его возмущает идея программ, его возмущает, что образованные люди считают, что они лучше крестьян знают, чему крестьянам надо учиться. Он говорит: образование необходимо, но именно такое, какое человек сам хочет получить. Взбешенный Чернышевский еще на первые яснополянские сборники написал рецензию, где говорится, что, если Толстой не понимает, как надо строить образование, ему надо пойти поучиться в университете, который Толстому не удалось окончить, и
Из этой предпосылки можно вывести и философию истории Толстого, какой мы ее знаем по «Войне и миру». Когда Толстой писал свой роман, он еще не был последовательным пацифистом, каким стал позднее. По этому вопросу взгляды его изменились. Защита своей страны, отражение агрессора казались ему делом естественным, законным, вытекающим из самого порядка жизни. Обычно самые радикальные анархисты вынуждены в вопросе войны признавать необходимость государства — кто еще может организовать армию, организовать необходимую логистическую поддержку и как еще устраивать армию, кроме как на основаниях строгой дисциплины? Толстой пишет апологию народной войны, сохраняя радикальность своих анархических убеждений.
Философия истории Толстого состоит в том, что люди идут на войну не потому, что их туда посылает правительство, не потому, что их мобилизуют, а потому, что они сами этого хотят. Философия истории «Войны и мира» связана с представлением, что именно люди на земле, солдаты или крестьяне в мундирах ведут за собой своих командиров и главнокомандующих вплоть до Кутузова и Александра и направляют их. От власти этот импульс не исходит и не может исходить. Позднее в этом смысле интеллектуальная задача Толстого упрощается: он начинает воспринимать власть и любую войну как зло и насилие в чистом виде. И он пишет об этом, что ладно бы многие подчинялись немногим, если бы это были лучшие люди. Но, по глубокому убеждению Толстого, люди, управляющие государствами, пользующиеся политической властью, — это всегда по определению самые худшие люди из всех возможных. По мнению Толстого, не может быть государственной власти, выражающей интересы своего народа и заботящейся о нем. Толстой не принимает не только очевидного российского деспотизма, не имеющего никакого разумного оправдания, потому что в божественное право царей уже никто не верит, но столь же неприемлемой кажется ему и идея представительной власти, идея о том, что власть можно выбрать и ограничить законами.
В своем трактате «Царство божие внутри вас» Толстой пишет:
«Ошибка зиждется на том, что юристы, обманывая себя и других, утверждают в своих книгах, что правительство не есть то, что оно есть — собрание одних людей, насилующих других, — а что правительства, как это выходит в науке, суть представители совокупности граждан. Ученые так долго уверяли других в этом, что и сами поверили в это, и им часто серьезно кажется, что справедливость может быть обязательна для правительств. Но история показывает, что от Кесаря и до Наполеона, того и другого [Наполеона I и Наполеона III], и Бисмарка правительство есть, по существу своему, всегда сила, нарушающая справедливость, как оно и не может быть иначе. Справедливость не может быть обязательна для человека или людей, которые держат под рукой обманутых и дрессированных для насилия людей — солдат и посредством их управляют другими. И потому не могут правительства согласиться уменьшить количество этих повинующихся им дрессированных людей, которые и составляют всю их силу и значение».
Речь идет об армии, полиции, тюремщиках и так далее.
Абсолютная убежденность в том, что никто и никогда и ни при каких условиях не может управлять другим, естественно приводит к идее о том, что любой государственный закон есть институт институционализированного насилия, с помощью которого одни люди принуждают других к повиновению. Никто не имеет права принимать законы, обязательные для других. Единственные законы, которые существуют, — это только нравственные законы, существующие в сердце человека, и никаких других заведомо не может быть. Никакой суд не может быть легитимен, и никакое преступление не может оправдать тюрьмы, присуждения людей к наказанию, казни и тому подобное.
Исходя из тех же радикально анархических позиций, Толстой категорически не принимал идею социальной революции. Революционеры его интересовали: он вглядывался в них с необыкновенным вниманием, он писал о них в последние годы жизни, ему они были симпатичны именно тем, что это люди, обладающие, в отличие от большинства общества, действительно убеждениями, за которые они готовы отдать жизнь, это люди, искренне сочувствующие бедным, но они тоже верят в то, что имеют право принуждать других делать то, что они считают правильным. Как пишет Толстой в предисловии к статье Черткова «О революции»:
«Под свободой революционеры понимают то же, что под этим словом разумеют и те правительства, с которыми они борются, а именно: огражденное законом (закон же утверждается насилием) право каждого делать то, что не нарушает свободу других».
Это, вообще говоря, распространенное определение правового законного государства. Свободное правовое государство — в том, что человек может делать то, что не нарушает аналогичную свободу другого человека.
«Но так как поступки, нарушающие свободу других, определяются различно, соответственно тому, что люди считают неотъемлемым правом каждого человека, то свобода в этом определении есть не что иное, как разрешение делать все то, что не запрещено законом; или, строго и точно выражаясь, свобода, по этому определению, есть одинаковое для всех, под страхом наказания, запрещение совершения поступков, нарушающих то, что признано правом людей. И потому то, что по этому определению считается свободой, есть в большей мере случаев нарушение свободы людей.
Так, например, в нашем обществе признается право правительства распоряжаться трудом (подати) [налоги, одни имеют право требовать деньги у других на основании законов], даже личностью (военная повинность) своих граждан; признается за некоторыми людьми право исключительного владения землей; а между тем очевидно, что эти права, ограждая свободу одних людей, не только не дают свободу другим людям, но самым очевидным образом нарушают ее, лишая большинство людей права распоряжаться произведениями своего труда и даже своей личностью. Так что определение свободы правом делать все то, что не нарушает свободу других, или все, что не запрещено законом, очевидно не соответствует понятию, которое приписывается слову „свобода“. Оно и не может быть иначе, потому что при таком определении понятию свободы приписывается свойствочего-то положительного, тогда как свобода есть понятие отрицательное».
Замечательным образом здесь мы видим анализ, предвосхищающий либеральную идею Берлина о «свободе от» и «свободе для», который считал единственной подлинной свободой негативную Английский философ Исайя Берлин (1909—1997) определил две концепции свободы: «позитивная» — «свобода для» — свобода быть хозяином собственной жизни, вести какой-то образ жизни, придерживаться тех или иных взглядов, и «негативная» — «свобода от» — от ограничений, накладываемых другими людьми или целым обществом, от вмешательства в частную жизнь. Берлин не ссылается на позднего Толстого, хотя ранний Толстой его интересовал очень, и преемственность здесь в высшей степени очевидна. По Толстому, «cвобода есть отсутствие стеснения. Свободен человек только тогда, когда никто не воспрещает ему известные поступки под угрозой насилия. И потому в обществе, в котором так или иначе определены права людей и требуются и запрещаются под страхом наказания известные поступки, люди не могут быть свободными».
То есть ни в каком обществе, где существует закон и где права письменно определены и человеку угрожают наказанием, свободными люди быть не могут: «Истинно свободными могут быть люди только тогда, когда они все одинаково убеждены в бесполезности, незаконности насилия».
Это утопия полной и радикальной свободы личности. Вопрос, конечно, стоит тогда таким образом: а как эта абсолютная свобода человека может быть осуществлена? Осуществляется она на основе его внутреннего нравственного закона и реализована может быть только явочным порядком, путем категорического отказа от насилия, от судебных тяжб, от собственности, стесняющей и ограничивающей человека. Собственность требует охраны: тебя могут обокрасть, а значит, ты вынужден прибегать к силе закона, поэтому ты можешь быть свободен, только когда у тебя нет собственности, когда ты в том числе свободен от собственного прошлого, от обязательств, которые ты не можешь на себя брать.
Литературное творчество Толстого показывает то же отношение к психологии личности. Человек становится свободен только в тот момент, когда он оказывается свободен от себя самого. Один из ключевых кульминационных эпизодов в «Войне и мире» — это свидание Пьера и Наташи после войны, когда Пьер сначала Наташу не узнаёт, потом она улыбается, он ее узнаёт — и ее, и свою любовь к ней. «Это была Наташа, и он любил ее» и так далее, потом они начинают разговаривать. И княжна Марья его спрашивает в присутствии Наташи о том, что он теперь свободен, — умерла его жена Элен. И Пьер говорит: да, мы не были примерными супругами, но я так тяжело пережил, смерть без утешения, среди других — это ужасно, и прочее. И он видит, что он сказал то, что нужно, что Наташа сочувствует ему, понимает. Одним месяцем его жизни и примерно 20 страницами раньше рассказывается, как Пьер ворочается в постели и, вспоминая, что его жены больше нет, говорит: Господи, как хорошо. То есть всего, что он рассказывает Наташе, вообще никогда не было. Лжет ли он ей, обманывает ли? Нет. Он стал другим человеком. Под ее взглядом он стал другим человеком и искренне не помнит, что с ним было раньше. Это полное перерождение, это отказ от себя, возможность отказаться от связывающей тебя силы прошлого — это тоже форма осуществления свободы.
В реальной повседневной жизни человека, в сущности, единственной формой реализации вот этого неприятия власти становится жест отказа. Человек оказывается свободен от власти, не подчинен только тогда, когда он отказывается от
В 1862 году Толстой отказался от яснополянской школы. Решение оставить преподавание, много для него значившее, было для него трудным, но ему помог обыск, проведенный у него дома по правительственному распоряжению: в Ясной Поляне искали подпольную типографию, не нашли, но переворошили весь дом (сам Толстой тогда отсутствовал). Как он писал Александре Андреевне Толстой в письме, «хорошо, что меня не было, потому что иначе я был бы сейчас уже под судом за убийство». Он был взбешен и как гражданин, который никогда не подстрекал ни к какой революции и насилию, и как аристократ, права которого нарушены, и как анархист, которому продемонстрировали грубую бессмысленную силу: пришли, вломились в дом с обыском, прочитали его интимные дневники, которые он никому не показывал, напугали его престарелую тетушку и так далее. Толстой думает об эмиграции в этот момент, всерьез размышляет об идее покинуть страну. Но он не уезжает, он отказывается от школы, запирается в Ясной Поляне и начинает работать над «Войной и миром». Этот жест отвращения, который вызвало у него государственное насилие, позднее тоже был отрефлексирован в «Моей жизни».
Первое жизненное впечатление Толстого, воссозданное в этом тексте, отражается и в последних впечатлениях его жизни — в том виде, в каком они зафиксировались в дневниках самого Толстого и в воспоминаниях и дневниках близких ему людей. Вот как Толстой описывает в дневнике свой уход из дома. Он, конечно, долго обдумывал и репетировал свой уход из дома, как и все остальные важные решения жизни, пытался уходить, потом возвращался, но окончательный уход описан следующим образом:
«Лег в половине 12. Спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услыхал отворение дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это С[офья] А[ндреевна]
что-то разыскивает, вероятно читает. Накануне она просила, требовала, чтоб я не запирал дверей. Ее обе двери отворены, так что малейшее мое движение слышно ей. И днем и ночью все мои движенья, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, осторожно отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь и входит С. А., спрашивая „о здоровье“ и удивляясь на свет, который она видит у меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Пишу ей письмо, начинаю укладывать самое нужное, только бы уехать».
Мы знаем, что Толстой не выдержал помещичьего стиля жизни, и это было причиной кризиса в семье. Но фактором, определяющим его окончательное решение уйти, стала попытка контроля. Его попытались поставить под контроль, и этого уже невозможно было выдержать. Он покидает дом, он уходит, отказывается от всего, разрывает последние нити, связывающие его с семьей и его бытом. Вот этот жест ухода и отказа становится самым главным.
В этой связи приобретают особенное значение и последние слова, сказанные Толстым в жизни. Обычно, когда описываются последние минуты или часы жизни Толстого, ссылаются на Александру Львовну, его младшую любимую дочь, которая вспоминала его последние слова. И она пишет, что он уходит со словами «всех люблю, люблю много» и так далее. Но, по дневникам семейного врача Толстых Маковицкого, это были не последние слова. Потому что потом Толстому делали укол камфоры, чтобы поддержать сердце. Толстой не любил медицину, не верил во врачей, не хотел никаких уколов. А ему насильно делали укол — опять к его лежащему телу (он уже был в почти бессознательном состоянии) применяли насилие, власть, заботясь о его здоровье. Как Софья Андреевна заботилась о нем, как те два человека, которые стояли в первый день, так и снова — это была насильственная власть — его пытались насильственно поддержать, помочь, вылечить. Последними, по воспоминаниям Маковицкого, сказанными Толстым уже в почти бессознательном состоянии словами были «Пора удирать
Может показаться странным, что автор самого знаменитого в истории человечества исторического романа не любил историю. Он всю жизнь отрицательно относился и к истории как к науке, находя ее ненужной и бессмысленной, и просто к истории как к прошлому, в котором видел непрекращающееся торжество зла, жестокости и насилия. Его внутренней задачей всегда было освободиться от истории, выйти в сферу, где можно жить в настоящем. Толстого интересовало настоящее, текущий момент. Его главной моральной максимой в конце жизни было «Делай что должно, и будь что будет», то есть не думай ни о прошлом, ни о будущем, освободись от давления, которое имеют над тобой память о прошлом и ожидание. В поздние годы жизни он с огромным удовлетворением отмечал в дневнике ослабление памяти. Он переставал помнить собственную жизнь, и это его бесконечно радовало. Тяжесть прошлого переставала над ним висеть, он чувствовал себя освобожденным, он воспринимал уход памяти о прошлом (в данном случае — о личном прошлом) как освобождение от тяжкой ноши. Он писал:
«Как же не радоваться потере памяти? Все, что я в прошедшем выработал (хотя бы моя внутренняя работа в писаниях), всем этим я живу, пользуюсь, но самую работу — не помню. Удивительно. А между тем думаю, что эта радостная перемена у всех стариков: жизнь вся сосредотачивается в настоящем. Как хорошо!»
И это же был идеал жизни человека в истории — человечество, которое не помнит о том бесконечном зле, которое оно само над собой совершило, забыло его и не может думать о возмездии.
При таком отношении к прошлому чрезвычайно интересно, каким образом и как Толстой оказался на территории исторической прозы. Кроме «Войны и мира» у него было еще несколько исторических замыслов, которые остались незавершенными и нереализованными. Первые отрицательные отзывы об истории как науке появляются у него уже с университетских лет, в Казанском университете, который он, как известно, не окончил. Толстой всегда там блестяще успевал в языках, а история ему не давалась. И его дневники фиксируют непонимание, зачем его заставляют сдавать эти странные дисциплины: у него не получалось, он не мог запомнить цифры и даты и тому подобное.
И при своем этом в общем глубоко негативном отношении к истории он начинает с рассказа о себе, с «Детства», с рассказа о собственном прошлом. Толстой описывает детство глазами ребенка. Это далеко не первое в истории мировой литературы произведение о детстве и воспоминание о детстве, но первая или одна из первых попыток реконструировать взгляд ребенка, писать из настоящего, когда взрослый человек описывает то, как он ребенком воспринимал свою жизнь. Это ход блистательный и неожиданный для того времени и с художественной точки зрения, и исходя из задачи, которую ставил перед собой Толстой. Но целью было описать идиллическое прошлое, а мир, который он описывал, был основан на крепостном праве, и взрослый человек не мог не осознавать ужаса, зла и насилия, лежащего в основе той идиллической картины, которую он воссоздает. Толстой создает образ мальчика, не видящего этого зла в силу своего возраста и способного воспринимать окружающий мир как идиллию. Автобиографичность «Детства» не стоит воспринимать слишком буквально: детство Толстого менее всего было идиллическим; оно было, видимо, довольно ужасным, и характерно, что смерть матери, главное определяющее событие его детства, сдвинута с двух лет на одиннадцать. То есть в «Детстве» мать еще жива; главная катастрофа, утрата еще не пережиты. Толстой ребенком потерял сначала мать, а потом отца. Но то, с чем он входит в литературу, — это реконструкция опыта мгновенного переживания настоящего. Так же строятся «Севастопольские рассказы», потрясшие читателей и принесшие Толстому славу самого знаменитого русского писателя. Это репортаж о
И Толстой медленно нащупывает пути к своему главному историческому роману тоже из прямого журналистского репортажа. Как известно, «Война и мир» начинается с декабристов: первый подход к «Войне и миру» — это история ссыльных декабристов. То есть декабристы были амнистированы в 1856 году, и в
В то же время — и это очень существенно —
Как хорошо известно, Толстой набрасывал предисловия к «Войне и миру». В одном из них он сделал поразительное признание. «…Я знал, — пишет Толстой, — что никто никогда не скажет того, что я имел сказать. Не потому, что то, что я имел сказать, было очень важно для человечества, но потому, что известные стороны жизни, ничтожные для других, только я один по особенности своего развития и характера… считал важным». И продолжал: «Я… боялся, что мое писанье не подойдет ни под какую форму…», а «необходимость описывать значительных лиц
Толстой родился в 1828 году, через 16 лет после войны 1812 года, через 23 года после начала романа, через 8 лет после того, как происходит действие в эпилоге. Между тем люди, которые читают «Войну и мир», все время говорят об эффекте погружения в историческую реальность. Какими художественными средствами достигался этот эффект? Здесь есть несколько существенных моментов, на которые я хотел бы обратить внимание, очень важных для отношения Толстого к истории вообще. Одно из этих обстоятельств — это превращение истории страны, национальной истории в семейную. Болконские и Волконские: переделывается одна буква — и мы получаем род Толстого со стороны матери. Фамилия Ростовы отличается от семейной чуть больше, но если мы пороемся в черновиках, первоначально эти герои носили фамилию Толстовы, потом — Простовы, но фамилия Простов, вероятно, слишком напоминала моралистические комедии XVIII века, в результате буква «п» отпала — появились Ростовы. Да, простой гусар Николай Ростов мало похож на либерального аристократа — отца Толстого, а образованная, светская и знавшая много языков Мария Николаевна Волконская — на набожную, погруженную в религиозную проблематику княжну Марью. Но дело в читательском ощущении того, что перед нами — семейная хроника.
Но линия Николая Ростова и княжны Марьи
То, что Левин — автобиографический персонаж и проекция личности Толстого, общеизвестно, но и про Пьера это можно говорить с такой же степенью определенности. И интересно, что, хотя действие романа происходит в начале XIX века, собственно говоря, вся история Наташи Ростовой — это описание in real time разнообразных любовных переживаний свояченицы Толстого Татьяны Андреевны Берс, в замужестве Кузминской: ее история увлечения Анатолем Шостаком — Толстой даже не потрудился изменить его имя — и потом история ее романа с братом Толстого Сергеем. (Татьяна Берс умоляла Толстого не писать об обстоятельствах ее личной жизни, говоря, что на ней никто не женится, если Толстой ее опишет, но на Льва Николаевича это не произвело ни малейшего впечатления.) Причем роман был начат, когда многие описанные в нем события еще не произошли: Толстой описывал их «по мере поступления». По свидетельству сына Толстого Ильи Львовича, Толстой был влюблен в свою свояченицу (платонически, конечно, но Софья Андреевна сильно ревновала мужа к сестре) и описывал историю их сложных отношений. История становления личности его и любимой героини, которая происходила прямо на глазах и в душе и воображении автора, выплескивалась на страницы исторического романа. То есть время объединяется, прессуется, складывается, настоящее проецируется в прошлое, и они оказываются нераздельны. Это единый комплекс прямо переживаемого настоящего, поданный как реальность прошлого.
Есть и еще один, не менее значимый прием. В эпилоге «Войны и мира» мы имеем дело с конвенциональным, совершенно обычным финалом исторического романа. Чем кончаются романы? Свадьбами. «Война и мир» кончается двумя свадьбами. Причем Толстой говорил, что свадьба — это неудачный финал для романа, потому что жизнь не кончается свадьбой, она продолжается дальше. Тем не менее его роман кончается двумя свадьбами, и, как положено в романическом эпилоге, мы видим, как герои живут счастливо. Вопреки тому, что написано в первой фразе «Анны Карениной», мы видим две счастливые семьи, которые счастливы совершенно
Но разница между Пьером и Николаем… В их споре, как всегда, прав неинтеллектуал Николай (Толстой не любил интеллектуалов, хотя сам им был), а не интеллектуал Пьер. Но Пьер оказывается человеком историческим: он входит в историю через 1825 год, он становится действующим лицом большой истории. Толстой как бы одновременно пишет исторический роман о 1812 годе (сегодня мы знаем о войне 1812 года и представляем ее по образу, созданному Толстым; он навязал нам свою модель 1812 года, причем не только русскому, но и мировому читателю), но, с другой стороны, речь идет об описании его собственной семьи, его собственных переживаний на текущий момент. И именно этого сочетания не хватало другим важным историческим замыслам Толстого.
На что еще следует обратить внимание: при всей уникальности опыта Толстого он был человеком своего времени. Время, когда начинается роман о декабристах, — это 1860 год. В 1859 году выходят две самые главные книги XIX века — «Происхождение видов путем естественного отбора» Дарвина и «К критике политической экономии» Маркса. С точки зрения авторов этих двух книг, история движима колоссальными безличными силами. История биологическая, эволюция человечества или история экономических формаций — это процесс, в котором отдельный человек не имеет значения и роли. Как начинаются обе эти книги? Я приведу короткие цитаты из предисловия к «Политической экономии» и из предисловия к «Происхождению видов». Что пишет Маркс? «Моим специальным предметом была юриспруденция, которую, однако, я изучал лишь как подчиненную дисциплину наряду с философией и историей. В 1842–1843 годах мне как редактору Rheinische Zeitung пришлось впервые высказываться о так называемых материальных интересах…», «Первая работа, которую я предпринял для разрешения обуревавших меня сомнений, был критический разбор гегелевской философии права…», «Начатое мною в Париже изучение этой последней я продолжал в Брюсселе…», «Фридрих Энгельс, с которым я со времени появления его гениальных набросков к критике экономических категорий… поддерживал постоянный письменный обмен мнениями, пришел другим путем к тому же результату, что и я; и когда весной 1845 года он также поселился в Брюсселе, мы решили сообща разработать наши взгляды…» — и так далее.
Рассказ о смене экономических формаций начинается с того, что автор себя вписывает в историю, это его личная история, становление его мировоззрения есть часть истории. Как начинается «Происхождение видов» Дарвина? «Путешествуя на корабле Ее Величества «Бигль» в качестве натуралиста, я был поражен некоторыми фактами в области распространения органических существ в Южной Америке и геологических отношений между прежними и современными обитателями этого континента», «По возвращении домой я в 1837 году пришел к мысли, что, может быть,
То есть авторы рассказывают историю видов или историю экономических формаций, вписывая туда свою собственную личную историю — как они пришли к пониманию своих тем, что с ними при этом происходило и так далее. Так же и Толстой в историю 1812 года вписывает свою собственную историю, потому что история общества, экономической формации, биологического вида — это и есть история человека. Мы познаем историю, двигаясь от себя в глубь времени, из современного положения мы идем обратно, разматывая этот клубок. Это и есть толстовская философия истории — как она изложена в «Войне и мире». Отсюда у него и доступ к прошлому: через себя Толстой узнаёт, как было на самом деле. Не из исторических документов, которые он, конечно, изучал в высшей степени внимательно, но они лишь пособие, важное для точности деталей и так далее. А главное он узнаёт, разматывая обратно текущий момент. Так происходит восстановление прошлого.
Толстого чрезвычайно волновала проблема распадения русского народа на чуждые друг другу европеизированное дворянство и крестьянскую массу. Он очень много об этом думал и, написав о проявлениях этого распадения в «Войне и мире», обращается к эпохе, когда это распадение происходит, — ко времени Петра I. Следующий его замысел — это роман о Петровской эпохе, когда начинается европеизация русской элиты, создающая непреодолимый раскол в обществе между образованным и необразованным сословиями. Через
Как написала Софья Андреевна Толстая свой сестре Татьяне Андреевне Кузминской (она читала первые наброски), герои есть, они одеты, расставлены, но не дышат. Она сказала: ну, может, еще задышат. Софья Андреевна хорошо разбиралась в том, что пишет ее муж. Она чувствовала: не хватало дыхания. Толстой там тоже хотел вписать свою семью, только по отцовской линии: граф Толстой получил графство от Петра I и так далее, он должен был действовать в романе. Но первый кризис работы над романом был связан с тем, что Толстой так и не смог вообразить себя в этой эпохе. Ему трудно было Петровскую эпоху представить как свое собственное личное прошлое. Ему трудно было вжиться в переживания людей того времени. У него хватало художественного воображения, но он не видел себя живущим среди людей того времени так, как он видел себя среди героев «Войны и мира». Другой замысел был — вывести, показать встречу ссыльных декабристов и крестьян в Сибири; вывести, так сказать, героев и персонажей из истории в географию, но он тоже к этому времени потерял интерес к жизни высшего сословия.
Интересно, что, напряженно обдумывая два исторических романа, Толстой начинает писать и углубляется в роман, действие которого опять происходит прямо сейчас, в текущем времени. В 1873 году он начинает работу над «Анной Карениной», действие которой начинается в 1872 году. Писание идет медленно, и по ходу работы Толстой опять реагирует на события, происходящие на его глазах: гастроли иностранных театров, придворные интриги — и главное, конечно, начало
Уже после духовного кризиса Толстого конца
«Кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворы, церкви, кто перевозил товары? Кто воспитывал и рожал этих людей единого корня? <…> Народ живет, и в числе отправлений народной жизни есть необходимость людей разоряющих, грабящих, роскошествующих и куражащихся. И это правители несчастные, долженствующие отречься от всего человеческого».
Идея романа о Петре I на время преобразуется у Толстого в идею романа, который должен называться «Сто лет». Он хотел описать столетнюю историю России от Петра I до Александра I на протяжении ста лет — то, что происходит в крестьянской избе, и то, что происходит во дворце. И параллельно он продолжал обдумывать роман о декабристах в Сибири, что вместе с уже написанными «Войной и миром» и «Анной Карениной» складывалось в картину монументальной тетралогии, которая бы описывала всю историю России от петровского времени и до того момента, когда Толстой жил. Все царствования, два столетия русской истории. Тем не менее замысел «Ста лет» переживает кризис, потому что одно дело — писать национальную историю, а другое дело — писать историю гангстерской шайки. К
И Толстой постепенно на долгое время отходит от исторических замыслов. Последний его замысел такого рода — это замысел романа об Александре I «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» (он возникает раньше, но Толстой к нему возвращается в 1905 году). Это легенда про то, как Александр I не умер в 1825 году, а бежал из дворца, стал жить в Сибири на заимке в качестве старца Федора Кузьмича. И Толстой, как вспоминал великий князь Николай Михайлович, говорил, что его интересует душа Александра I — «оригинальная, сложная и двуличная, и если он действительно кончил свою жизнь отшельником, то искупление, вероятно, было полное». Что здесь интересно: это исторический роман, но сутью этого романа является выход человека из истории. Александр I отказывается, по Толстому, по замыслу романа, от собственной историчности. Он уходит жить в пространство, где истории нет. Его жизнь старцем, где есть общение с Богом, и есть искупление за его грехи как императора. Потом, прочитав книгу Николая Михайловича об Александре I, Толстой убедился, что это легенда, что этого не было. И первоначально он говорил, что «пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Кузьмича, легенда остается во всей своей красоте и истинности. Я начал было писать на эту тему… но едва ли удосужусь продолжать — некогда, надо укладываться к предстоящему переходу [к смерти]. А очень жалею. Прелестный образ». Ну, отчасти было некогда, но отчасти, видимо,


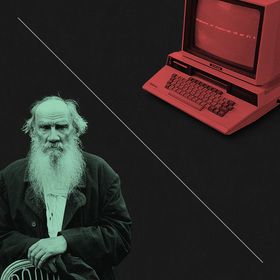










Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости