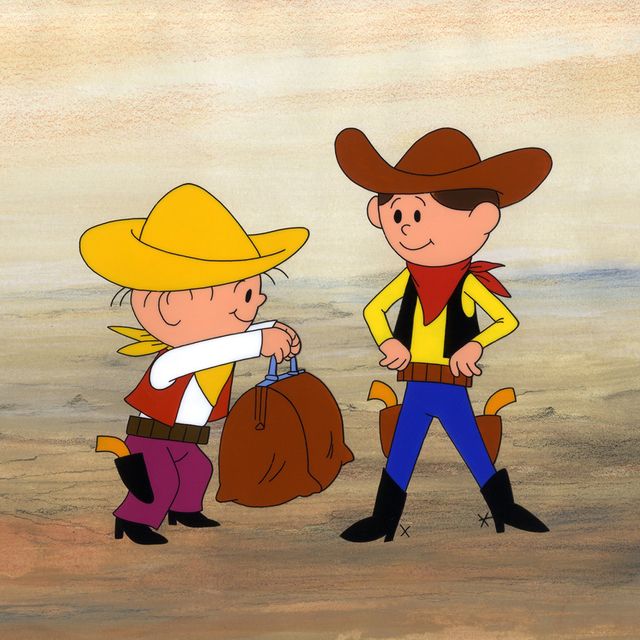Интервью с Наумом Клейманом
Об украденном режиссере Анджее Вайде, о взаимных русско-польских обидах, о влиянии Польши на советскую культуру и о том, что такое всемирная отзывчивость
Наум Клейман — киновед, создатель Музея кино. Специалист по творчеству Сергея Эйзенштейна, научный консультант по реконструкции его фильмов. Начиная с 1950-х Клейман дружил со многими польскими кинематографистами, в том числе с Анджеем Вайдой, которого в 1963 году, в первый его приезд в СССР, Клейман повел гулять по Москве.
Наум Клейман: Первое, чем потряс меня Вайда, — это то, как он смотрел живопись в Пушкинском музее. Мы до этого уже немного погуляли по Москве, разговаривали, конечно, все это было очень содержательно и волнительно. Но когда я увидел Вайду, который смотрит живописную картину, а я понимаю, что он смотрит фильм, снятый Пуссеном, я вдруг увидел человека, который сочинял фильм, глядя на живопись. И вот этого я не могу забыть: Вайда, который фактически творит вместе с Пуссеном.
Вячеслав Рогожников, шеф-редактор Arzamas: А как это выглядело?
Н. К.: Вы знаете, я не знал, что у него происходит в голове, — я только видел, как у него шел взгляд. Во-первых, он наклонился к картине, он почти носом въехал в нее и начал панорамировать. И я видел, что вот тут он делает крупный план, тут пошел вниз, тут он нашел
В. Р.: Расскажите про тот поход в Пушкинский музей.
Н. К.: Это был первый раз, когда мы украли Вайду. Вайда ведь был представителем ревизионистского кинематографа. Очень долго к этим молодым ребятам, которые начали новое польское кино, относились как к людям, которые хотят ревизовать законы соцреализма. Тем не менее надо было налаживать отношения с Польшей. Вайда в этом смысле был самым крупным кинематографистом, признанным во всем мире. Он уже снял «Пепел и алмаз», и все понимали, что он был великим режиссером. И надо было пригласить его хотя бы для того, чтобы обозначить советско-польскую дружбу — и для Польши, и для нас.
Тем более что Вайда вел себя потрясающе. Он правильно себя поставил: он не подпевал идеологам своей страны, но никогда не выступал ни с антисоветскими, ни с антирусскими — что бывало в Польше — заявлениями. Притом что у него была личная трагедия. Отец режиссера, капитан Якуб Вайда, стал одной из жертв Катынского преступления. Весной 1940 года он был расстрелян в областном управлении НКВД в Харькове.
В первый раз Вайду пригласили к нам в страну в 1963 году, ему даже устроили маленькую ретроспективу. Но нам: мне, Виктору Демину, который, как и я, работал в Госфильмофонде, и Мирону Черненко, главному специалисту по польскому кино, который великолепно знал польский язык и мечтал написать книгу о Вайде, — надо было
Я сказал об этом Мирону. Мирон тут же сказал: «Слушай, сделай так, чтобы я тоже там был. Я с ним договорюсь, может, он мне интервью даст». Тогда Витя Демин сказал: «Надо Вайду красть». — «Как украсть?» — «А он же там не сможет поговорить. Мы с ним должны по Москве походить, и он расскажет Мирону все что надо».
И вот когда Вайда был у Перы Моисеевны, туда пришел Мирон Черненко — я ее предупредил, естественно. Они встретились с Вайдой и договорились, что на следующее утро,
Он жил рядом, в гостинице «Москва», пришел на Красную площадь, и оттуда мы пошли гулять — как мы думали, на час-полтора, — а потом он должен был идти в Союз кинематографистов. Но Мирон задавал десятки вопросов, он говорил
Должен сказать, что у Вайды была еще одна удивительная способность — никакого высокомерия. Надо сказать, что не все наши знакомые поляки отличаются отменной скромностью. Есть такое понятие honorowy, то есть немного с гонором. Как писал Пушкин: «Пред гордою полячкой унижаться» Цитата из пушкинского «Бориса Годунова».. У Вайды этого не было абсолютно. С первого мгновения разговор пошел как бы на равных, хотя мы понимали масштаб Вайды и дистанцию. Этот день остался в памяти на всю жизнь.
Самое смешное, что первая в мире книга о Вайде вышла у нас и написал ее Мирон Черненко. А много лет спустя я принес эту книгу на встречу с Вайдой в Музее кино, и Вайда сделал приписку к дарственной надписи Черненко. Этот автограф — в память о дне, когда мы его украли.
В. Р.: Когда вы уже хорошо познакомились с Вайдой, вы так и продолжали говорить на русском, а он — на польском?
Н. К.: Да, вся дружба была двуязычной. Когда Вайда летел из Японии, была долгая пересадка на польский рейс и у него был целый день. Я приехал в Шереметьево, в VIP-зону, и меня пустили поговорить с ним и с Кристиной Захватович. Кристина — замечательный сценограф и художник, и я, кстати, был с ней знаком до того, как она стала женой Вайды. И было очень смешно, потому что Кристина понимала
В. Р.: Вы на тот момент были очень молодым человеком, но и ему было еще немного лет — и его, и вас интересовало
Н. К.: Слово «актуальный» появилось гораздо позже. Для нас Малевич был актуален, мы Малевича не видели в Третьяковке и мечтали посмотреть на оригиналы начала XX века. И для нас он был более актуален, чем то, что в это время творили наши современники.
В разговоре с Вайдой, насколько я помню, мы обсуждали театр, то, что делает театр текущий, а не вообще, хотя он очень хорошо знал историю театра, в том числе и театра русского. Что Вайда, безусловно, понимал, так это то, что театр переживает другую стадию. Станиславский (при всем уважении к нему) — это вчерашний день, уже есть другие формы выражения театра, не только Бертольт Брехт.
Вайда, например, снял в Японии экранизацию «Идиота» — потрясающий фильм, который называется «Nastazja». Это удивительный эксперимент, потому что вдруг на материале Достоевского польский режиссер делает фильм, где один и тот же актер кабуки играет и Мышкина, и Настасью Филипповну. И снимали, кстати говоря, в Ленинграде, в подлинных интерьерах Питера. Это самое удивительное: несколько сцен снято с видом на Ленинград — при этом актер кабуки. Вайда вдруг сказал, что для него было очень важно найти тот общий знаменатель, который связывает культуры.
В этом смысле Вайда — международная фигура. Он абсолютно польский режиссер, он выразитель польского мироощущения, если хотите, наследник польского символизма, польского модерна. И в то же время это человек, абсолютно не вписывающийся только в национальные границы, он все время «разомкнут». Поэтому он мог снимать русские сюжеты — он снимал Достоевского много раз, — мог снимать французские сюжеты, работал в Японии. То есть это, как полагается вольному художнику, «всемирная отзывчивость» — как Пушкин.
Вайда в
Я никогда не видел Вайду, что называется, обряженным. Было абсолютно незаметно, как он одет, совершенно «прозрачные» одежды. Я не могу сказать, что они дешевые, — наверное, нет, но, как у всякого аристократа, это не бросалось в глаза. Один раз я видел его почти что во фраке, потому что он вручал на Берлинском фестивале
У Вайды была естественная элегантность, такая, которая вообще присуща полякам. Я должен сказать, что поляки не позволяют себе распущенность и разбросанность и вообще ценят аккуратный внешний вид; даже если вещи недорогие, они должны быть очень тщательно подобраны. Ты чувствуешь, что человек тщательно продумал свой костюм.
Когда-то по Варшаве меня водила супружеская пара — архитектор и его жена (
И, с одной стороны, это был эпатаж, потому что люди оглядывались, костюм был совершенно неожиданный. А в то же время в этом была ирония, в этом не было никакого дурновкусия. В этом смысле поляки потрясающе стильные — и женщины, и мужчины. Они умеют создать и найти свой стиль и ценят это. Хороший вкус включает в себя прежде всего скромность, понимание лимита, границы. Это в Польше есть, и я должен сказать, что это есть и в театре, и в замечательных польских музыкантах. Я был на польском внутреннем конкурсе Шопена, и меня поразило, как мало внешней экспрессии и как много проникновенности, лиризма. Это в поляках я очень люблю.
У поляков была стойка. Когда я читал лекции на режиссерских курсах, я всегда приводил моим дорогим ребятам-режиссерам пример. Кончаловский снял «Дворянское гнездо» с двумя великими актрисами, Беатой Тышкевич и Ириной Купченко. Талант у обеих замечательный. Беата Тышкевич, графиня, держит голову — она даже не умеет горбиться. И вдруг — сгорбившаяся Ира, хотя чего ей
В. Р.: Мы подробно поговорили про Вайду и начали немного говорить про Занусси. Это, насколько я понимаю, фигура совсем другого рода.
Н. К.: Я бы сказал, что Кшиштоф — это министр иностранных дел польского кино. Он замечательно умеет ладить со всеми; я не знаю, каким количеством языков он владеет. В Варшаве мы с ним были на спектакле Вайды «Сон разума», это пьеса про Франсиско Гойю. Вайда пригласил меня с Кшиштофом и еще одним гостем, испанцем. Кшиштоф сел посередине, я сидел справа, испанец — слева. Спектакль шел на польском языке — Кшиштоф переводил на испанский и на русский симультанно. Вот это Кшиштоф. В этом смысле он потрясающий. Кроме того что он полиглот, он великолепно улавливает собеседника, умеет ему не то чтобы вторить — настроиться на его волну. Поэтому он настоящий министр иностранных дел. Он представляет польское кино уже много лет, и, где бы он ни оказался, его принимают как своего.
Кшиштоф — воспитанник доминиканцев. Знаете, это особенная вещь. Там многие выросли в колледжах при монашеских орденах или при храмах, и я помню, как Кшиштоф привез меня к этому храму и сказал: «Вот здесь я учился». Как ни удивительно, Кшиштоф сочетает в себе светскую и монашескую культуру. В нем есть
С ним мы могли поговорить про политику. В этом плане я могу сказать, что гражданственная позиция поколения, которое представляет Занусси, была шагом вперед по сравнению с Вайдой. Вайда на всю историю смотрит немного сверху, с облаков, — и замечательно, потому что это тот художник, перед которым общий план истории. А эти ребята плывут в этой реке сегодня, и от всего, что не так, их трясет.
Занусси показал мне то место у Вислы, где стояли наши войска. Вы знаете эту историю?
В. Р.: Варшавское восстание. На этом основан сюжет фильма «Канал»?
Н. К.: Да. Занусси мне показывал Варшаву, свою Варшаву, — и, надо сказать, довольно драматургично. Он начал с панорамы высотного здания, построенного Советским Союзом — такая цитата Москвы в Варшаве, — и увел меня внутрь Старого miasto Stare Miasto — исторический центр Варшавы, Старый город., повел в костел, показал совершенно замечательные польские церкви. А потом привел меня на берег Вислы — Висла не очень широкая — и сказал: «Вон там стояли советские войска. А здесь немцы громили Варшавское восстание. И ваши войска стояли и ждали, пока немцы их разгромят». Я этого не знал. То, что они стояли так близко, для меня было, конечно, страшным ударом. Я, в принципе, знал от Мирона Черненко про эту ситуацию, но мне казалось, что это было очень далеко, что нам нужно было еще наступать и наступать до Варшавы. Тогда я спросил: «Одна из последних сцен „Канала“ Вайды, где герои упираются в решетку, а на той стороне свобода, но она недостижима, — метафора этого события?» — «Да, конечно». Это метафора вообще шекспировского масштаба.
В тот момент потемнело в глазах, потому что я понимаю, какая это была трагедия для поляков: так же как для Вайды было сделать фильм про расстрел в Катыни. Он сделал это не для того, чтобы предъявить счет русским, и не случайно взял русского офицера, который спасает польскую семью, чтобы сказать: «Нет, мы не отождествляем сталинизм и Россию». Он сделал это как указующий перст.
Но для меня эти два момента в
За века у нас накопилось очень много конфликтных ситуаций, и предубеждений друг к другу, и обидных прозвищ, и всякого рода штампов, которые надо преодолевать, выкорчевывать и не по капле выдавливать, как раба у Чехова 7 января 1889 года в письме Алексею Суворину, издателю газеты «Новое время», прозаику и драматургу, Чехов писал: «Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая…» (Переписка А. П. Чехова. В 2 томах. Т. 1. М., 1984.), а ведрами выплескивать.
Дело в том, что у нас с поляками разные исторические пути, плюс к этому разница вероисповеданий, потому что поляки — католики, они тяготеют к Риму, к Риму Первому. Мы — к Риму Второму, Византии. Есть травмы нового времени, когда Семен Буденный пытался покорить Польшу в 1920 году Советско-польская война 1920–1921 годов была вызвана попытками Польши захватить пограничные территории Украины, Белоруссии и Литвы, начавшимися еще в 1918 году. Польскую армию поддерживали Антанта и США. В апреле 1920 года она заняла Киев, но после потерпела поражение от Красной армии, которая продолжила наступление и в августе подошла к Варшаве и Львову. Война закончилась в 1921 году подписанием Рижского мирного договора. Избавившись от угрозы со стороны Польши, Красная армия разгромила войска белого генерала Петра Врангеля и закончила Гражданскую войну. и получил отпор, а мы об этом ничего не знали. Есть травмы разделов Польши XVIII, XIX и XX века. К сожалению, мы каждый раз отнимали от Польши то один, то другой кусок, и все это на самом деле травмы, болезненные травмы.
Могу сказать, что было травмой для меня. В том спектакле «Дзяды», который я смотрел в Кракове, есть один персонаж, дьявол. Он выходил снизу, из ада, и вдруг я увидел — это Пушкин. Пушкин — с бакенбардами, в цилиндре, — которого мы знаем. У меня сердце заколотилось.
После этого у нас с поляками был очень долгий разговор. Они стали говорить: «А что же Пушкин написал стихи на взятие Варшавы?» Действительно, в 1831 году поляков потопили в крови После разделов Речи Посполитой в XVIII веке между Пруссией, Австрией и Россией Россия получила в управление земли, которые принято называть «царство Польское», по своей сути это было отдельное государство. В 1830 году в Польше началось восстание против царской власти, которое через год закончилось взятием русской армией Варшавы. В результате царство Польское лишилось конституции и автономии. и Пушкин (как они полагали, для того чтобы выслужиться перед царем) написал два стихотворения: «Бородинская годовщина» и «На взятие Варшавы». «Как можно было злорадствовать великому поэту, который считал себя другом Мицкевича?» Я говорю: «Подождите, он, а не
Я вернулся в Москву, я перечитал эти стихи, я прочитал переписку Пушкина этого времени и почитал о нем — почему? И должен сказать, что для меня Пушкин — солнце, но пятна на нем есть. Пушкин тоже разделял эти настроения в отношении поляков, как и Достоевский, который называл их «полячишками». И Гоголь про поляков писал. Что мы можем сделать? В нашей литературе есть антипольская линия, так же как и антисемитская, и есть обидные для татар вещи и песни. Нам всем вместе надо преодолевать это всеми усилиями, знать, что это было в истории, но не тащить с собой в будущее. Я с этой «пушкинской» травмой жил очень долго, чтобы
И что делал Вайда? Я расскажу о том, как Вайда пытался преодолеть вот эту вражду к иноземцам, к чужакам и так далее. Он сделал фильм, который произвел скандальное впечатление в Нью-Йорке, — «Земля обетованная». В Варшаве он был принят неоднозначно, потом в Нью-Йорке,
В фильме три героя: один — поляк, другой — немец, третий — еврей. Все трое устраивают текстильную промышленность в Лодзи, это были три главные составляющие польского капитализма. И Вайда попытался понять их дружбу, которая потом была разрушена, но тем не менее они остались тремя органическими частями польской истории и культуры. Фактически он вернул Польше разговор о том, что, во-первых, она не гомогенна, нет гомогенной польской культуры. Во-вторых, что три эти, если можно так сказать, популяции Польши могут дружить и сотрудничать друг с другом. И, самое главное, каждый характер — со своими минусами и своими плюсами — он сделал с юмором. Он снял ощущение напряженности, потому что как только появляется юмор, сразу уходит это взаимное напряжение, переходящее в ненависть. На мой взгляд, ему это удалось.
В. Р.: Это вообще очень острый вопрос: он и немца туда вставил, а двадцать или тридцать лет назад только закончилась война.
Н. К.: Конечно. Во-первых, он добавил немца, это был немец XIX века. Но надо помнить, что в XVIII веке Фридрих тоже поделил Польшу и фактически Польша сталкивалась с Германией не только в Первой и Второй мировых войнах, но и раньше. Тем не менее там была нынешняя Восточная Польша, которая
Поляки были первыми на европейском континенте, кто начал «новую волну». Все думают, что это были французы, — ничего подобного. В 1954 году появились первые фильмы Анджея Вайды, Анджея Мунка и Ежи Кавалеровича. Кавалерович сделал «Целлюлозу», Мунк — «Человека на рельсах», Вайда — «Поколение». Это были первые молодые режиссеры, которые обновили кинематограф. Они стали
И следом были мы: в 1956 году следующее молодое поколение (целая плеяда) появилось в Советском Союзе. И только в 1958 году появились французы. Но французы придумали хорошее выражение — «новая волна». Вот как хорошо можно продать. А мы говорили «новое поколение», новое поколение — каждое десятилетие.
В. Р.: Как так вышло, что в гораздо менее свободных Польше и СССР это появилось раньше, чем в свободной Франции?
Н. К.: А это был момент освобождения. Дело в том, что во Франции была налаженная инерция коммерческого кино — то, что называется cinéma de qualité, «качественное кино». Вот «качественное» французское кино после войны продолжало кино 30-х годов, и молодых не очень пускали, им давали короткометражки.
А в Польше и в Советском Союзе после смерти Сталина повеяло свежим ветерком. И в Польше — где, как ни удивительно, было немного больше свободы, чем в СССР — в это время начинала становление Лодзинская польская киношкола, это было очень важное, я бы сказал, гнездо молодых талантов, в
Режиссер Ежи Зярник снял первый для нас фильм так называемой «Черной серии» — «Miasteczko», то есть «Городок». В маленьком польском городке он снял репортажи с ребятами, которым нечего делать: в городе нет производства, и никакого будущего у них нет. Парни стоят лузгают семечки, смотрят на девиц, а девочки ходят и прячут свои лица, чтобы ребята не приставали, и в то же время поглядывают. Зярник сделал этот фильм в качестве дипломной работы, и ВГИК отказался ее принимать. Лев Владимирович Кулешов заступился за него, потому что знал, что такое запрещенные фильмы. Он решил собрать ребят и показать фильм в маленьком зальчике, в 300-й аудитории. Мы посмотрели его и совершенно обалдели от того, как можно такое снимать — и что, оказывается, можно снять. И стоял Ежи Зярник, который сказал: «Я не буду снимать другой диплом, я защищусь по этому фильму».
Вы знаете, сама интонация человека, который стоит горой за то, что он снял и что он будет защищать, была для нас моральным уроком. Он был поляком, и мы прекрасно понимали, что поляк может так сказать, а мы еще боялись и не очень понимали, что тоже имеем внутреннее право сказать: «А я буду». Уже через год это было возможно, но в 1956 году еще нет. Замечательное польское документальное кино, которое в России очень мало известно, для нас очень долго было камертоном гражданского мужества, если хотите, — а они это делали.
В. Р.: Почему именно Польша, а не одна из других, например, социалистических стран?
Н. К.: Это хороший вопрос. Дело в том, что в Польше всегда была внутренняя rezystancja, замечательное польское слово, идущее от латыни, — «сопротивление». Поляки — может быть, на почве того, что у них искусство всегда было романтическим устремлением в будущее с отрицанием нынешнего и все время было то или другое рабство — постоянно сбрасывали с себя этот хомут. Они были более независимы, чем мы, и у них к тому же была опора — как ни удивительно, католическая церковь, которая поддерживала это самостоянье, особенно среди польских художников.
Этого не было ни в Венгрии, ни в Чехии, но в Чехию немного позже пришло. У чехов к этому времени были замечательные таланты. Была старая студия «Баррандов», построенная немцами по всем правилам немецкого кинопроизводства. Они тоже снимали картины, которые были рассчитаны на сказки. Это были сказки разного рода, в том числе и мюзиклы-сказки, например картина «Старики на уборке хмеля». Гражданское самосознание фактически проснулось в Чехии чуть позже — надо говорить «в Чехословакии», потому что это еще была Чехословакия и это очень важно, потому что Словакия немного отличается от Чехии. Но тем не менее гражданский пафос у них появился
У румын все было давно «загашено», замечательное румынское кино появилось сейчас. А Венгрия, как ни удивительно, была сильно связана с Австрией, еще в 30-е годы у них была сильная классическая кинематография. Венгрия была фактически ограблена, потому что венгерского языка никто не понимал, дубляжа не было, рынок у них был слишком маленький. Большинство венгерских талантов уехали в Голливуд или в Англию. Александр Корда, Пал Фейош — масса венгерских деятелей кино уехала за границу или в Вену. Их молодая поросль, например Иштван Сабо или Миклош Янчо и другие, тоже появилась чуть позже —
В. Р.: Вы
Н. К.: Дело в том, что мы были участниками целого ряда событий и не понимали ни их масштабов, ни контекста. Как говорится, большое видится на расстоянии. Например, моя семья была сослана в Сибирь. Мы были не в ГУЛАГе, а рядом с ним: ГУЛАГ был через реку. Мы были просто так называемыми спецпереселенцами и понятия не имели, что происходило в ГУЛАГе, а были еще так называемые свободные, но свободные относительно. Но когда после XX съезда люди стали возвращаться из лагерей и рассказывать, что там было, у нас волосы дыбом встали. Во-первых, никто не представлял себе масштабов, того, сколько миллионов людей в них оказалось. Во-вторых, никто не понимал, что происходило на самом деле, потому что всем говорили: «Там перевоспитывают преступников, приучают к социалистическому труду». А когда все выяснилось, простите, было не до оптимизма. Больше того, когда вдруг стала выясняться подноготная тех людей, чьи портреты каждый год вывешивало политбюро, когда стало ясно, сколько за каждым крови, у нас мурашки по телу пошли. Фактически для нас это было одновременно свежим воздухом и затмением: не очень понятно, как быть дальше.
Официальная позиция была такая: мы сейчас отмоем идеал от сталинизма и вернемся к ленинским нормам жизни. Тогда под «ленинскими нормами жизни» понимали справедливость, равенство, братство и так далее — все, что мы читаем на лозунгах революции. Когда со временем стало проступать, что эти нормы жизни восстанавливаются не очень хорошо, потому что и КГБ уже показывал свои зубки, и новые сталинисты появились и так далее, после некоторого опьянения идеей возникла необходимость найти
Тогда, как ни удивительно, все смеялись: «Пушкин заменяет в России Христа». А это так и было. Потому что Пушкин вдруг предложил такую систему ценностей, которая не подвергается сомнениям (мы сейчас не берем Польшу). Но что касается наших отношений со старшими — я имею в виду не семью, а старшее поколение, — то к ним у нас очень быстро пропал пиетет, но надо было находить новое доверие. Это было очень трудно. На чем оно может воспитаться? У поляков наконец пессимизм преодолело их общественное движение. «Солидарность» фактически придала позитивный импульс тем негативным тенденциям, которые накопились за десятилетия. У нас этого не случилось.
В. Р.: Я хотел спросить про бытовую сторону. Вы очень здорово описали девушку, которая вышла на улицу, нарядившись в театральный костюм. Расскажите немного про то, как выглядела тогдашняя советская Польша, какой там был воздух.
Н. К.: Знаете, тот воздух мы первый раз почувствовали здесь, когда появилась Эдита Пьеха. Казалось бы, такая попса, но тем не менее в Ленинграде вдруг возник молодежный ансамбль, в котором девушка-полячка пела
Ребята-поляки во ВГИКе, например, танцевали рок-н-ролл так, как никто из нас не умел, потому что у них там уже танцевали, а мы могли это делать только вечером после одиннадцати, когда уходили старшие. Это смешно, но это так.
В. Р.: Как вы отреагировали на ввод войск в Чехословакию в 1968 году? Вы обсуждали это с польскими друзьями, например?
Н. К.: С поляками не обсуждали, потому что мы все понимали, что одинаково относимся к этому. Для нас это был совершенно страшный удар. Чехи оставались в рамках социалистического строительства, они провозгласили свободу в рамках социализма. И у нас была надежда, что чехи — авангард и это распространится дальше, чего больше всего боялись Брежнев, Хонеккер Эрих Хонеккер (1912–1994) — председатель Государственного совета ГДР в 1976–1989 годах и генеральный секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии. и другие лидеры соцстран.
Так получилось, что в августе 1968 года я поехал в отпуск в Ригу к бабушке и тетке. Утром я вышел на пляж и увидел, что никто не купается, весь пляж утыкан антеннами, все слушают радио — в Риге, где лучше ловился «Голос Америки» «Голос Америки» (англ. Voice of America) — правительственная радиостанция США, которая ведет вещание на зарубежные страны с 1942 года. Признана в РФ иностранным агентом., все покупали радиоприемники. И у всех буквально черные лица.
Конечно, для нас это был ужасный момент. Мы поняли, что все потеряно. Собственно, на этом кончилась оттепель. После Хрущева еще четыре года была инерция оттепели — и в 1968 году все оборвалось. Они еще не понимали, что этим Советский Союз приговорил себя и весь соцлагерь. И поляки ввели свои войска. Один раз мы разговаривали с поляками о том, что они тоже участвовали, и поляки сказали: они ввели в Чехословакию очень мало войск, боялись ввести слишком много, потому что могло перекинуться, войска могли перейти на сторону восставших. Но у меня был разговор с полячкой, которая брала у меня интервью уже во время перестройки. Я не помню ее фамилии. Она тоже спрашивала меня, как мы реагировали, и сказала, что это были «ваши войска». Я сказал: «Это, к сожалению, были и ваши войска тоже. Это были войска соцстран». — «Да, — говорит, — но наших войск там было мало». — «Я понимаю, и тем не менее это была совместная акция соцстран». И приговор для соцстран фактически был совместный.
Но смешно было бы обсуждать это с Анджеем Вайдой или Кшиштофом Занусси. Мы прекрасно знаем, что сказал бы Вайда; он прекрасно знает, что сказал бы я.
В. Р.: Я имел в виду немного другое. Таким образом СССР и прежде всего русские опять показали себя оккупантами. Не ударило ли это по вашим отношениям с поляками?
Н. К.: Это никогда не ударяло по личным отношениям. К чести наших друзей в соцстранах — неважно, Польша это, или Венгрия, или Германия, — в любой стране они прекрасно все понимали и не отождествляли вообще всех русских с правительством. Этого никогда не было. Один раз в Берлине у меня случился очень неприятный разговор с дамой, которая тридцать минут говорила о том, что русские делали в Берлине в 1945 году. Я сказал: «Хотите, чтобы я вам рассказал, что немцы делали в России? Хотите, я вам сейчас все расскажу?» Она сказала: «Нет, не хочу», — и ушла. Так вот я должен сказать, что с людьми, с которыми мы работали и дружили, мы никогда не выясняли, кто мы — оккупанты или нет. Они прекрасно понимали, что Россия тоже оккупирована.