Расшифровка Как русское искусство перестало быть провинциальным
Содержание второй лекции из курса Ильи Доронченкова «Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России»
Русскому человеку есть за что почитать объединение «Мир искусства» — за особое чувство истории, за изменение отношения к Петербургу: мы любим Петербург, потому что «Мир искусства» показал нам, какой это красивый город; за возрождение русского балета, потому что именно благодаря Дягилеву, одному из главных деятелей «Мира искусства», мы теперь можем гордиться этим творчеством; за то, что в произведениях «Мира искусства» Россия предстает перед нами как европейская страна, потому что историческая живопись предшествующих поколений показывала нам нашу родину как страну средневековую, Московию XVII века, да и русская архитектура этой поры была подобием русских теремов — храм Спаса на Крови или Верхние торговые ряды Сейчас — здание ГУМа. в Москве. Но в деятельности «Мира искусства» есть центральная проблема, которая связана со всеми остальными: это превращение русского искусства в искусство международное. Это медленное, но очень логичное избывание провинциальности. Как однажды хорошо написал Сергей Дягилев Александру Бенуа, «я хочу выхолить русскую живопись, вычистить ее и, главное, поднести ее Западу, возвеличить ее на Западе». Как нечасто бывает в истории нашей культуры, этот проект оправдался очень сильно благодаря прежде всего усилиям Дягилева в «Русских балетах». Но эта самая проблема превращения русского искусства из искусства провинциального в искусство, которое хотя бы частично задает тон всему миру, — это проблема центральная для нового поколения.
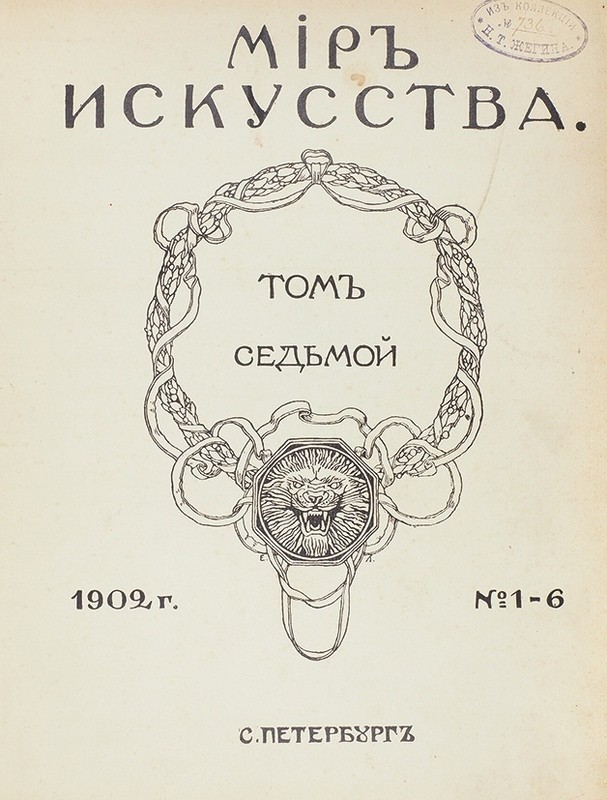
1890-е годы — это была пора, когда русский художественный мир начал открываться Западу. В Петербурге и Москве за десятилетие прошла дюжина выставок, которые показали русскому зрителю искусство Франции, Германии, Австро-Венгрии, Англии, Бельгии, Голландии, скандинавских стран. Это был период небывалой открытости и резко растущей осведомленности русского зрителя о том, что творится в европейских художественных столицах. С другой стороны, это было время, когда русский художественный мир переживал своего рода робость перед полноценным общением с мировым художественным процессом. Можно сказать, что 1890-е годы проходят под знаком латентного изоляционизма. Страна открывает очень широкий круг явлений литературы, театра, музыки и живописи, перед которыми традиционный русский художественный мир чувствует себя беззащитным. И это, естественно, вызывает настороженность и страх в самых разных общественных и политических слоях.
Если мы посмотрим на то, что русские властители дум 1890-х годов думали о современном художественном творчестве, которое для человека той поры в России почти что было синонимом западного искусства, мы вынуждены будем прийти к выводу, что эти люди ни в чем другом между собой никогда бы не согласились, но всех их объединяет крайне негативное отношение к современному художественному мышлению, идущему прежде всего из Франции. Лев Толстой, великий писатель и религиозный диссидент, в своей брошюре «Что такое искусство?» издевательски говорит о поэзии французского символизма. Владимир Стасов, либеральный националист, защитник «Могучей кучки» и передвижников, с отвращением пишет о современных художественных течениях Запада. Владимир Грингмут, рупор правых националистов и монархистов, отрицает импрессионизм. Николай Михайловский, идеолог русского крестьянского социализма, народничества, считает, что Россия слишком молода и энергична для того, чтобы импортировать французский символизм. Наконец, Георгий Плеханов, первый русский марксист, видит в импрессионизме, кубизме и других художественных течениях современного Запада воплощение идейного кризиса капитализма. Ни в чем другом эти люди не были бы солидарны, но они очень хорошо отражают ту настороженность, то недоумение и тот страх, который читающая и думающая часть русской нации испытывает перед вторжением непривычного, необычного, опасного современного западного искусства.
К этим четко сформулированным опасениям, к этому идеологическому отрицанию следует добавить еще некоторые обстоятельства. К концу XIX века четко сформулирован национальный культурный стереотип. Вот что Марк Антокольский, крупнейший русский скульптор, большую часть жизни проведший за границей, пишет:
«…надо всегда принимать во внимание разницу таких двух характеров, как русский и французский. Французы — народ старый, а мы — молодой; они — богаты, мы — бедны; они расчетливы, мы — беспечны; они вежливы, а мы добродушны; у них культурная дисциплина, у нас халатность… У французов не знаешь где кончается искренность и начинается вежливость; мы же всегда искренни и поэтому всегда бранимся. <…> В искусстве французы — эпикурейцы, а мы — пуритане: у них преобладает форма, а у нас — содержание; у них главное — кáк сделано, а у нас — чтó сделано».
Этот стереотип изначального противостояния русского чувства жизни, русского чувства искусства и французского чувства, это идеологическое отрицание новых художественных явлений находит продолжение и соответствие в реакциях различных участников художественной жизни.
Ну вот, например, после десятилетия художественных выставок, которым можно было бы позавидовать, поскольку, как бы то ни было, неполно или несовершенно, но они показывали искусство различных европейских стран, в одном из петербургских журналов появляется статья «Нужны ли нам в данную минуту иностранные выставки?», в которой автор пишет:
«Отчего от таких выставок веет
чем-то холодным? Почему нет в этих полотнах чувства народной души, народных воззрений, которые интересны во всякой национальности? Просто потому, что выставки эти устраиваются официальными лицами и учреждениями, а потому и носят характер сухой и холодной официальности».
И если автор статьи в этом отношении прав, то вывод, который он делает, заставляет насторожиться:
«Количество выставочных помещений в Петербурге очень ограниченно, и потому становится досадно, когда видишь их занятыми иностранцами в такое время, когда многие наши выставки не находят себе места и откладываются с года на год. Несмотря на весь интерес, представляемый чужими странами, еще интереснее знать свою родину и ее как большие, так и маленькие уголки, где бьется много отзывчивых сердец».
Действительно, в Петербурге конца XIX века было на удивление мало современных выставочных помещений, и иностранные выставки — большие, с сотнями картин, занимающие эти помещения на относительно долгое время, могли восприниматься русским художественным миром как ненужный и опасный конкурент.
В 1896 году Александр Николаевич Бенуа, еще очень молодой художественный критик, которому немецкие коллеги дали поручение сформировать русский отдел для Мюнхенской выставки, обратился к Михаилу Нестерову с тем, чтобы заполучить его в качестве участника. И Нестеров, по воспоминаниям Бенуа, дает поразительный ответ: «Там посмотрят на нас как на диковинку, а теперь только давай диковинки!!! Нет, я лучше пошлю свои вещи в Нижний [Новгород], мне интересней, чтоб меня знали мои же!» Бенуа говорит: «Да ведь Вас никто не понимает, не оценивает! Напротив того, я слышу смех и издевательство». Нестеров: «Эка беда, как будто бы успех в публике для художника — не срам скорее? Мне довольно, чтоб меня поняли три, четыре человека — а понять истинно и совершенно мои вещи может только русский…» Справедливости ради надо сказать, что на следующий год Нестеров послал в Мюнхен одну из своих лучших картин, поэтому его изоляционизм, ясно звучащий в словах в беседе с Бенуа, не был совершенен, не был абсолютен. Но если мы посмотрим, допустим, на позицию Виктора Васнецова, который, в общем, сознательно отрешается от всех западных влияний и обращается к России XVII столетия, то мы поймем, что изоляционизм для русского художественного мира этого времени — это достаточно острая проблема, которая иногда может иметь очень личные и резкие формулировки.
Григорий Мясоедов, один из отцов передвижничества, к этому моменту уже очень консервативного явления, пишет Владимиру Стасову в марте 1898 года. Он имеет в виду выставку, которую теперь по праву считают первой выставкой «Мира искусства», выставку русских и финляндских художников, организованную Сергеем Дягилевым, на которой был представлен широкий круг современных художественных течений двух национальных школ:
«Что за иностранная саранча налетела на тощую ниву русского искусства? Что это за патриоты, которые тащат к нам первобытных чухонцев, шведов и норвежцев, французов, англичан, поляков и испанцев? Наши коммерсанты-толстосумы, которые так горячо отстаивали покровительственные пошлины, оказываются первыми поощрителями и потребителями всего иностранного. Они оказываются выше того, что может дать русская школа, им надо декадентов, символистов, им по вкусу французский сифилис, англицкая грация, немецкая ходуля, финляндское безобразие — все что угодно, только не русская жизнь, очень она уж им противна, слишком она уж им напоминает тех меньших братии, которые туго набили их большие кошельки».
Это частное письмо, и ярость Мясоедова, уже очень пожилого человека, который чувствует, что молодежь ни в коем случае не хочет подчиняться ни его административной власти — а он возглавляет передвижничество в это время, — ни следовать его школе, в общем понятна. Но вот эти вот свидетельства настороженного или враждебного отношения к современному иностранному художеству, они пронизывают русскую художественную критику и русское художественное сознание 1890-х годов. Страна стоит на пороге небывалого в своей истории открытия очень широкого круга художественных явлений, непривычных и непонятных. И в этом отношении роль «Мира искусства» колоссальна. До «Мира искусства» русская художественная школа — одна из многих европейских школ, следующих своей традиции, решающая свои локальные задачи, участвующая в международных выставках. После «Мира искусства» русское искусство — это часть мощного интернационального современного движения.
«Мир искусства» сложился как кружок друзей и родственников, и этим он отличается от всех предшествующих русских художественных движений — от передвижничества, от абрамцевской колонии. Эти друзья и родственники представляли собой очень пеструю космополитическую русскую культурную среду, прежде всего среду Петербурга. И по происхождению, и по воспитанию эти люди впитали в себя культуру Европы, и для них Россия была частью Европы. Это не означало отказа от национального лица — более того, это обостряло проблему искусства как воплощения национального духа. Но решал ее «Мир искусства»
Надо сказать, что для самих мирискусников открытие современной западной живописи было довольно большой проблемой. Вот, например, Александр Бенуа пишет своему другу Константину Сомову из Парижа. Бенуа, который принадлежал к культурнейшей европейской петербургской семье, для которого Париж был родным домом; Бенуа, который видит впервые, очевидно, картины Гогена и Ван Гога. И вот что этот проницательный критик, один из лучших русских писателей об искусстве за все время существования нашей критической традиции, говорит:
«Вот приблизительный образчик Гогена: вода зеленая, песок желтый, небо красное, трава коричневая, гора лиловая, женщина желтая. Очень мило и весело. Я сначала подумал, что он хотел передать Таити с наивным пониманием туземца. Но нет, оказывается: он бретонскую деревню отражает с такой же примитивностью. Но, может быть, он желает передать бретонскую деревню с наивным пониманием бретонского мужика? Другой раз выставлял прославленный Ван Гог, молодой голландец. Он умеет рисовать, и даже довольно ловко, но картины и почти все этюды — шаржи, и неостроумные».
То, что молодой Александр Бенуа не увидел в произведениях Ван Гога экзистенциального трагизма и счел его художественный язык всего лишь шаржем, говорит о том, что, помимо самой физической возможности увидеть новое искусство (а это было довольно сложно для иностранца в Париже конца XIX века: надо было знать, куда идти), было совершенно необходимо быть готовым к тому, чтобы это искусство увидеть и воспринять.
Другой пример: молодой живописец Игорь Грабарь, по рождению — человек Европы, он происходил из православной славянской семьи, его отец был депутатом венгерского парламента, защитником православного меньшинства. Грабарь приехал в Россию ребенком, окончил университет и Академию художеств и был направлен в Мюнхен редакцией журнала «Нива». Результатом была абсолютно поворотная статья 1897 года «Упадок или возрождение». В ней Грабарь писал:
«Наше время — это дни не упадка, не мелких страстей мелких художников, это дни блестящего возрождения, дни надежд и упований… Теперь, когда мы дошли до времени такого возрождения, когда являются братья великих мастеров прошлого, теперь должно быть недалеко то время, когда явятся люди, которые сумеют уже сделать шаг вперед, двинуться дальше старых. Кто будут эти желанные люди, в каком направлении они сделают свой шаг вперед — этого сказать нельзя. Но мы имеем все данные для того, чтобы надеяться и ожидать».
То, что сейчас звучит как риторическая фигура, в 1897 году было бомбой. Напоминаю, что одно из центральных слов художественной и литературной критики этой поры было «декаданс», «упадок». Именно так и друзья, и враги нового искусства зачастую описывали его. В этом отношении Грабарь, говоря, как сейчас кажется, очевидные вещи, на самом деле создает манифест новой живописи. Но для того, чтобы сделать это утверждение, он должен был развернуть картину развития европейской живописи за минувшие 50 лет от Эжена Делакруа до импрессионистов и дальше. Это был очень трудный процесс, даже в Мюнхене, одной из столиц европейской новой живописи той поры, было трудно найти литературу, было трудно выстроить систему ориентиров и ценностей, иерархию для того, чтобы сделать этот оптимистический вывод. Грабарь, друживший тогда с Кандинским, Явленским и другими членами русской мюнхенской колонии, и воспринимал свою статью как манифест поколения. «Мы получали и читали „Новое время“, „Русские ведомости“, иногда „Новости“ — газеты разных направлений, — писал он. — Несмотря на разницу политических взглядов, все они были одинаково черносотенны в своих суждениях об искусстве. Мы просиживали целые вечера, обсуждая отдельные положения, составляя новые аргументы».
И роль «Мира искусства» как объединения, роль Александра Бенуа и Сергея Дягилева как раз и заключается в том, что эта группа научила русского человека видеть и понимать современную живопись, современную французскую живопись в частности или прежде всего. Очевидно, что это понимание опиралось на их собственные принципы, было недостаточным и вызывало полемику следующих поколений. Но именно после «Мира искусства», благодаря «Миру искусства» русский человек породнился с современным французским творческим процессом, породнился с импрессионистами и постимпрессионистами. Процесс это был сложный. Нужно было прежде всего знать, что видеть, где видеть, нужно было выработать систему оценок и сформировать практически заново язык, которым эту абсолютно непривычную для русского человека, как, впрочем, и для большинства европейцев, живопись можно было описать и предъявить через слово образованному посетителю выставок. Нужно было сделать так, чтобы русский зритель не просто понял западное искусство, но был готов к тому, что русское искусство воспользуется западным как продуктивной моделью. И здесь первостепенна заслуга Сергея Дягилева.
Можно сказать, что Сергей Дягилев довольно рано осознал свою стратегическую задачу. Это очищение русского искусства от провинциальности, это интеграция его в общеевропейский художественный процесс, это наделение русского искусства современным живописным языком. Он прекрасно понял, чтó является самой болезненной точкой художественных дискуссий, художественных проблем 1890-х годов, по поводу довольно мелкого события, мелкого, но показательного: пронесся слух, что с выставки русских акварелистов исключают западных участников, чтобы не создавать экономическую конкуренцию отечественным художникам. И по этому поводу в газетной статье Дягилев написал:
«…новое поколение приходит со своими требованиями, и оно пробьется и скажет свое слово. Ваш панический страх перед Западом, перед всем новым и талантливым есть начало нашего разногласия, ваш предсмертный вздох».
Обратите внимание, что «Запад» и «новое и талантливое» в этой фразе стоят через запятую — это две стороны одной медали. Таким образом, ядро нового поколения ассоциирует себя в русском контексте с Западом. И здесь надо отдавать себе отчет в стратегии Дягилева и в стратегии «Мира искусства». Успех этой стратегии заключается в ее двойственности. В сущности, уже сейчас Дягилев осознает «Мир искусства» как двуликого Януса. В русском контексте это искусство, эта группа позиционирует себя как ярко выраженных западников-космополитов, как участников мирового художественного процесса; и то, что «Мир искусства» занимается творчеством Русского Севера, то, что в его контекст входит Билибин, то, что «Мир искусства» связан с возрождением искусств и ремесел, не является в данном случае противоречием: это часть общеевропейского процесса возрождения этнических корней современного искусства. Но вот на западной почве — а «Мир искусства» с самого начала осознал и сформулировал свои западные амбиции, — на западной почве, в немецких, французских выставочных залах, мирискусники представляли себя как большое, подлинное русское национальное искусство. В России они были европейцами, в Европе они были русскими. Триумфом этой стратегии стали Русские сезоны Дягилева в Париже 1910-х годов.
Но пока, в середине 1890-х, Дягилев формулирует задачи и ищет способы их решения.
«Если Европа и нуждается в русском искусстве, то она нуждается в его молодости и его непосредственности. Этого не поняли наши художники. <…> Им ни разу не пришел в голову вопрос: можем ли мы вас научить тому, что вы еще не знаете? Можем ли мы сказать новое слово в европейском искусстве, или наша участь — лишь не отставать от вас? Но чтобы быть победителями на этом блестящем европейском турнире, нужны глубокая подготовка и самоуверенная смелость. Надо идти напролом, отвоевав себе место, надо сделаться не случайными, а постоянными участниками в ходе общечеловеческого искусства. Солидарность эта необходима. Она должна выражаться как в виде активного участия в жизни Европы, так и в виде привлечения к нам этого европейского искусства — без него нам не обойтись, это единственный залог прогресса и единственный отпор рутине, так давно уже сковывающей нашу живопись».
Так Дягилев писал по поводу русского участия на Берлинском и Мюнхенском сецессионах 1896 года. Так он, в сущности, обозначает направления нашего похода на Запад.
Поход этот, как ни странно, начинается благодаря Дягилеву через Скандинавию. В 1897 году Дягилев организует в Петербурге выставку скандинавских художественных школ — Швеции, Дании и Норвегии, которая, как мне кажется, была самым представительным показом искусства этих стран вплоть до громадной, очень хорошо подготовленной выставки, которая прошла в европейских и американских музеях в самом конце ХХ века, — она называлась «Северный свет» и была посвящена школам Северной Европы в конце XIX — начале ХХ века. Надо сказать, что уже здесь Дягилев проявил себя как человек очень большой интуиции и хорошей осведомленности о том, что творилось в современном западном художественном мире. Я скажу, что, пожалуй, в этот момент в России было три человека, которые относительно адекватно представляли себе современный западный художественный процесс: Дягилев, Бенуа и Грабарь. Дело в том, что за десятилетие, прошедшее до петербургской выставки 1897 года, скандинавские художественные школы пережили абсолютно беспрецедентный переворот. Из абсолютно периферийных, провинциальных, национальных явлений они превратились в участников европейского художественного процесса, и художники-скандинавы, такие как Андерс Цорн, Эрик Вереншёлль, Фриц Таулов и затем, конечно, Мунк, сказали европейцам нечто такое на понятном им современном языке о своем национальном и общечеловеческом, что в этот момент по

Через год Дягилев организует следующее событие, которое, как принято сейчас считать, было первым выступлением «Мира искусства» как группы. В залах относительно недавно открытого училища барона Штиглица, а это был самый эффектный выставочный зал Петербурга на тот момент, состоялась выставка русских и финляндских художников. Почему финляндских? Финляндия в этот момент — часть Российской империи, но часть Российской империи с очень широкой автономией и с четким западным культурным вектором. С другой стороны, финляндская школа переживает тот же самый процесс, что школа шведская, датская или норвежская. Это создание современного языка, это приобщение к общеевропейскому художественному процессу и одновременно выработка национальной изобразительной поэтики. Например, панно на сюжеты из «Калевалы» лидера финского национального романтизма Аксели Галлен-Калеллы, те причудливые произведения, которые вызывали бешенство реалистически настроенных русских критиков. Но не только эта сторона финского искусства конца XIX века волновала Дягилева. Можно с уверенностью сказать, что Финляндия, бывшая своего рода мостиком между коренной Россией и Западной Европой, была для Дягилева моделью переформатирования национальной школы. Вот что он пишет по следам открытия национальной художественной выставки в «Атенеуме» в Хельсинки:
«Нам можно бы поучиться у финнов их солидарности, их любви к своему национальному искусству. Несмотря на заметную разность, существующую между ними, несмотря на два самостоятельных течения финнов-народников (то есть реалистов в данном случае) и художников с направлением западно-аристократическим, они все же представляют один дух, пропитанный сознанием своей общей силы. И она есть в их искусстве, эта сила. Она заключается в их врожденной любви к своему суровому народному типу, в трогательном отношении к своей бескрасочной природе и, наконец, в восторженном культе финских сказаний. <…> …Что особенно подкупает в их вещах — это их огромное умение и оригинальность техники, стоящей вместе с тем вполне на высоте Запада. <…> Финляндская живопись не похожа на скандинавскую: у нее нет наивности Норвегии, деланой простоты Дании и европейского лоска Швеции. Она не похожа и на русскую живопись, но мне думается, что единение этих двух искусств могло бы привести к тем результатам, которых и мы, и они так желаем».
Эта выставка действительно была знаковым событием. Во-первых, она представляла почти на паритетных основаниях два народа и два вектора. С русской стороны в эту группу входили не только представители «Мира искусства» — Бенуа, Сомов, Добужинский и их соратники, — но и московские живописцы, которым было тесно на передвижнических выставках, — Серов, Левитан и другие. Дело в том, что передвижники, оставаясь лидерами национальной школы и контролируя в значительной степени художественную жизнь и художественное образование в этот момент, все больше коснели в своей традиции и стремились навязать молодому поколению свое представление о функции искусства и его художественном языке. И выставки «Мира искусства» неслучайно стали своего рода полем битвы между художественным истеблишментом и молодым энергичным поколением. Вот что Владимир Стасов, уже старый лев, над которым было принято посмеиваться, но тем не менее все еще самый влиятельный русский критик, написал о выставке русских и финских художников. На этой выставке, помимо действительно широкого спектра произведений финских мастеров и русских, были такие имена, которые очень трудно было еще увидеть в России: например, Дягилев смог достать для этой выставки панно Михаила Врубеля «Утро», не самую лучшую вещь этого художника, но надо напомнить, что Врубель, который представляет для нас сейчас основу русского искусства рубежа столетий, в это время был художником, что называется, хорошо известным в узких кругах, и появление панно «Утро» на дягилевской выставке — это колоссальная заслуга куратора, гвоздь экспозиции и скандал. Стасов:
«Он [Дягилев] пошел и с великим рвением и усердием наприглашал множество других новоявленных юродствующих художников, кого из русских, кого из финляндцев, все по декадентской части. Из последних особенно отличается… Галлен с безобразными по художеству страшилищами… Рисунки, письмо, колорит, композиция этого художника — чудовищны, хуже наихудших сочинений лубочных рисунков, но… сильно нравятся господину распорядителю, когда он выставил эти картины тоже на самом почетном месте залы, на другом ее конце, прямо против „Утра“ господина Врубеля. Странные вкусы, изумительные фантазии, назначенные помогать водворению и пропагандированию нового дикого искусства!»
Сейчас над этими оценками можно посмеяться, что, в общем, делали и современники. Но надо отдавать себе отчет в том, что конфликт между теми, кто ассоциировал с собой национальную художественную школу, и теми, кто пришел, чтобы сделать эту школу своей, был осознан, артикулирован и открыт.

В 1899 году мирискусникам и Дягилеву удалось организовать в Петербурге первую экспозицию и единственную экспозицию, которая, на мой взгляд, должна была стать моделью дальнейших выставок «Мира искусства». Она называлась Первая международная художественная выставка. Снова в залах музея Штиглица петербургскому зрителю были представлены несколько десятков русских и европейских художников, отражающих срез очень широкого диапазона современного искусства — от импрессионистов до реалистов, от стиля модерн до символизма. Там были французы, немцы, итальянцы, скандинавы, финны. Художники были показаны вперемежку — не было отдельной русской секции и других национальных. Таким образом, современное искусство представляло собой если не монолит, то единство многообразий, и русские художники оказывались участниками этого единства. Эта выставка на самом деле воспроизводила модель самой передовой художественной выставки Европы, которая к тому моменту стала образцом для экспозиции передового искусства.
В 1892 году в Мюнхене произошло важное событие. Мюнхен — одна из европейских художественных столиц — организовывал свою художественную жизнь по той модели, которая была отточена Парижем: большая, регулярная, ежегодная художественная выставка в огромном выставочном пространстве стеклянного дворца, которая включала сотни имен художников и тысячи произведений. На таких выставках выделялось, безусловно, ядро самых авторитетных и успешных художников, столпов национальной художественной школы, и то, что называлось тогда в немецкой критической литературе «художественный пролетариат»: десятки безымянных мастеров, от продажи на выставке зависело их будущее — и очень часто буквально. И вот из этого потока, где очень трудно разглядеть индивидуальность, выделилось несколько десятков художников, которые создали самостоятельную выставочную организацию, известную под названием Сецессион. То есть люди, отделившиеся от основной массы. Привычные к модели авангардистского развития, мы вправе ожидать, что это люди молодые, наглые, пропагандирующие некую неконвенциональную поэтику, новый художественный язык, который сам по себе способен вызвать ярость у представителей художественного истеблишмента и зрителей. На самом деле это не так.
Мюнхенский сецессион — это организация художников относительно молодых, но уже очень успешных, обладающих интернациональной репутацией и признанием на других мировых выставочных площадках, космополитически ориентированная, стремящаяся представить художников как профессиональную группу, обладающую такими же амбициями и правами, как, допустим, инженеры или врачи, и не забывающая о бизнес-составляющей искусства. Мюнхенский сецессион был первой организацией, которая наняла специального менеджера для управления финансами и организации практической стороны выставок. То есть это были молодые, успешные, космополитические профессионалы, которые не хотели тащить на себе груз традиции и той художественной массы, в которой они неизбежно терялись. Сецессион вовсе не был взрывателем условностей или истребителем традиций. Сецессион обладал очень хорошей способностью адаптироваться и дружить с властью. Уже на следующий год Мюнхенский сецессион получил участок для того, чтобы построить здание на одной из центральных улиц города, и это здание само по себе было моделью нового выставочного пространства. Дело в том, что выставки XIX века, как правило, были огромными пространствами, завешенными картинами с пола до потолка, впритык. Сецессионисты были одними из первых, кто обратил внимание на условия экспонирования: картины были развешены с большой дистанцией, что позволяло воспринимать каждую из них отдельно; стены могли тонироваться, чтобы создать гармоническую среду для произведения, выставки украшались цветами — в общем, эстетизировалась сама среда. И именно эту модель, самую передовую на тот момент, Дягилев переносит в Петербург. Собственно, «Мир искусства» и есть наш, русский, Сецессион. Другое дело, что «Мир искусства» постоянно сталкивался с финансовыми сложностями, и потому такая международная выставка осталась, в сущности, единственной. Все остальные выставки «Мира искусства», пока эта организация существовала, были национальными выставками.
С одной стороны, эта выставка была успехом 1899 года. С другой стороны, она спровоцировала значимый конфликт. Владимир Стасов ожидаемо прошелся по ней танком, но в этот раз, помимо обвинений в декадентстве и уродстве, он очень точно заметил несколько обстоятельств, которые маркируют пришествие нового искусства в инонациональную среду. Собственно говоря, эта выставка выявила конфликты, которые станут моделью во всех странах, Россия в данном случае не исключение, и эти конфликты, в общем, продолжаются по сей день. Мы можем спрогнозировать их развитие и даже вычленить риторику, которой будут пользоваться противники современного искусства в борьбе за свои ценности. Две болезненные точки, которые не укрылись от Стасова, были индивидуальный характер формирования экспозиции: Дягилев фактически выступил как первый в России куратор, этот индивидуализм вкуса Стасов как представитель передвижнических ценностей терпеть не мог. Выставка для него была высказыванием коллективным — Дягилев во главу угла положил собственный выбор.
Второе — это вопрос о рынке и ценах. В каталоге Первой международной художественной выставки значились цены на художественные произведения. Это, в общем, само по себе не исключение для экспозиций той поры, но дело в том, что целый ряд произведений с точки зрения русских критиков был вопиюще переоценены, и прежде всего это касалось произведений Эдгара Дега. На этой выставке было восемь картин Дега, восемь картин и пастелей, среди которых

И вот цены на картины Дега были для русского рынка совершенно астрономические. Одна из картин по каталогу была оценена в 40 тысяч рублей, и если это можно счесть странным исключением, то остальные цены — около 10 тысяч, чуть больше, чуть меньше, — все равно были
Именно они стали, в частности, источником конфликта между главой национальной школы Ильей Репиным и мирискусниками. Дягилев, в общем, стремился к тому, чтобы сохранить хорошие отношения и со Стасовым, и с Репиным. Репин хоть и одной картиной, но участвовал в этой экспозиции. Однако вскоре после нее он опубликовал в «Ниве» открытое письмо в редакцию «Мира искусства», которое «Мир искусства» перепечатал с ответом Сергея Дягилева, и это письмо, в сущности, было разрывом отношений между мэтром и молодежью. Одним из центральных пунктов этого письма был вопрос о рыночных отношениях в искусстве:
«Картинные торговцы теперь… всемогущие творцы славы художников — от них всецело зависит в Европе имя и благосостояние живописца. Художник, мало оцененный по своей незначительности, вещи которого за бесценок приобретены давно всемогущим ловким торговцем Дюран-Рюэлем, Дега, полуслепой художник, доживающий в бедности свою жизнь, — и вот теперь божок живописи».
Репин здесь демонстрирует нам один из стереотипов антимодернистского и критического дискурса этой поры, который можно описать как заговор маршанов, то есть заговор картинных торговцев. Те, кто выступает сейчас противником современного искусства, как бы не могут поверить в то, что эта живопись может нравиться, может покупаться, может продвигаться сама по себе. Они видят за ней руку не просто рынка, а заговор людей, которые в экономических интересах навязывают ее европейцам.
Репин, переходя от цен на искусство Дега к оскорбительным, с его точки зрения, замечаниям мирискусников о столпах русской национальной школы, например о Верещагине, формулирует очень серьезную претензию, которая затем будет продолжаться в отношении современной русской живописи вне зависимости от того, это живопись мирискусников или живопись русского авангарда:
«В ваших мудрствованиях об искусстве вы игнорируете русское, вы не признаете существование русской школы, вы не знаете ее, как чужаки России, вечно пережевываете вы европейскую жвачку, достаточно устаревшую там и мало кому интересную у нас».
Здесь речь идет не о том, что Репин проявляет себя как ретроград. В конечном счете его взгляды, давно сформировавшиеся, были достаточно пластичны, и Репин, в общем, предпочитал с молодежью дружить. Здесь дело в том, что через позицию Репина мы видим некий механизм, действующий в такие моменты, когда в устоявшуюся, консервативную национальную художественную традицию внедряется новое явление, внедряется новый художественный язык. Те, кто в свое время представлял художественную молодежь, радикальную, и мы помним симпатию Репина к импрессионистам, сейчас являются ядром художественного истеблишмента, который обвиняет молодежь в коммерческом интересе, шарлатанстве, а себя представляет защитником высокого и чистого национального искусства. Эта модель также будет воспроизводиться довольно долго.
«Мир искусства» — это выставочное объединение, но это одновременно и журнал, журнал, который сыграл колоссальную роль в знакомстве русского культурного общества с современным западным искусством. Мало того что журнал по структуре своей напоминал современные европейские художественные журналы, мало того что он включал литературный и художественный отделы, его диапазон охвата был чрезвычайно широк: и русское искусство, и русская икона, русская деревянная архитектура, русская крестьянская мебель занимали издателей «Мира искусства» не в меньшей степени, чем современные художественные западные явления. «Мир искусства» имел постоянную художественную хронику, в которой знакомил русского читателя с европейским художественным процессом. Эту хронику вело несколько человек. Повторяю, что в это время очень немногие из наших соотечественников имели адекватное представление о том, что творится в мире в художественном отношении, но важна была сама привычка, сама привычка образованного читателя, открывая журнал, знакомиться с тем, что творится в Мюнхене, Париже, Лондоне или Стокгольме. «Мир искусства» поначалу публиковал значительное число переводных статей, причем особенно немецких и австрийских авторов. Мне кажется, что в этом отношении он решал несколько задач, прежде всего компенсируя недостаток компетентных людей в собственной редакции, а с другой стороны — давая русскому читателю такое вот представление. Эти ведь статьи посвящены были в основном социальным проблемам современного искусства, их отношению с публикой, с художественными институциями, проблемам понимания нового художественного языка массой, точнее, образованным обществом, которое ходит на выставки. И здесь было важно показать: смотрите, то, что творится в нашей стране, вот это драматическое непонимание молодого искусства воспитанным на социально ангажированном передвижничестве слоем потребителей художеств — это ведь не только наша проблема, вот так она решается в Европе, и там она практически решена. Это такой своего рода оптимизм авансом, это стремление показать русскому читателю, что, во-первых, это проблемы общие, а во-вторых, они решаемы.
Но постепенно с помощью западных авторов «Мир искусства» начал транслировать изменения собственного вкуса. Люди, вокруг которых это объединение сформировалось, Александр Бенуа и Сергей Дягилев, обладали редким качеством — способностью к развитию. И если Бенуа поначалу очень настороженно воспринимает постимпрессионистов и говорит об импрессионистах в 1899 году как о художниках, которые способны вызвать интерес только у профессионалов, то уже через десятилетие он ставит Гогена рядом с Рафаэлем. Это очень редкое качество. Но что особенно важно — это способность признать истину искусства, которому ты сам не следуешь. Бенуа

Тем не менее именно благодаря журналу «Мир искусства» русский человек впервые смог увидеть, например, репродукцию Ван Гога или натюрморт Сезанна. Причем первое воспроизведение Сезанна — это даже не репродукция с его работы, это репродукции с картины Мориса Дени «Оммаж Сезанну», «Приношение Сезанну», где изображена группа художников «Наби» «Наби» (фр. Nabis от др.-евр. נביא — «пророк», «избранный») — группа художников и движение в постимпрессионизме, которое сформировалось во Франции в конце XIX века. В нее входили Морис Дени, Пьер Боннар и др., почтительно столпившихся вокруг натюрморта Сезанна, стоящего на подрамнике. «Мир искусства» был первым журналом в России, опубликовавшим репродукцию молодого Матисса. Я подозреваю, не была ли это вообще первая публикация репродукции Матисса в мире. Грабарь вспоминает, что в 1904 году он, посещая Европу, в частности, заинтересовался живописью Матисса, попросил у его галериста фотографию, фотографию пришлось специально делать, и сам художник был очень удивлен, что
В 1903 году, незадолго до того, как журнал прекратился из-за отсутствия финансирования, на страницах «Мира искусства» были опубликованы две довольно большие статьи немецкого художественного критика Юлиуса Мейера-Грефе. Юлиус Мейер-Грефе — это человек, благодаря которому немцы научились понимать и любить импрессионистов. Он смог выработать систему ценностей, понятную образованному немецкому человеку, настороженно относящемуся к импрессионизму. И вместе с тем Мейер-Грефе был одним из тех людей, кто превратил современную французскую живопись в достояние человечества. Они попытались доказать, что современная художественная школа становится полноценной тогда, когда она не подражает французскому искусству, а стремится воспроизвести модель этого искусства, а именно — когда любое революционное открытие современной живописи, будь то импрессионизм, живопись Сезанна или Ван Гога, глубоко коренится в художественных проблемах предшествующего развития, когда революция является результатом эволюции, когда традиция является основой новаторства. Эти банальные слова на самом деле описывают очень важную проблему. Мейер-Грефе вызывал ненависть немецких националистов, в частности потому, что он доказывал, что искусство, которое виделось воплощением немецкого национального духа, например живопись Бёклина, изображавшего резвящихся в волнах кентавров или загадочных рыцарей, путешествующих через кипарисовые рощи, это скорее литература, это скорее визуализация национальных фантомов и иллюзий, но не живопись. Живопись же — это то искусство, которое говорит о самом себе, которое репрезентирует реальность только ему свойственными способами. Живопись — это то искусство, где ты получаешь наслаждение не от сообщаемой информации и усваиваемых идей, а от того, что видят и чувствуют твои глаза. В одной из статей, опубликованных на страницах «Мира искусства», сказано: «Надо твердо установить, что Мане есть живопись, а Бёклин — нечто совсем другое». Еще ни один русский критик этой поры не мог себе позволить такого утверждения, которое предполагало, что импрессионизм — это и есть живопись, а то, к чему привыкли люди в разных углах Европы — повествовательный реализм, символизм, мистические и национальные мотивы, — это скорее не живопись, это нечто другое. И вот в этом отношении статьи, напечатанные под самый занавес «Мира искусства», знаменуют начинающийся в русском вкусе поворот. Французское искусство вытесняет теперь космополитическую художественную среду и становится единственным ориентиром для русской молодой живописи.


















