Как читать любимые книги по-новому
- 14 лекций
- 7 материалов
Лекции о книгах, которые многие любят с детства и знают почти наизусть, а также тесты на знание «Шерлока Холмса» и «Трех мушкетеров», определитель сестер Бронте и игра в признания


Лекции о книгах, которые многие любят с детства и знают почти наизусть, а также тесты на знание «Шерлока Холмса» и «Трех мушкетеров», определитель сестер Бронте и игра в признания
Роман Александра Дюма «Три мушкетера» вышел в свет в середине XIX века. Он, как и многие романы того времени, печатался кусками — то есть был предназначен для печатания в журнале. Чтобы увеличить подписку, владельцы журналов приглашали известных писателей публиковать в их изданиях отдельные куски своих романов. Это называлось «роман-фельетон», и их в XIX веке выходило очень много. Большая часть приключенческих романов XIX века вышла именно в таком формате.
Дюма хотел назвать свой роман «Атос, Портос, Арамис и д’Артаньян». Издатель прочитал первую треть и сказал: «Замечательно! Все прекрасно. Но только — невыносимое название. Ощущение, что
Я не буду пересказывать любовную интригу романа, потому что она хорошо известна. Я коснусь только другой интриги, исторической, которая тоже находится на первом месте в этом романе, хотя мы ее сейчас замечаем, может быть, меньше, чем это было свойственно современникам Дюма — потому что, конечно же, Дюма в первую очередь писал исторический роман.
Писать исторический роман в 1844 году — это все-таки занятие не такое, как сейчас. Было не очень много прецедентов. Самым популярным автором того времени был Вальтер Скотт: его исторические романы пользовались огромной читательской славой, переводились на все европейские языки, включая русский. И им чрезвычайно много подражали. Дюма, конечно же, тоже ориентировался на Вальтера Скотта.
Если вы откроете любой сайт, посвященный «Трем мушкетерам», вы увидите, что этот роман написан по следам так называемых «Мемуаров господина д’Артаньяна» — книги, которая вышла в 1700 году и принадлежала перу французского писателя-эмигранта, жившего долгое время в Голландии, по фамилии Куртиль де Сандра. Мы о нем мало что знаем, хотя Куртиль де Сандра опубликовал гигантское количество текстов и у него была авантюрная биография. В частности, он, как и «положено» французским писателям, в том числе конца XVII века, оказался в Бастилии. И, по его уверениям, в Бастилии встретил господина д’Артаньяна (или его родственника: версии немного расходятся). Он записал рассказы этого человека и потом, уже находясь в Голландии, литературно обработал и издал книгу.
Насколько это соответствует действительности, нам трудно сказать. Безусловно, исторический прототип существовал. Мушкетер по фамилии д’Артаньян — вполне реальный человек. Но, скорее всего, большая часть происшествий, которые мы видим в «Мемуарах господина д’Артаньяна», была все-таки придумана Куртилем де Сандра.
Когда Дюма искал новый сюжет для следующего романа, он обратился к своему соавтору Огюсту Маке, который был профессиональным историком и хотел быть писателем. Он много пытался писать — пьес, романов… Но литературного таланта у него, в общем, не было. И поэтому еще за несколько лет до того, как появился замысел «Трех мушкетеров», Дюма и Маке стали сотрудничать. Маке получал хорошие деньги, но имя его на обложке романов не появлялось. Потом из этого родится легенда, что у Дюма был целый дом литературных негров, которые только и делали, что писали за него, и все романы на самом деле написаны не Дюма. Это не вполне верно, и мы это знаем, потому что сохранились черновики Маке, которые действительно
Д’Артаньян — это как раз тот случай, когда маленький человек попадает в большую историю. Он соприкасается с теми людьми, которые делают историю в этот момент: это, естественно, Людовик XIII, который царствовал тогда во Франции, это его главный министр — кардинал де Ришельё, это герцог Бэкингемский, который приезжал в качестве посла во Францию, это царствующая королева Анна Австрийская — и так далее. В романе огромное количество подлинных персонажей и подлинных событий.
Главная жизненная задача д’Артаньяна — попасть в роту королевских мушкетеров, которой командует господин де Тревиль. Де Тревиль — лицо историческое, он был гасконцем, с юга Франции, и к нему действительно охотно ехали выходцы из этой французской провинции — для того чтобы попробовать получить место в войсках.
Параллельно с мушкетерами существуют их «враги»: это гвардейцы кардинала де Ришельё. Очень многое в романе построено на стычках между мушкетерами и гвардейцами. Мы это принимаем как должное. Но на самом деле здесь есть несколько загадок — или, во всяком случае, вещей не столь очевидных для современного читателя.
То, что у кардинала были гвардейцы, — аномалия. Это подлинный факт, но это было необычно для XVII века. Потому что наличие гвардии, как и наличие мушкетеров, — это один из атрибутов власти. Только король имеет право идти, окруженный военными, вооруженными людьми — в отличие от людей знатного происхождения, которых окружают дворяне и пажи, но не регулярное войско. А в случае гвардейцев кардинала это именно подобие некоторого личного войска, которое с каждым годом увеличивалось.
Насколько Людовик и Ришельё соперничали и все время сравнивали своих мушкетеров и своих гвардейцев, сказать трудно. Д’Артаньян хочет быть мушкетером, но ему предлагают быть гвардейцем кардинала. И он отказывается, хотя это грозит ему большими неприятностями. Потому что кардинал де Ришельё является действительно всемогущим министром. По мнению Дюма, ничто во Франции не происходит помимо воли Ришельё. Здесь мы подходим к той интриге, которая является центральной для романа — хотя она не лежит на поверхности. Главная с исторической точки зрения интрига, которую мы видим в романе, — это отношения короля и кардинала.
Каким образом распределяется власть во Франции XVII века? Каким образом управляется Франция? Для Дюма, который жил в эпоху революций и был свидетелем нескольких революций уже в XIX веке, это вопрос совершенно не пустой. То, как Дюма представляет двух своих главных исторических героев, Людовика XIII и кардинала де Ришельё, во многом потом определит наше восприятие этих двух исторических персонажей, потому что «Три мушкетера» будут безумно популярны и во Франции, и за пределами Франции. И до сих пор историки яростно сражаются против тех образов Людовика XIII и кардинала де Ришельё, которые выстроил Дюма. Я хочу, чтобы мы посмотрели, как это сделано. Потому что обычно мы смотрим на Дюма как на мастера интриги (и это вполне справедливо, он действительно замечательно умеет выстраивать сюжеты), но, помимо интриги, в его романе заключено гораздо больше. Там можно найти вещи, относящиеся и к представлениям о политике, и к представлениям об истории, и к представлениям о философии истории.
Для нас это не очень чувствительно, потому что история Франции XVII века — это все-таки очень далекое и не наше прошлое. А для современной политической культуры Франции это вещь очень существенная, потому что миф о Ришельё как о первом современном политике, о политике, создавшем Францию практически из ничего, очень силен. И он продолжает играть существенную политическую роль в современных дебатах о том, как должна развиваться страна.
Король и кардинал составляют пару. Король — безвольный, слабый, ничем не интересующийся, жадный. Не любит проигрывать. Когда выигрывает, он никогда не прерывает игру, а когда проигрывает, тут же заканчивает, забирает выигрыш и уходит. В первой сцене мы видим, что король играет в карты. Ришельё, напротив, неутомимый работник, он все время находится в движении, интригует, но параллельно с этим занимается большой политикой. И у нас складывается представление о короле как о марионетке, которой водит очень умный кукловод, в этой роли и выступает кардинал де Ришельё.
Король играет в карты, но одновременно он является «карточным королем». Это выражение было очень в ходу в XVII веке — и подлинный Людовик XIII, по свидетельству некоторых современников, иногда кричал: «Не делайте из меня карточного короля!» Есть и более поздние свидетельства, что его сын, Людовик XIV, тоже говорил, что он «никогда не будет карточным королем». Игра в карты — действительно частое времяпрепровождение при дворе и в светском обществе того времени и XIX века, здесь большой разницы нет. Через эту метафору Дюма нам сразу обозначает место Людовика XIII. Он «карточный король».
В отличие от короля, который появляется в шестой главе, то есть достаточно близко к началу, Ришельё мы долго не видим и сталкиваемся с ним, когда уже интрига полностью завязалась. Это не значит, что упоминания кардинала в романе нет, наоборот: с самого начала мы видим постоянное его присутствие. Везде его шпионы. Мушкетеры подсмеиваются над гвардейцами кардинала. Король говорит: «Только ни в коем случае не говорите кардиналу то, что я вам сказал!» И так далее. Он незримо присутствует, но реально мы его долго не видим. И это незримое присутствие, конечно же, производит гораздо большее впечатление, чем когда персонаж наконец появляется на сцене.
Здесь Дюма тоже не стопроцентно оригинален, потому что до того, как он взялся за «Трех мушкетеров» и стал думать об эпохе кардинала де Ришельё, на парижской сцене с большим скандалом (как это вообще было свойственно пьесам Виктора Гюго) была поставлена пьеса «Марион Делорм». Мы Виктора Гюго в основном помним как писателя, автора замечательных романов: «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», нескольких других. Но для современников Гюго в первую очередь был поэтом (он действительно очень много писал стихов) и драматургом. Его пьесы шли на французской сцене широко, и практически каждая постановка вызывала большой скандал.
В 1831 году была показана пьеса Виктора Гюго «Марион Делорм». Сюжет ее тоже отсылал к XVII веку, к эпохе кардинала де Ришельё. В частности, центральной была проблема чести и проблема дуэли. Тема действительно чрезвычайно чувствительная для XVII века. Кардинал де Ришельё, как и Людовик XIII, был яростным противником дуэлей. Во время его правления была принята масса эдиктов Эдикт — королевский указ. против дуэлей. Это, в общем, никого не смущало, потому что при царствовании королей династии Валуа этих эдиктов было еще больше. Но при Ришельё — и тут большая разница — эти эдикты начали выполняться.
Пьеса «Марион Делорм» как раз посвящена этой проблеме — и в конце главного героя казнят. Кардинал не появляется на сцене, притом что о нем все время говорят. Гюго очень хорошо понимал специфику сцены. Когда непрерывно идет разговор о Ришельё, но его никто не видит, это производит гораздо большее впечатление, чем самая замечательная игра актера. И только в последнем действии, когда героя уводили на казнь, появлялся кортеж Ришельё, к которому бросалась героиня, умоляя о прощении, и зрители слышали голос Ришельё: «Милости не будет». И героиня, которая в этой ситуации просто приходила в состояние полупомешательства, кричала вслед кортежу Ришельё: «Смотрите, вот идет Красный человек!»
Дюма, безусловно, преклонялся перед талантом Гюго и дружил с ним. Эта дружба была важна для Дюма на протяжении всей его жизни. Некоторые исследователи даже пытаются найти
Что действительно бесспорно и что нашли исследователи — миледи, роковая женщина и одна из главных темных гениев этой книги, вокруг которой крутится масса интриг, живет по адресу, который на самом деле принадлежал Гюго. Это указано в тексте книги достаточно откровенно — особенно учитывая, что в XVII веке не было нумерации домов. А Дюма указывает улицу и номер дома, где жил Гюго (и где сейчас в Париже находится его музей).
В отличие от Гюго, который мог не показать кардинала де Ришельё в пьесе, потому что это было сценическое произведение, Дюма не мог избежать ситуации, когда Ришельё все-таки выйдет на сцену и будет виден читателям. И для него, конечно же, было очень важно представить своего персонажа в
Это происходит, когда треть романа уже прошла, господин Бонасье попадает в руки гвардейцев кардинала, его арестовывают, и он попадает на допрос неизвестно к кому. Мы заходим вместе с Бонасье (малоприятный персонаж) в кабинет — и, как пишет Дюма, видим:
«У камина стоял человек среднего роста. Гордый, надменный, с пронзительным взглядом и широким лбом. Худощавое лицо еще больше удлиняла остроконечная бородка, над которой закручивались усы. Этому человеку было едва ли более 36–37 лет, но в волосах и в бородке уже мелькала седина. Хотя при нем не было шпаги, все же он походил на военного, а легкая пыль на его сапогах указывала, что он в этот день ездил верхом».
Если бы этот роман писал Вальтер Скотт, он бы на этом остановился и мы бы узнали, что речь идет о великом кардинале, только в конце романа, когда интрига закончится. Как происходит в «Айвенго» с Ричардом Львиное Сердце. Но Дюма пишет другой роман, и поэтому после описания, по которому очень трудно узнать кардинала (хотя некоторое подозрение о том, что это Ришельё, у нас появляется) идет следующий абзац:
«Человек этот был Арман-Жан дю Плесси, кардинал де Ришельё, не такой, каким принято у нас изображать его, то есть не согбенный старец, страдающий от тяжкой болезни, расслабленный, с угасшим голосом, погруженный в глубокое кресло, словно в преждевременную могилу, живущий только силой своего ума и поддерживающий борьбу с Европой одним напряжением мысли, а такой, каким он действительно был в те годы: ловкий и любезный кавалер, уже и тогда слабый телом, но поддерживаемый неукротимой силой духа, сделавшего из него одного из самых замечательных людей своего времени. Оказав поддержку герцогу Невэрскому в его мантуанских владениях… он готовился изгнать англичан с острова Рэ и приступить к осаде Ла-Рошели.
Ничто, таким образом, на первый взгляд не изобличало в нем кардинала, и человеку, не знавшему его в лицо, невозможно было догадаться, кто стоит перед ним».
После чего следует комическая сцена, когда Бонасье действительно не понимает, кто перед ним, и все время пытается подстроиться под вопросы, которые задает ему кардинал, пока наконец один из офицеров кардинала не заходит и не говорит: «Ваше преосвященство!» — и тогда Бонасье практически падает в обморок, потому что он понимает, что находится в одной комнате с самым главным человеком Франции.
При этом портрет Ришельё построен очень любопытным образом: нам сначала дается описание черт, которые мы вроде бы можем узнать, а можем и не узнать. А дальше Дюма говорит, что это был кардинал де Ришельё, но вы его никогда не узнаете. Потому что у нас принято его изображать
Это, конечно, литературная полемика — полемика с тоже очень известным писателем, Альфредом де Виньи, который в 1826 году опубликовал роман, посвященный последнему году жизни Ришельё, он называется «Сен-Мар». Сен-Мар — один из последних фаворитов Людовика XIII, который был казнен кардиналом де Ришельё — или, во всяком случае, так считали историки на протяжении довольно долгого времени. Нынешние историки говорят, что скорее все-таки Людовик XIII сам отдал распоряжение о казни Сен-Мара.
Дюма здесь притягивает две вещи, которые находятся на разных частях хронологического спектра: он сравнивает Ришельё, каким тот был в 1626 году, с героем романа Альфреда де Виньи «Сен-Мар», то есть с 1642 годом.
Очевидно, мы попадаем в поле литературной полемики. Но эта полемика носит не только чисто художественный характер, она связана еще и с восприятием того, кем был кардинал де Ришельё для Франции. Потому что для Альфреда де Виньи это абсолютно, стопроцентно кровопийца. Дюма выстраивает свой образ великого кардинала, отталкиваясь от того изображения, которое было в романе Альфреда де Виньи. Отталкиваясь не только в художественном смысле, но и в смысле политическом. Ему очень важно показать кардинала как активного, бодрого и чрезвычайно подвижного политика. У Дюма кардинал почти все время находится в движении. Он едет, он пробирается, крадется… Его встречают, на него наталкиваются — и так далее. Странность состоит в том, что в большей части случаев, когда Ришельё встречают неожиданно, его не узнают.
Ришельё, как мы помним, является не только министром, он является принцем Церкви — а значит, должен быть одет соответствующим образом. Но когда мы смотрим на появление Ришельё под Ла-Рошелью или когда д’Артаньяна вызывают в кабинет Ришельё и он входит (он знает, что его ждет кардинал) — он видит человека, который сидит за столом и пишет. И он думает: «Это, наверное, либо секретарь, либо поэт». И только когда Ришельё поднимает голову, он понимает, что это действительно кардинал. Тот явным образом не одет в красное, потому что иначе у д’Артаньяна не могло быть никаких сомнений в том, кто перед ним.
Дюма абсолютно осознанно убирает это из текста книги. Притом что Ришельё везде называется кардиналом, к нему обращаются «ваше высокопреосвященство» — все равно Дюма описывает его как светского человека. И это связано не с реалиями XVII века, а с тем, что происходило во Франции середины XIX века. С выяснением отношений между духовной властью и светской, с вопросом, который был актуален и в XVII веке: насколько духовные власти должны быть подчинены папе римскому, а не французскому королю. В Англии британский король стал главой Церкви, но некоторое движение в эту сторону было и во Франции. Франция тоже хотела не то чтобы совсем освободиться от ватиканского престола, но добиться большей независимости. И эта борьба за независимость происходила достаточно долго.
Когда Дюма убирает красный плащ Ришельё и нигде его не упоминает, он делает некоторое политическое заявление: он отказывается рассматривать политику и управление государством как зону, в которой могут сотрудничать Церковь и государство. Зона политики — это исключительно зона светская, и вопросы духовные здесь неуместны.
Не случайно во всех экранизациях и во всех иллюстрациях к «Трем мушкетерам» Ришельё появляется в красном: популярная культура
Каким Ришельё был на самом деле, каким был Людовик XIII? Как я говорила, это пара. Это два персонажа, которых невозможно (и до сих пор не получается) разделить. Если мы решаем, что Людовик XIII слабоволен, значит, мы говорим, что Ришельё всесилен. Если, как современные историки показывают, Людовик XIII был далеко не слабовольным, а, наоборот, чрезвычайно решительным королем, очень воинственным и в основном решавшим все самостоятельно, тогда фигура Ришельё радикально меняется.
Проблема состоит в том, что о Ришельё так много написано, что мы уже не можем отличить правду от легенды. Настоящий Ришельё, конечно, был чрезвычайно умным политиком, тонким человеком. Он не был таким бодрячком, каким его изображает Дюма, тут Альфред де Виньи был намного более прав, потому что Ришельё страдал множеством недугов и не очень мог участвовать в военных кампаниях, хотя ему приходилось это делать. Его действительно в последние годы жизни носили на носилках, потому что он не переносил тряски: у него были дикие боли. То есть это персонаж, конечно же, гораздо более сложный, чем тот, которого представляет Дюма. И персонаж, психологию которого мы до сих пор очень мало понимаем, потому что сохранившиеся документы о Ришельё — это в основном дипломатическая переписка, там очень мало личного. А когда там есть личное, то для нас отдельный вопрос — зачем там дается личная информация? Скорее всего, для того, чтобы манипулировать своим корреспондентом. Ришельё был на это абсолютно способен.
Что касается его кровавой репутации, то, будучи принцем Церкви, Ришельё не имел права подписывать никакие указы о казнях. Все казни, конечно же, находятся на совести Людовика XIII, и современники это понимали. Будучи частью Римско-католической церкви (неважно, кардиналом — не кардиналом), Ришельё не мог быть причастен к кровопролитию. Иногда Людовик XIII оставлял на него командование армией и он участвовал в качестве полководца в некоторых сражениях, но сам никого не убивал. Были стратегические решения, которые он принимал. Вообще, жизнь Ришельё намного больше регулировалась требованиями Церкви, чем нам кажется сейчас, из XXI века, — не в последнюю очередь потому, что он был человеком искренне верующим и искренне преданным Церкви. Хотя тоже был скорее сторонником примата государства над Церковью, но в ослабленной форме.
Одна из главных сложностей состоит в том, что Ришельё очень трудно описать как одну личность. В силу широты его деятельности, непредсказуемости решений и нашего непонимания, кто реально принимал решения (король, кардинал, королевский совет,
Дюма поступает чрезвычайно любопытно, потому что он отсекает очень важную половину деятельности Ришельё, связанную с Церковью, — тогда ему проще собрать другие качества, которые не всегда подлинны, которые он отчасти приписывает Ришельё, но, по крайней мере, получается характер. Когда историки пытаются написать биографию Ришельё, самая очевидная проблема — это то, что Ришельё получается человеком без свойств, там нет характера.
Я не помню, когда прочитала в первый раз «Три мушкетера», — это было в середине 70-х годов прошлого века, после того, как по телевизору показали французский фильм «Три мушкетера». Я пыталась найти, какой из фильмов «Три мушкетера» это был. Этот сюжет экранизировался чрезвычайно много. То ли это был фильм 1963 года, то ли 1974 года, не могу вам сказать. Но я помню, что этот фильм произвел на людей моего возраста, семи-восьми лет, совершенно оглушительное впечатление.
Во-первых, мы стали читать Дюма, а во-вторых, мы стали, конечно, играть в мушкетеров. Помню, что фильм был показан летом, и после этого во всех дворах все дрались на шпагах, неважно — мальчики, девочки. Это был один из главных сюжетов, которые потом начинали обыгрываться, продолжаться… Велись дикие споры, кто кем должен быть: все хотят быть Атосом, никто не хочет быть Портосом.
Это увлечение «Тремя мушкетерами» я видела не только в своем поколении, но еще у пары поколений до меня и пары поколений после меня. Более того, именно когда впервые показали по телевидению этот французский фильм, я впервые столкнулась с тем, что сейчас называется «фан-фикшн». Тогда этого названия не было, но мои знакомые девочки постарше начали писать продолжение. Необходимость создания «Двадцати лет спустя», а потом «Десяти лет спустя», видимо, была органической.
Когда Дюма берется за «Двадцать лет спустя», которые он исторически готовит, наверное, лучше, чем «Трех мушкетеров», там гораздо больше исторического фона, точных исторических деталей, он тщательно прорабатывает мемуары, там очень много интересных портретов — но сам по себе этот роман, конечно, менее радостный и менее интригующий, чем «Три мушкетера». А «Десять лет спустя» представляет уже совсем другую эпоху. Но сам импульс к тому, что сейчас называется «сотворением мира», художественного мира, конечно, в этих романах-журналах сильно ощущается. И не случайно, что он передается не только автору, но и читателям.
Понятно, что сейчас «Три мушкетера» — это не тот роман, к которому будут писать продолжение, есть масса других текстов. Тем не менее надо понимать, что фанфики во многом начинались в России именно с «Трех мушкетеров» и с вопросов о том, кто должен быть главным героем, какие там должны быть любовные отношения. Никто никогда не любил госпожу де Бонасье, потому что она скучная, — миледи намного интереснее.
Не случайно, что и сейчас этот сюжет больше становится известен по фильмам, чем по роману. Хотя роман я горячо рекомендую: он хорошо написан, в нем много интересных вещей, которые невозможно передать на экране.
Сегодня мы поговорим о романе знаменитого шотландского писателя Вальтера Скотта «Айвенго», или, как в XIX веке транслитерировали это имя, «Ивангое». Вальтер Скотт вырос в Шотландии и был прекрасным знатоком шотландской истории и фольклора. Он задумал написать исторический роман из шотландской истории. Скотт над ним работал не так долго и выпустил анонимно: боялся, что он не будет иметь успеха, и, чтобы свое имя
Что это за модель? Мы сначала поговорим о ней, а потом посмотрим, как она была использована в «Айвенго». «Айвенго» — это первый роман Вальтера Скотта не на шотландском материале. До этого Скотт писал каждый год по роману, а то и по два, но все они были про его родную Шотландию. (Кстати, фамилия писателя — Скотт — это и есть «шотландец».)
Шотландия к началу XIX века, когда Вальтер Скотт принялся за сочинение исторических шотландских романов, была покоренной, завоеванной страной, которая уже 100 лет как входила в состав Соединенного Королевства. У Шотландии и Англии, двух стран-соседок, была длинная-длинная история распрей, войн, конфликтов, которая закончилась их воссоединением, или, вернее, присоединением Шотландии. Поэтому Вальтер Скотт выбрал в качестве основного исторического сюжета своих первых романов те эпохи, когда обострялся конфликт между шотландцами и англичанами. Когда существовала
Из этого местного конфликта Вальтер Скотт вывел один из принципов построения своих исторических романов. Согласно ему, исторический роман должен описывать некий конфликт — двух партий, двух религий, двух стран, но обязательно конфликт должен быть, потому что это переходная эпоха, в которой решается будущее. Вальтер Скотт показывает те исторические силы, которые сталкиваются в определенный исторический момент, и то, что из этого получается.
В случае с историческим романом мы всегда знаем, чем всё закончилось, значит, кроме базового конфликта, исход которого нам известен, там должно происходить
Об этом времени мы знаем довольно мало, и Вальтер Скотт знал об этом времени значительно меньше, чем он знал про шотландскую историю. Но он и не считал своей обязанностью особенно вдаваться в исторические подробности. В письме или в одной из статей он писал, что только дурак может изучать историю по его романам, потому что это не цель романа, не цель художественной литературы. С другой стороны, через роман можно почувствовать дух истории. И вот когда он выбрал этот самый XII век, Средневековье, то он не стремился к полному правдоподобию. И в романе — и Скотт сам это признавал — довольно много анахронизмов. Это его совершенно не беспокоило, он не собирался их исправлять.
Например, действие романа начинается, когда король Ричард Львиное Сердце вернулся в Англию из плена. Он воевал в Палестине, на Святой земле, он участник Третьего крестового похода, потом, возвращаясь, попал в плен, потом был снова в плену и только в 1194 году вернулся в Англию. Так что мы можем сказать, что действие «Айвенго» происходит — начинается, во всяком случае, — в 1194 году.
В самом начале романа сэр Седрик, отец Айвенго, старый английский барон, в разговоре говорит: «Клянусь бромхольским крестом!» Вряд ли
В каждом историческом романе Вальтера Скотта есть реальное историческое лицо. Их довольно мало, но тем не менее в каждом романе появляется
В шотландских романах конфликт — это конфликт между Англией и Шотландией. Внутри Шотландии — между религиозными конфессиями, протестантами и католиками. Есть политический конфликт — сторонники одного короля против сторонников другого короля. В «Айвенго» нет острого политического конфликта — нет войны, кроме
И здесь мы имеем дело с двумя историческими персонажами — королем Ричардом и его братом Джоном, который, не зная о судьбе своего брата, интригует, с тем чтобы захватить престол. Брат давным-давно исчез, и известно, что он в плену, — но непонятно, что будет дальше. Они оба принадлежат к норманнской династии, они не англосаксы. Но здесь Вальтер Скотт делает допущение. Он делает короля Ричарда Львиное Сердце, возвратившегося в Англию, сторонником англосакских патриотов, который всячески печется об их благополучии. Он как бы разрывает со своим традиционным окружением и переходит на противоположную сторону. А король Джон выражает интересы вот этих самых норманнских титулованных феодалов, аристократов, которые, собственно, и правят в завоеванной Англии. Этот конфликт — конфликт двух наций, и он одновременно, как мы бы сказали сейчас, классовый, потому что верхние места в иерархии государства занимают выходцы из Нормандии, потомки норманнов, а, соответственно, низшие слои — это в основном местные англосаксы.
Хотя опять-таки давайте посмотрим на главного героя. Главный герой у нас Айвенго — он по своему происхождению англосакс. Его отец Седрик — большой патриот старой Англии, он ненавидит все французское, все норманнское и не желает даже говорить на норманнском, или старофранцузском, языке. Его сын Айвенго становится рыцарем, приближенным короля Ричарда и вместе с ним отправляется в заморские края, в Крестовый поход. Отцу это не нравится — отец считает его предателем своего, можно сказать, англосаксонского дела. Но тем не менее Айвенго хотя и рыцарь уже французского, норманнского склада, не забывает свои корни, свою родину, свою семью. Поэтому он тоже, как Уэверли, колеблется: он свой и в своем, и в чужом лагере. И там у него есть друзья, и он знает кодекс рыцаря, он прекрасный воин, он сражается: прекраснейшая сцена романа «Айвенго» и фильмов, которые по нему поставлены (есть не один фильм), — это турнир, где Айвенго героически сражается, всех побеждает, но побеждает он как норманнский рыцарь, а не как
Вальтер Скотт знает, так же как в случае с шотландцами и англичанами: будущее принадлежит не англосаксам — будущее принадлежит победителям. Историю пишут победители. Победители — это норманны, и, в конце концов, они пришли на Британские острова с более высокой культурой, с более развитой цивилизацией. В Англии среди англосаксов тогда существовало рабство, и, опять-таки, в начале «Айвенго», если мы почитаем внимательно, мы увидим, что очень симпатичные персонажи, тоже патриоты, носят ошейник, как собаки: они рабы Седрика, отца Айвенго.
У норманнов уже существовала развитая феодальная культура со всеми куртуазными делами, культом Прекрасной Дамы, турнирами, более совершенным вооружением, конечно. Кроме того, они притащили довольно много умений и вещей с Востока, из Крестовых походов. В начале романа «Айвенго» Вальтером Скоттом изображена кавалькада — это приехал в Англию отрицательный персонаж романа, нехороший человек из ордена тамплиеров, Буагильбер. Он привез с Востока множество интересных редких вещей — одежды, ткани, драгоценности, у него в свите арабские мавры с
Мы можем сказать так: всякий вальтер-скоттовский роман, и «Айвенго» прекрасный тому пример, имеет два основных сюжета и несколько побочных. Первый основной сюжет — это, как я уже сказал, исторический, в котором участвуют и исторические лица, и вымышленные персонажи. Второй сюжет — любовно-авантюрный. И у того и у другого сюжета высокая степень предсказуемости. Почему мы можем догадаться? В случае с историческим сюжетом — мы знаем, чем дело кончилось, а любовный сюжет более или менее мы понимаем, как будто смотрим голливудский фильм: мы знаем, что там есть определенные правила, которые редко нарушаются. Допустим, собаку нельзя убивать. В течение фильма герой убивает 150 человек — это нормально. Но собаку трогать нельзя! Так же в любовном романе, в классическом, XVIII–XIX веков: герой и героиня должны соединиться, все дело кончится церковью. У алтаря. Герой и героиня преодолеют все препятствия и благополучно соединятся. Бывают, конечно, трагические варианты, и у Вальтера Скотта в некоторых романах есть трагические концовки. Но «Айвенго» — это не тот случай.
Для того чтобы любовный сюжет был интересен, должны быть препятствия, которые герой и героиня будут преодолевать. И в «Айвенго» таких препятствий очень много. Отец, как я уже говорил, недоволен своим сыном. Он хочет выдать свою воспитанницу Ровену, прелестную девушку, за другого. Почему? Этот другой, его зовут Ательстан, — потомок англосаксонских королей. И хотя он уже, так сказать, впал в ленивое безразличие ко всему, он уже герой скорее комический, он ничего не хочет делать, он не хочет воевать, он абсолютно пассивен, но тем не менее, поскольку в нем течет королевская кровь, Седрик, воодушевленный своими патриотическими чувствами, хочет свою воспитанницу выдать именно за него.
Ровена остается верна Айвенго, несмотря на давление всех окружающих. Препятствием являются и злоключения самого Айвенго. Его тяжело ранят на рыцарском турнире. И в это время у прекрасной Ровены появляется соперница. И соперница эта — еще более, или во всяком случае не менее, прекрасная еврейка Ревекка. У нас есть герой, которого любят две женщины, женщины разные, и они противопоставлены с самого начала по правилам романтической литературы. Причем в романтической литературе часто бывает так, что за героя борются две женщины. Обычно они противоположные по типу: одна — блондинка, другая — брюнетка, одна — кроткая ангелица, а другая — страстная, активная женщина.
У Вальтера Скотта такая ситуация в нескольких романах. По правилам романтической литературы выбрать надо было, конечно, блондинку, хотя интереснее и привлекательнее брюнетка. Она не такая пресная и унылая, как вот эта благородная девственница-блондинка. Здесь активной является еврейка Ревекка: она прекрасная целительница, она знает медицинские секреты, она очень добродетельна и выхаживает тяжело раненного Айвенго. То есть она проводит больше времени с героем, чем его невеста.
Невеста
Поэтому тот выбор, который делает Айвенго в конце романа, хотя и предсказуемый, не всем читателям понравился. Многие читатели предпочли бы увидеть союз Айвенго, идеального героя, с брюнеткой, с более привлекательной женщиной.
Для того чтобы любовный сюжет был интересен, нужен еще и противник, антагонист, соперник. У Вальтера Скотта почти во всех романах герою, более или менее бледному и бесцветному, противостоит очень яркий демонический злодей, который вожделеет к тем самым женщинам, на которых обращает внимание герой. Здесь, в «Айвенго», опять-таки очень яркий злодей — рыцарь из ордена тамплиеров, воевавший в Палестине, вернувшийся в Англию и, так сказать, вожделеющий: сначала ему нравится Ровена, а потом он абсолютно без ума от Ревекки, прекрасной еврейки, которой он хочет овладеть. Только чудом она спасается — опять-таки с помощью Айвенго — от его преследований.
Во-первых, у Вальтера Скотта очень часто в романах присутствует некая комическая линия. В «Айвенго» есть шут Вамба, который постоянно развлекает и своего хозяина, и всех других присутствующих острыми шутками. Не всегда понятными в переводе, надо сказать, но
Во-вторых, у Вальтера Скотта очень часто в романах, особенно из давней истории, появляются сюжеты, подсюжеты, мотивы, персонажи, заимствованные из фольклора. И здесь, конечно, для такой фольклорной окраски в «Айвенго» он вводит образ Робин Гуда — прославленного разбойника. Я думаю, все о нем слышали. Здесь он фигурирует под историческим именем Локсли. Робин Гуд принимает активное участие в действии как помощник главного героя — как, знаете, бывает в сказках. Здесь он помощник Айвенго и второго положительного героя — короля Ричарда Львиное Сердце. То есть имеется некий союз, исторически, видимо, невозможный, — союз Робин Гуда, англосаксонского разбойника, и норманнского короля. Он знаменует будущее Англии, где французская знать и английское свободолюбивое народное движение сольются воедино.
Третье — это фантастическая, сказочная, мифологическая составляющая. Вальтер Скотт часто вводит в свои романы из средневековой истории колдунов, ведьм, колдуний. На самом деле это, скорее всего, люди, просто обладающие
Мы получаем, конечно, рациональное объяснение всем чудесам, которые с ней связываются, всем верованиям, но это только постфактум. В процессе развития сюжета мы действительно не знаем, это настоящая фантастика, настоящее вторжение сверхъестественного в реальное или нет. Сам Вальтер Скотт это объяснял так: люди Средневековья верили в колдунов, в ведьм, в чудеса, и поэтому, изображая то время, он не мог это оставить без внимания.
Если брать всю структуру романа «Айвенго», то можно вспомнить слова чудного аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса о том, что вообще вся мировая литература рассказывает всего четыре истории и четыре сюжета. Первый — о крепости, которую штурмуют и обороняют герои (образец «Илиада»); о возвращении героя домой после долгих скитаний (это «Одиссея»); о поиске и наконец, о смерти и воскрешении Бога.
Три из этих историй, подсвеченные старинными прототипами, играют в сюжете, в структуре «Айвенго» важную роль. Как и в «Илиаде», пестрое войско саксов во главе с норманнским королем Ричардом штурмует хорошо укрепленный замок Фрон де Бёфа, который потом загорается, чтобы вызволить похищенную норманнским рыцарем прекрасную Ровену. В самом начале Айвенго неузнанным возвращается домой в облике паломника — тоже совершенно неправдоподобная история: никто его не узнал, в отличие от «Одиссеи» — там хотя бы свинопас, старый слуга узнал своего хозяина. Айвенго возвращается неузнанным, преодолевает препятствия и соединяется со своей Ровеной — все это классические сюжеты.
А вот четвертая история, то есть сакральная история воскрешения Бога, или Сына Божьего, у Вальтера Скотта пародируется. Потому что погибает, а потом неожиданно воскресает в романе отнюдь не Бог, а комический персонаж — самый ленивый, спившийся потомок саксонских королей Ательстан, прозванный Неповоротливым. Вальтер Скотт был человек с хорошим чувством юмора; он сказал, что
Превращение борхесовского сакрального сюжета в такой фарс довольно симптоматично. Потому что, хотя Вальтер Скотт описывает Средние века, средневековую культуру и средневековое общество, он не очень серьезно относится к религиозной стороне жизни той эпохи. Из всех персонажей романа только одному из французов, де Браси, присуща некоторая набожность, но и он полностью невежественен в делах веры и лишен христианского великодушия.
Еврейская тема занимает в романе важное место. Преследования евреев для Вальтера Скотта были проявлением средневековой дикости и невежества. Он сам пишет в романе:
«…в те времена не было на земле, в воде и в воздухе ни одного живого существа… которое подвергалось бы такому всеобщему непрерывному и безжалостному преследованию, как еврейское племя. По малейшему и абсолютно безрассудному требованию, так же как и по нелепейшему и совершенно неосновательному обвинению, их личность и имущество подвергались ярости и гневу. Норманны, саксонцы, датчане, британцы, как бы враждебно ни относились они друг к другу, сходились на общем чувстве ненависти к евреям и считали прямой религиозной обязанностью всячески унижать их, притеснять и грабить».
При этом нужно учитывать две вещи. Во-первых, речь идет, конечно, о религиозном антисемитизме, а не об этническом, который сменил религиозный в конце XIX века и так ярко себя проявил в ходе ужасного ХХ века. Во-вторых, надо понимать, что Вальтер Скотт, безусловно, человек своего времени. Он хотя и с огромным сочувствием относится к гонимым и преследуемым, тем не менее изображает своего героя — еврея Исаака, богатого ростовщика, все-таки не полностью отходя от стереотипов и шаблонов начала XIX века и более ранней эпохи. Хотя он старается этого персонажа очеловечить.
Вальтер Скотт продолжает традицию, восходящую к «Венецианскому купцу» Шекспира. У него к пятой главе есть эпиграф из знаменитого монолога еврея Шейлока из «Венецианского купца», который в XVIII веке вышел на первый план. До этого, вообще говоря, образ Шейлока актеры, театральные режиссеры и критики трактовали как сугубо отрицательный, потому что Шейлок требует христианской крови, он хочет получить этот фунт человеческого мяса. Он мстителен, он злобен, его наказывают в конце довольно жестоко: от него уходит родная дочь Джессика, которая предает его, ворует у него деньги, выходит замуж за христианина. Все это, с точки зрения Шекспира, правильное поведение, потому что Шейлок — негодяй. Но с Шекспира уже начинается некоторое, так сказать, очеловечивание этого стереотипного отрицательного, мерзкого еврея.
В монологе Шейлока (Вальтер Скотт ставит его как эпиграф) он говорит:
«Да разве у евреев нет глаз? Разве у них нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей и страстей? Разве не та же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согревают и не студят его те же лето и зима, как и христианина?»
То есть шекспировский Шейлок говорит, что он такой же человек, как и все прочие, и судить его надо так же, как судят всех других людей, — вне зависимости от его религии. Он требует отношения к себе как к человеку. В комедии это только один мотив, который не получает развития. Но в дальнейшем, конечно, с каждым новым поколением образ униженного, оскорбленного еврея становится все более и более сложным. Да, собственно, для Пушкина, например, и Шейлок был сложен. Пушкин писал, что шекспировский Шейлок — это сложный персонаж, что он не только мстителен и злобен, но он еще и чадолюбив, он еще и остроумен. И Вальтер Скотт, как будто бы зная Пушкина, делает шаг к увеличению сложности.
Если мы сравним Исаака и Шейлока, то обнаруживается, что вальтер-скоттовский еврей Исаак, тоже ростовщик, тоже жадный человек, тем не менее способен на проявление высоких чувств. И он тоже, как и Шейлок, чадолюбив, но дочь его любит, не уходит от него, не предает, не обкрадывает, остается верной ему. Потому что она знает, что он замечательный, любящий, добросердечный отец, который все для нее сделает. Ревекка любит его и остается с ним. Он, между прочим, совершает исключительное для традиции изображения евреев благодеяние — платит добром за добро Айвенго. Он дает ему коня и вооружение, с которыми тот приезжает инкогнито на рыцарский турнир и побеждает всех своих противников. Потом Айвенго платит, отдает ему долг, но это действительно такое просто движение великодушия.
Так что Исаак очеловечен. И он отлично понимает, в каком мире он живет, и понимает двуличие тех людей, с которыми ему приходится иметь дело. В середине романа он произносит монолог, где говорит: «…я никому не навязываю своих денег». Он действительно богат, он ростовщик.
«Когда же духовные лица или миряне, принцы и аббаты, рыцари и монахи приходят к Исааку, стучатся в его двери и занимают у него шекели, они говорят с ним совсем не так грубо. Тогда только и слышишь: „Друг Исаак, сделай такой одолжение, я заплачу тебе в срок — покарай меня Бог, если пропущу хоть один день!“ Или: „Добрейший Исаак, если тебе
когда-либо случалось помочь человеку, то будь и мне другом в беде“. А когда наступает срок расплаты и я прихожу получать долг, тогда иное дело — тогда я „проклятый еврей“. Тогда накликают все казни египетские на наше племя и делают все, что в их силах, дабы восстановить грубых, невежественных людей против нас, бедных чужестранцев».
У Пушкина, кстати, который очень хорошо знал и любил роман «Айвенго», есть отголосок этого монолога в «Скупом рыцаре». Там ведь тоже появляется еврей, у которого молодой герой, рыцарь, просит денег в долг для участия в турнире — совсем как Айвенго. И у Пушкина рыцарь обращается к еврею с двойной формулой: «Проклятый жид, почтенный Соломон». Значит, с одной стороны, да, это для него проклятый жид, он еще будет его называть собакой — вполне по канонам классического антисемитизма, а с другой стороны, он ведь просит у него деньги, как рассказывает нам вальтер-скоттовский еврей, и поэтому должен к нему обращаться с почтением. Вальтеру Скотту нужен целый абзац для того, чтобы это написать, а Пушкин всегда сокращает все до предела. Всего четыре слова, а все понятно: двойное отношение к еврею.
Вальтер Скотт был человеком консервативных, умеренных взглядов, и он верил в то, что каждый острый конфликт неминуемо заканчивается примирением и синтезом. Так, скажем, Шотландия и Англия должны объединиться и слиться воедино: разрыв и расхождение больше невозможны. Вальтер Скотт знает, что в конечном итоге история всегда кончается примирением и синтезом. Даже на уровне языка.
В самом начале он проницательно замечает, что тогда, в XII веке, языки — норманнский вариант французского и англосаксонский — сосуществовали в Англии, но они начинают смешиваться. И он обращает внимание на одну интересную особенность — чисто лингвистическое наблюдение. Он говорит: вот смотрите, английское слово swine, как и немецкое Schwein, «свинья», — это германские слова, это германская лексика. А «свинина»
Он представлял себе, что конфликт в конце концов приводит к единству. Так возникает единый английский язык из двух источников, и так возникает единая английская нация из двух источников и единое государство. И поэтому у Вальтера Скотта в центре всего герои компромисса, герои, которые способны и в острой конфликтной ситуации идти на компромисс. Как король Ричард, который милует и жалует своих противников — англосаксов. Как сам Айвенго, который готов и служить норманнскому королю, и сохранять верность своему отцу и своим корням, который в конце концов демонстрирует и рыцарскую доблесть, и сыновью любовь, и заслуживает свою невесту. Ну, может быть, мы думаем, что не ту невесту, худшую из двух, но тем не менее он получает невесту, которую хотел получить, и отец его прощает. Конфликт должен заканчиваться компромиссом.
Как говорит герой «Айвенго» — король компромисса Ричард, «ибо кто творит добро, имея неограниченную возможность делать зло, тот достоин похвалы не только за содеянное добро, но и за все то зло, которого он не делает». И Вальтер Скотт был убежден, что в истории сплошь и рядом бывают такие периоды и эпохи — мы с вами их тоже прекрасно знаем, — когда творить зло и легко, и приятно, перефразируя Булгакова. Но человеческая тяга к добру и к компромиссу, согласно Вальтеру Скотту, всегда все-таки берет верх. Этому убеждению у Вальтера Скотта
Я не знаю, какой из романов Вальтера Скотта я прочитал первым. Я думаю, что я начал читать Вальтера Скотта, увлекаться им лет так в девять или в десять. Я помню, что мне тогда сначала, до «Айвенго», понравился роман «Квентин Дорвард» — тоже из из французской средневековой истории. Он мне показался ужасно увлекательным — может быть, потому, что там герой более яркий, более храбрый, более мужественный, чем Айвенго, и он встречается с переодетым королем. Потом это мне напомнило встречу Машеньки и Екатерины у Пушкина в «Капитанской дочке».
«Айвенго» я прочитал примерно тогда же и тоже был страшно увлечен, перечитывал много-много-много раз и помню даже
Роман «Одиссея капитана Блада» Рафаэля Сабатини у нас часто ассоциируется с романтическими приключенческими историями, характерными для XIX века. И поэтому почти все уверены, что именно тогда он и был написан. Однако на самом деле этому роману нет и ста лет, потому что первое издание, в виде единой книги, вышло в 1922 году.
Вспомним кратко сюжет романа. Главный герой, Питер Блад, родился в Ирландии в 1653 году. Получил медицинское образование, но решил, что карьера доктора для него слишком скучна. Его тянуло к приключениям, и он завербовался солдатом. Блад служил на флоте — среди прочего и под командованием голландского генерала де Рёйтера, у которого он научился, например, ведению морского боя, что впоследствии ему очень помогло. Он был ранен, попадал в плен и в конце концов решил оставить это занятие и осесть в Англии, в городке Бриджуотер, где, собственно, и начинается действие романа в июле 1685 года.
Действие начинается во время восстания Монмута, которое также известно как «восстание с вилами». Это была попытка свергнуть короля Якова II. Яков II был католиком и вторым сыном короля Карла I. Его старший брат, Карл II, умер, не оставив законных наследников. Поэтому, хотя вроде бы Яков II был вполне законным представителем, внебрачный сын Карла II герцог Монмут, который был протестантом и основное время жил в Голландии, считал, что у него довольно хорошие шансы занять престол, поскольку Англия к тому времени стала страной в основном протестантской и, соответственно, король-католик не всем нравился.
Действительно, герцогу удалось собрать довольно большое количество сторонников, однако проблема состояла в том, что это были люди, к военному делу непривычные, необученные. По сути, это была толпа — отсюда и «восстание с вилами». Поэтому неудивительно, что регулярная армия, находившаяся в распоряжении Якова II, одержала победу. И вот к нашему герою, Питеру Бладу, который не принимал участия в восстании, приходят как к доктору и просят его оказать медицинскую помощь лорду Гилдою, который участвовал в восстании на стороне повстанцев и был ранен.
Пока Питер Блад оказывает медицинскую помощь, на мятежников начинается охота. Его вместе с раненым пациентом арестовывают и затем приводят в суд. В результате судья Джеффрис (это реальное лицо, которое выведено в романе) приговаривает Питера Блада, как и других мятежников, к казни через повешение. Однако затем приходит приказ часть мятежников помиловать и отправить в рабство на сахарные плантации.
Таким образом Питер Блад попадает на Барбадос, где его покупает полковник Бишоп. Покупает не как врача, а скорее как рабочую силу. Но, узнав о медицинских познаниях Питера Блада, он переводит его в статус врача-невольника, что дает тому возможность довольно свободно передвигаться по острову. В результате неожиданного стечения обстоятельств Питер Блад и его сообщники фактически угоняют испанский пиратский корабль вместе с пиратами, и с тех пор испанцы становятся злейшими врагами Питера Блада и его сообщников.
В процессе своей пиратской деятельности капитан Питер Блад приобрел большое уважение среди членов вольного братства. Его команда считалась очень дисциплинированной, одно время он даже командовал небольшой пиратской флотилией. Затем волею обстоятельств он поступил на службу к французскому королю, но быстро от нее отказался. И, наконец, в 1688 году он узнает о том, что произошла «Славная революция», Яков II свергнут, на троне воцарился Вильгельм Оранский. Соответственно, все оставшиеся в живых мятежники прощены, а капитан Питер Блад получил предложение стать губернатором Ямайки, что дало ему возможность не только устроить свою жизнь, но и объясниться с любимой девушкой. Собственно, на этом заканчивается первая часть, а именно «Одиссея капитана Блада».
Роман написан на историческом материале. В частности, известно, что Сабатини использует записки Генри Питмена, который был врачом герцога Монмута и, таким образом, действительно оказался среди тех участников восстания, которых затем отправили на Барбадос. Правда, в отличие от Питера Блада, он пиратом не стал. Он вернулся в Англию, написал воспоминания об этом периоде, а пиратская составляющая добавлена из жизнеописания Генри Моргана, а также полковника Томаса Блада, который дал фамилию литературному прототипу.
В романе бросается в глаза, что существуют как будто разные виды пиратов — в частности, пираты на государственной службе. У Сабатини в тексте можно, например, прочитать описание того, как Питера Блада соблазняли стать пиратом: «Следует также помнить, что такие заманчивые предложения исходили не только от знакомых ему пиратов, наполнявших кабачки Тортуги, но даже и от губернатора острова д’Ожерона, получавшего от корсаров в качестве портовых сборов десятую часть всей их добычи».
В чем же тут было дело? Давайте обратим внимание на то, что, в принципе, существует очень много терминов, которыми называются пираты. Помимо просто пиратов, есть флибустьеры, буканьеры, каперы, корсары — кажется, что это все разные виды, но на самом деле здесь все немного проще. Были пираты — настоящие морские разбойники, так сказать. Это были люди, которые не подчинялись никому и фактически нападали на абсолютно любой корабль, принадлежавший любому государству.
Однако были буканьеры, или каперы, а это такой род пиратов, которые получали от
Строго говоря, в этих официальных документах не было четкого указания на границы того, что эти люди могли делать. И в международном праве совершенно не существовало определения таких важнейших понятий, как приз, добыча, справедливая добыча, допустимый обыск (или осмотр) или задержание судна. То есть, вообще говоря, царил произвол.
Папа Александр VI в 1494 году решил, что негоже, чтобы христиане воевали друг с другом и устраивали серьезные конфликты по поводу территории Нового Света. Поэтому он предложил поделить Новый Свет между двумя самыми верными католическими странами — Португалией и Испанией. В 1494 году был заключен Тордесильясский договор, согласно которому раздел между Испанией и Португалией проводился по «папскому меридиану», который проходил «западнее любого из Азорских островов», и все земли восточнее него отходили Португалии — и, соответственно, все воды. А все, что находилось западнее этого меридиана, отходило Испании. В 1529 году Сарагосский договор еще более аккуратно уточнил раздел новых земель и океана между Испанией и Португалией.
К XVII веку такое положение дел перестало устраивать страны, которые обзавелись собственным флотом и активно боролись за участие в международной торговле, — Англию, Голландию и Францию. Напомню, что именно в конце XVII века и происходит действие «Одиссеи капитана Блада». К этому моменту борьба за раздел торговых путей уже шла полным ходом.
Поэтому неудивительно, что в романе основной враг капитана Блада — это испанцы. Именно Испания была наиболее мощной из двух держав, Португалии и Испании, и, соответственно, именно с ней в основном и препирались за господство в море и англичане, и французы, и голландцы.
Одним из средств этой торговой войны как раз и было узаконенное пиратство, или каперство, когда государство фактически разрешало неким морским бандитам, которых в нормальное время, наверное, на своей службе не потерпело бы, нападать на суда противной стороны (в случае англичан в первую очередь — на испанцев) в обмен на то, что
Таким образом, получается, что отношение к пиратам, по крайней мере на некоторой части территорий, вернулось к тому, которое наблюдалось в Древней Греции, когда морской разбой считался вполне нормальной профессией, что можно подтвердить такой цитатой из Фукидида:
«Возглавляли такие предприятия не лишенные средств люди, искавшие и собственной выгоды, и пропитания неимущих. Они нападали на незащищенные земли, селения и грабили их, добывая этим большую часть средств к жизни. Причем такое занятие вовсе не считалось тогда постыдным, но, напротив, даже славным делом. На это указывают обычаи некоторых материковых жителей, а также древние поэты, которые приезжим мореходам повсюду задают один и тот же вопрос: не разбойники ли они? Так как и те, кого спрашивают, не должны считать позорным это занятие, и у тех, кто спрашивает, оно не вызывает порицания».
Как видим, использование пиратов в государственных целях подобно маятнику: в
Важно отметить, что при этом грань между официальными пиратами (официальными каперами) и настоящими пиратами была очень тонкая и эти две категории постоянно переходили одна в другую. Очень сложно было отследить, сколько на самом деле награбили официальные каперы. Фрэнсис Дрейк, например, который занимался буканьерством, называл буканьерством и абсолютно частные рейды, доход от которых не шел в казну государства. Поэтому не нужно удивляться тому, что одни и те же пираты могут называться
Как мы уже говорили, Питеру Бладу заменяют смертную казнь продажей в рабство. Приведу цитату, где Сабатини объясняет причины этого:
«…утром 19 сентября в Таунтон прибыл курьер от государственного министра лорда Сэндерленда с письмом на имя лорда Джефрейса. В письме сообщалось, что его величество король милостиво приказывает отправить тысячу сто бунтовщиков в свои южные колонии на Ямайке, Барбадосе и на Подветренных островах.
Вы, конечно, не предполагаете, что это приказание диктовалоськакими-то соображениями гуманности. Лорд Черчилль, один из видных сановников Якова II, был совершенно прав, заметивкак-то , что сердце короля столь же чувствительно, как камень. „Гуманность“ объяснялась просто: массовые казни были безрассудной тратой ценного человеческого материала, в то время как в колониях не хватало людей для работы на плантациях, и здорового, сильного мужчину можно было продать за 10–15 фунтов стерлингов».
Таким образом, у продажи в рабство была абсолютно экономическая причина. Позволю себе напомнить, как капитана Блада продают в рабство и как его нахваливает капитан корабля, который привез невольников на продажу:
«Он, может быть, и тощ, но зато вынослив. Когда половина арестантов была больна, этот мошенник оставался на ногах и лечил своих товарищей. Если бы не он, то покойников на корабле было бы намного больше… Ну, скажем, 15 фунтов за него, полковник? Ведь это, ей-богу, дешево. Еще раз говорю, ваша честь, он вынослив и силен, хотя и тощ. Это как раз такой человек, который вынесет любую жару. Климат никогда не убьет его».
В итоге Питер Блад был продан полковнику Бишопу за смехотворную сумму в 10 фунтов. Попробуем выяснить: что такое было 10 фунтов в то время? Сделать это довольно сложно, но мы попытаемся провести некоторое сопоставление. Во-первых, напомним, что один фунт состоял из 20 шиллингов, а один шиллинг состоял из 12 пенсов. Это нам понадобится для дальнейшей арифметики.
У нас, конечно, нет детализированных сведений о том, что и сколько стоило в XVII веке. Но, скажем, в конце XVI века, то есть примерно за 100 лет до описываемых событий, дневной заработок рабочего в Англии составлял 4 пенса. И 4 же пенса стоила целая курица. Для сравнения, чтобы понимать, как это выглядит сейчас: если раньше за целую курицу мы отдавали дневной заработок рабочего, то сейчас, скажем, за куриное филе отдается приблизительно 1/20 часть дневного заработка рабочего — хотя нужно понимать, что рабочий в данном случае очень условное понятие.
Попробуем посмотреть на
Бекон, любимый пиратами, стоил 6 пенсов за килограмм — и вы можете сами посчитать, сколько же бекона можно было бы купить на деньги, за которые продали капитана Блада. Еще раз повторю, что, конечно, это все приблизительные оценки того, что происходило.
Когда мы вообще говорим о рабстве, чаще всего нам приходит на ум либо Античность, то есть Древний мир, либо чернокожие рабы на американских плантациях. Однако важно помнить, что на самом деле рабство никуда не исчезало и в Средние века, работорговля была и в Средние века, просто расцвет ее случился как раз после открытия Нового Света. И связано это было с экономическими причинами.
Дело в том, что Колумб открыл нам не только Америку и привез табак, но еще и с Канарских островов на Гаити завез сахарный тростник. Культивировать сахарный тростник было делом выгодным. Однако была некоторая проблема в том, кто же должен эти плантации обрабатывать. Выяснилось, что местное население, индейцы, которых пытались перевозить и заставлять работать на плантации, плохо переживали перевозку, работали не очень хорошо и в целом оказывались позволю себе сказать, не очень выгодны.
Считалось, что по сравнению с индейцами чернокожие рабы в четыре раза более производительны. Кроме того, они выносливы и намного дольше живут в этом неблагоприятном климате. Поэтому процветала торговля чернокожими рабами, и в этой торговле принимали участие все. Чернокожие рабы вывозились в основном из Западной Африки, и не нужно думать, что это белые завоеватели прибегали на Африканский континент и захватывали чернокожее население в плен. Первым звеном оказывались собственно африканские племена, которые, захватывая в плен своих противников, продавали их белым работорговцам.
Цена, уплаченная за капитана Питера Блада, была существенно ниже, чем средняя цена за чернокожего раба, что отражает тот факт, что белые люди были гораздо менее приспособленными к работе на плантациях в тропическом климате. И, соответственно, именно поэтому в сцене торговли так подчеркивается выносливость Питера Блада и утверждается, что быстро он не умрет. Поскольку, естественно, покупатель был заинтересован в длительной эксплуатации товара.
Чернокожие рабы воспринимались действительно как товар и ценились фактически наравне с домашними животными. Например, в XVIII веке в Англии была реклама многофункциональных замков, производитель которых прямо писал, что они подходят как для чернокожих рабов, так и для собак. То есть мы видим, на какой уровень ставились эти люди.
Говоря о пиратах и о чернокожих рабах, логично спросить — а как пираты к этому относились? Тут было две крайности. Одна состояла в том, что были пиратские команды, которые участвовали в работорговле, на этих кораблях часть чернокожих невольников была в положении рабов, которые работали на этом корабле и в составе команды. Однако была и другая часть пиратов, которая считала, что это такие же люди, и делала их полноправными членами команды. Из тех немногих сведений, которые до нас дошли, можно привести некоторые цифры — сколько было темнокожих пиратов в различных пиратских экипажах. В целом источники показывают, что в пиратской команде могло быть от 15 до 98 % темнокожих.
Сабатини в романе отмечает, что Питеру Бладу удалось собрать необыкновенно дисциплинированную команду пиратов. Вот что он пишет по этому поводу:
«Неплохо разбираясь в людях, Блад добавил к числу своих сторонников еще 60 человек, тщательно отобранных им из числа искателей приключений, околачивающихся на Тортуге. Как было принято неписаными законами „берегового братства“, он заключил договор с каждым членом своей команды, по которому договаривающийся получал определенную долю захваченной добычи. Но во всех остальных отношениях этот договор резко отличался от соглашений подобного рода. Все проявления буйной недисциплинированности, обычные для корсарских кораблей, на борту „Арабеллы“ категорически запрещались. Те, кто уходил с Бладом в океан, обязывались полностью и во всем подчиняться ему и им самим выбранным офицерам, а те, кого не устраивали эти условия, могли искать себе другого вожака».
В приведенной цитате мы видим некоторое удивление или попытку восхищения Сабатини своим героем, Питером Бладом, и тем, какую дисциплину он смог выстроить на своем корабле. И это очень соответствует нашему представлению о том, что пираты — это такие необузданные люди, которые в момент, когда не гонятся за добычей, обязательно пьянствуют и хорошо проводят время. Но на самом деле это представление ложное. Это миф. Когда пиратская команда находилась в плавании, она отличалась жесткой дисциплиной. На берегу пираты могли вести себя как угодно, однако в плавании они должны были во всем подчиняться капитану и установленным распорядкам.
Во-первых, капитан на пиратском корабле был выборной должностью. Более того, пираты знали, что они могут, вообще говоря, в любой момент и абсолютно по любому поводу капитана низложить и провести новые выборы. Выборы проводились очень просто. Один пират — один голос, по принципу простого большинства голосов. Капитан знал, что власть его является ограниченной и что если он в
Капитанов свергали по самым разным поводам:
При этом он гораздо меньше вмешивался в повседневную жизнь судна, за которую отвечал квартирмейстер. Это был второй человек на корабле: он отвечал за размещение людей по судну, за распределение ролей, следил за соблюдением дисциплины и применял дисциплинарные наказания, если это требовалось. Тактика и повседневная жизнь находились в руках квартирмейстера.
Следующим важным элементом в организации жизни пиратов были соглашения. О них упоминает и Сабатини. Однако Сабатини считает, что в соглашениях прописывался только раздел добычи. На практике это было не так, и соглашения, которые пираты подписывали, регламентировали почти все стороны жизни на корабле. Я бы хотела рассказать о правилах, которые часто приводятся в качестве таких соглашений, — это так называемые правила капитана Робертса.
Бартоломью Робертс был одним из самых успешных пиратов. Считается, что за три года он вместе со своей командой захватил 456 кораблей и общая сумма добычи оценивается в невероятную сумму в 50 миллионов фунтов стерлингов. Скорее всего, это миф, но такая оценка.
Итак, какие же были правила на корабле капитана Робертса? Они состояли из 11 пунктов. Во-первых, каждый член экипажа имеет право на участие в голосовании по насущным вопросам. Он обладает одинаковым правом на получение свежей провизии и спиртных напитков, как только они будут захвачены. Он может использовать их по собственному желанию — за исключением тех случаев, когда для всеобщего блага станет необходимостью ограничение в их потреблении.
Во-вторых, каждый член экипажа должен быть вызван в соответствии с установленным порядком на борт призового судна, потому что свыше причитающейся ему захваченной добычи он может еще взять себе смену белья. Но если
В-третьих, ни одному члену экипажа не позволяется играть на деньги в карты или в кости.
В-четвертых, огни и свечи должны быть погашены после 8 часов вечера. Если
В-пятых, каждый член экипажа должен держать в чистоте и исправности пушки, пистолеты и абордажные сабли.
В-шестых, ни одному ребенку или женщине не дозволяется находиться на борту. И должен быть казнен тот, кто приведет переодетую женщину на борт.
В-седьмых, тот, кто самовольно покинет корабль или свое место во время сражения, тот приговаривается к смерти или к высадке на необитаемый остров.
В-восьмых, никто не имеет права драться на борту судна, но любая ссора может быть разрешена на берегу с применением сабли или пистолета. Я опущу детали того, как решались ссоры на берегу, и перейду к девятому пункту.
Ни один член экипажа не имеет права заговаривать о расформировании братства до тех пор, пока у каждого не будет собрана доля в тысячу фунтов. Если же во время службы
В-десятых, капитан и квартирмейстер при разделе добычи получают по две доли; шкипер, боцман и артиллерист — полторы доли. Оставшиеся лица командного состава — одну долю с четвертью.
И, в-одиннадцатых, музыканты отдыхают только по воскресеньям. А в другие шесть дней и ночей не имеют на это права, если не получают специального разрешения.
Как видим, вопреки тому, о чем писал Сабатини, в этом кодексе, в этих правилах, содержалось довольно много вещей. Регламентировались самые разные стороны жизни. Дошедшие до нас другие правила других пиратских экипажей, в
Зачем требовалось регламентировать таким образом жизнь? Почему были запрещены азартные игры? Почему нужно было рано ложиться спать и не мешать своей выпивкой другим? Ответ довольно прост. С экономической точки зрения мы бы сказали, что это такая борьба с негативными экстерналиями, или внешними эффектами. То есть с такими ситуациями, когда действия одного человека оказывают негативное влияние на окружающих.
В чем была задача пиратской команды? Когда они выходили в море, они должны были находиться в постоянной боеготовности — либо готовиться в любой момент догонять, нападать и отбивать добычу, либо, если обстоятельства были не столь благоприятны, они должны были готовиться удирать. Это означало, что каждый член команды должен находиться в лучшей форме. Что, естественно, достигается в том случае, если соблюдать, условно говоря, режим дня, не провоцировать драки, споры и ссоры. А азартные игры, равно как и женщины, конечно, могли спровоцировать именно такую ситуацию.
Поэтому, вообще говоря,
Судя по всему, было две альтернативные модели того, каким образом производилось разделение добычи. Одну мы только что процитировали. Первые люди на корабле, капитан и квартирмейстер, получают две доли, затем по полторы доли получали артиллерист, шкипер и боцман. И остальные члены командного состава — одну долю с четвертью. На самом деле это означает, что все остальные рядовые пираты получали по одной доле. Таким образом, когда захватывался корабль, вся добыча собиралась вместе, после чего вычислялось, на сколько долей она должна быть поделена, и каждый получал в соответствии с теми правилами, которые они подписывали.
Однако при этом могла быть и другая модель, согласно которой сначала вознаграждались те, кто делал больший или
Например, есть данные о том, что плотник и его команда могли получать от 100 до 150 песо. В пересчете на фунты это от 20 до 30 фунтов. А, скажем, оплата труда хирурга могла составлять 200–250 песо, или 40–50 фунтов. Но это с учетом медикаментов, которые хирург должен был запасти и иметь на борту.
Также вычиталась стоимость провианта. По некоторым оценкам, на один рейд стоимость провианта составляла примерно 200 песо, или 40 фунтов. И вот только после этого все, что осталось, делилось уже абсолютно поровну между всеми членами команды.
В правилах упоминается, что если
Такими разнообразными сведениями мы располагаем, в частности, благодаря труду некоего Александра Эксквемелина. Есть много споров о том, настоящее это имя или псевдоним и существовал ли такой человек вообще. Однако, судя по всему, труд, на который многие опираются, был написан человеком, который имел прямое отношение к пиратству.
Александр Эксквемелин как раз в конце XVII века опубликовал труд под названием «Буканьеры Америки, или Правдивая история наиболее замечательных нападений, совершенных в последние годы у побережья Вест-Индии буканьерами Ямайки и Тортуги, как англичанами, так и французами». Таким образом, человек претендовал на довольно обширные познания в том, что происходило в пиратском деле, и, вполне возможно, был одним из тех, кто участвовал
Как видим, в целом пираты пытались построить на корабле довольно интересную модель общества — в
В некоторых правилах оговаривалось, что в случае, если пират погибал при исполнении, так сказать, своих обязанностей, при наличии у него родственников им также могла быть выплачена компенсация. То есть за риски, связанные с пиратской жизнью, эти люди вполне неплохо вознаграждались. И, разумеется, самым главным вознаграждением, самой главной приманкой для них служила вовсе не компенсация за увечья, а потенциальная добыча.
Добыча могла быть вполне серьезной. Например, в 1695 году несколько пиратских кораблей под командованием Генри Эвери захватили добычу на общую стоимость в 600 000 фунтов. Каждому моряку досталось не менее чем по одной тысяче фунтов. Безусловно, это было целое состояние по тем временам. И именно эти правила позволяли пиратам заранее договориться на берегу о том, как делить добычу и добиваться тех выдающихся результатов, о которых мы до сих пор слышим и читаем.
Я попробовала подступиться к «Одиссее капитана Блада», наверное, когда мне было лет четырнадцать. Роман мне показался зубодробительно скучным. Я его отложила, пошла читать Дюма. Через пару лет я вернулась, попробовала еще раз — и у меня опять не пошло. Поэтому, честно говоря, роман я прочитала, когда стала прицельно заниматься пиратством, и читала я его не с точки зрения событий и романтической сюжетной линии, которую автор туда вложил, а именно с точки зрения пиратской истории и того, что там правда, а что — вымысел.
Боюсь, что он мне до сих пор кажется довольно скучным. Но вот с точки зрения пиратского материала роман дает богатейшую и интереснейшую палитру различных вещей, которые можно обсуждать.
Не все знают, что знаменитый остров сокровищ из одноименного романа Роберта Льюиса Стивенсона в действительности существует. Это остров Пинос, который находится в 70 километрах южнее Кубы; на протяжении примерно 300 лет он служил пристанищем пиратов. Там бывали такие известные пираты, как Генри Морган, Фрэнсис Дрейк и Эдвард Тич, которого мы еще упомянем. Однако по поводу того, откуда же этот остров появился в романе Стивенсона, существуют разные версии.
Сам автор, описывая, как он создавал роман, сообщал:
«Я нарисовал карту необитаемого острова; она была очень старательно и, как мне казалось, превосходно раскрашена. Форма того острова несказанно меня очаровала. Там были заливы, которые радовали меня, и подсознательно я написал название: „Остров сокровищ“. Образы моих будущих персонажей приключенческого романа начали проявляться сквозь воображаемый лес, когда я всматривался в свою карту Острова сокровищ».
Мы знаем, что эту карту Стивенсон нарисовал для своего пасынка сентябрьским вечером 1881 года. Однако остров слишком уж похож на тот, который существует в реальности, поэтому есть и другая версия, которая говорит, что на самом деле у него действительно была реальная карта реального острова, который он и вывел в своем романе. Более того, он пользовался, видимо, и другими источниками для составления своего романа и придумывания приключений. Скорее всего, он использовал и записки Генри Моргана, и записки Фрэнсиса Дрейка. Не исключено, что он пользовался и книгой Александра Эксквемелина, в которой описано очень много деталей из пиратской жизни.
Можно отметить, что у грозного капитана Флинта, который не является персонажем книги, но постоянно в ней упоминается, существовал реальный прообраз — Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода.
Роман «Остров сокровищ» был опубликован целиком, как единое произведение, в 1883 году, а перед этим он выходил частями в детском журнале Young Folks. Действие романа происходит в 1765 году. Это время, когда золотой век пиратства уже примерно 30 лет как закончился — вероятно, именно поэтому и распалась пиратская команда капитана Флинта.
Что происходит? Старый моряк Билли Бонс снимает комнату в трактире «Адмирал Бенбоу» и через некоторое время получает от своих бывших компаньонов по пиратской жизни «черную метку». Получив ее, он умирает (от апоплексического удара, судя по всему), а сын хозяйки трактира Джим забирает бумаги покойного, в которых находит в том числе и
Поскольку сквайр очень болтлив, вся команда оказывается в курсе, что цель путешествия — пиратские сокровища. Более того, некоторая часть команды — это бывшие пираты, которые даже участвовали в операциях капитана Флинта, как, например, Джон Сильвер, одноногий кок.
В результате длительных приключений, высадившись на берег, Джим находит Бена Ганна. Это бывший член команды Флинта, который был оставлен на этом необитаемом острове. Ему удалось выжить; более того, он нашел сокровища и перепрятал их. Поэтому, когда пираты, наконец завладев картой, прибывают на место, они находят только вырытую яму. В результате сокровища достаются тем, кто за ними и отправился, а часть их перепадает собственно Бену Ганну и Джону Сильверу, который по дороге в Англию успевает сбежать.
В романе есть персонаж, которого постоянно упоминают, но который не является действующим лицом, поскольку скончался за несколько лет до начала романа. Это капитан Флинт. Что о нем вспоминают герои? Вот, например:
«Слыхал ли я о Флинте? — воскликнул сквайр. — Вы спрашиваете, слыхал ли я о Флинте? Это был самый кровожадный пират из всех, какие
когда-либо плавали по морю! Черная Борода перед Флинтом младенец. Испанцы так боялись его, что, признаюсь вам, сэр, я порой гордился, что он англичанин».
Джон Сильвер, служивший
У капитана Флинта был реальный прототип, тот самый капитан Эдвард Тич Черная Борода, чья внешность наводила ужас на современников. Вот, например, описание Черной Бороды, которое дает капитан Джонсон:
«Физиономию капитана Тича, именовавшего себя Черной Бородой, сплошь покрывала густая растительность, сразу приковывавшая взгляды. Эта борода ужасала всю Америку. Она была черного цвета, и хозяин довел ее до таких чудовищных размеров, что казалось, будто волосы растут прямо из глаз. Тич имел обыкновение заплетать ее в маленькие косички с ленточками и закидывать их за уши. Во время сражения он вешал на каждое плечо широкую перевязь с тремя парами пистолетов в кобурах и втыкал под шляпу запальные фитили, так что они свисали, едва не касаясь щек. Его глаза от природы были лютыми и дикими. Невозможно представить себе фигуру более жуткую, чем этот одержимый бесом человек, сравнимый разве что с фурией из ада».
Вот такое колоритное описание очевидно театральной, нарочито устрашающей внешности.
Не менее устрашающими были и некоторые требования Тича. Например, в 1718 году он появился в гавани Южной Каролины, захватил восемь кораблей с богатой добычей и богатыми пленниками и потребовал за них выкуп (в дополнение к той добыче, которая была на кораблях) — лекарства для членов своего экипажа. И сообщил губернатору, что в случае, если выкуп не будет предоставлен вовремя, он пришлет губернатору головы всех пленников. Такое вот жесткое требование. Оно, впрочем, не было
Ходят слухи, что капитан Эдвард Лоу был не менее жесток. Про него, например, пишут следующее:
«После взятия корабля его люди начали мучить матросов, которые принуждены были объявить, что корабельщик бросил в море мешок с тысячью песо. Узнавши об этом, Лоу бранился и ругался до исступления, вырезал у корабельщика обе губы и, наконец, умертвил его вместе со всем корабельным экипажем, состоявшим из 36 человек».
Можно продолжать этот список, рисовать ту самую картину, которая приходит на ум, когда мы представляем себе захват пиратами
Скорее всего, это было не так. По очень простой причине. Пиратское дело было, во-первых, дорогостоящим; во-вторых — очень рискованным. Любая абордажная схватка означала необходимость вступить в бой — и риск того, что будет поврежден корабль. А повреждение корабля практически наверняка означает большие проблемы вплоть до гибели всего экипажа, если им не удастся захватить другой.
Кроме того, команда пиратского корабля тоже подвергалась опасности. Они могли получить ранения,
Строго говоря, они не были заинтересованы в том, чтобы
Поэтому, скорее всего, пираты не отличались кровожадностью, а весь этот зверский антураж служил для цели устрашения потенциальной жертвы. Для этой же цели служил и известный нам флаг «Веселый Роджер», который, естественно, является неотъемлемым атрибутом пиратов в наших глазах, но который, однако, тоже претерпевал некоторые изменения.
Естественно, что под «Веселым Роджером» пираты на самом деле не ходили. Они ходили под флагом
Привычный нам череп и кости появились тоже не сразу: есть различные описания, например, того, что были целые скелеты, или половины скелета, или череп, скажем, с руками. То есть были разные варианты, прежде чем появился тот флаг, который сегодня кажется нам каноническим. Главным было одно: это был флаг, который не напоминал флаг никакой другой страны и сигнализировал судну, к которому подходил такой корабль, что это пираты. То есть флаг, так же как и устрашающая внешность капитанов, был призван снизить транзакционные издержки и заставить жертву легко расстаться со своими сокровищами.
Нужно понимать, что снижение транзакционных издержек было в интересах пиратов не только потому, что это снижало их риски, но и потому, что это увеличивало долю чистой добычи. Дело в том, что пираты, как правило, выплачивали своим товарищам компенсацию за увечья и ранения, понесенные в бою, — соответственно, чем меньше было таких увечий, тем больше чистых денег доставалось каждому.
Когда Джон Сильвер разговаривает с Джимом, он упоминает: «Вся команда как огня боялась старого Флинта, а сам Флинт боялся одного только меня». Почему же Флинт боялся
Джон Сильвер, судя по всему, был квартирмейстером, который в нормальных условиях отвечал за порядок на корабле, за то, какие кому роли отводятся в команде, кто где находится на корабле, за соблюдение ежедневной и постоянной дисциплины. Казалось бы, это просто комендантские обязанности. Зачем капитану Флинту бояться своего коменданта?
Но есть и другая любопытная версия того, чем же мог заниматься квартирмейстер. Она связана с тем, что название этой должности можно прочитать как «мастер», или «капитан», одной из палуб корабля. Именно эта часть корабля оказывалась ближе всего, когда судно шло на абордаж, именно с этой палубы производилась абордажная атака. Это значит, что на этой палубе размещался, условно говоря, пиратский спецназ. И, соответственно, Джон Сильвер был не просто комендантом, но, скорее всего, капитаном вот этого пиратского спецназа. В таком случае, наверное, неудивительно, что его боялся сам капитан Флинт.
Когда в романе Джон Сильвер описывает свое пиратское прошлое, он упоминает о том, что ногу ему ампутировал настоящий хирург: «Мне ампутировал ее ученый хирург — он учился в колледже и знал всю латынь наизусть». Это может вызвать как минимум два вопроса. Что врачу делать на корабле — зачем он пошел в пираты? И, во-вторых, откуда вообще брались люди, которые шли в пираты?
Давайте начнем с того, что вспомним, что на корабле была необходимость в очень большом количестве специалистов. Необходимы были врачи, потому что они должны были лечить как последствия ранений, так и последствия обычной лихорадки. Необходим был плотник — и, возможно, целая команда плотников, в чьи задачи входила как починка
Таким образом, количество специалистов на корабле было довольно существенным. Откуда же все эти люди появлялись и как они попадали в пираты? Было несколько путей того, как люди приходили в это. Первый был добровольный. Чаще всего в пираты шли те, кто по
Проблема была в том, что менять одного капитана торгового флота на другого было, скорее всего, равносильно тому, чтобы менять шило на мыло. Никакой гарантии, что другой капитан окажется лучше, не было. Переучиваться на другую профессию, как правило, не было либо времени, либо возможности. Соответственно, уход в пираты представлялся гораздо более разумной альтернативой тому, чтобы продолжать влачить полурабское существование в торговом флоте.
Однако была и другая часть людей, которые превращались в настоящих пиратов, придя из пиратов официальных — каперов, буканьеров. Напомню, что каперы, или буканьеры, — это пиратские корабли, которые получали от
Чаще всего количество таких пиратских экипажей, имевших патент, увеличивалось во время
Был и третий вариант того, каким образом попасть в пираты. Как известно, пираты брали людей в плен и вполне могли заставить пленников работать на себя. Правда, пираты не слишком любили это делать, и у этого были вполне логичные объяснения. Во-первых, пленников нужно было кормить. Это означало лишний расход ценного продукта. Во-вторых, пленников нужно было охранять, и это было отдельной и сложной задачей. В-третьих, даже если пленников можно было заставить работать, то делали они это неохотно и неэффективно. Любой человек из-под палки работает хуже. Соответственно, пленники были не слишком полезны на корабле. И, более того, в случае захода в порт пленники представляли наибольшую угрозу: если им удавалось сбежать, то они вполне могли выдать пиратов властям, рассказать о пиратских планах, о пиратских обычаях или сообщить
Попадаться властям, естественно, никому не хотелось, поскольку за пиратство полагалась смертная казнь. Причем власти активно закручивали гайки, и если в начале золотого века пиратства пиратам еще предлагалось перейти на государственную службу (либо стать каперами, либо просто пойти во флот), то в начале XVIII века, когда золотой век пиратства стал клониться к закату, никакого выбора пиратам не предлагали. Их попросту казнили, причем для устрашения их сотоварищей тело после казни, как правило, выставляли на всеобщее обозрение.
Например, после казни известного пирата Уильяма Кидда его труп был выставлен на всеобщее обозрение в железной клетке, и примерно через два года там остался только скелет, который вселял ужас в его соратников. Многие пираты даже говорили, что уж лучше погибнуть в бою, чем подвергнуться такой участи. В общем, никакого стимула к тому, чтобы попадаться властям, у пиратов не было.
Тем не менее мы читаем довольно много историй про то, что пленников захватывали и силой заставляли работать на пиратских кораблях. Есть ли здесь противоречие? На самом деле нет, поскольку по мере того, как власть увеличивала давление на пиратов, пираты пытались найти способ все-таки кооптировать людей в свою компанию, потому что людей на пиратском корабле требовалось довольно много.
Самая маленькая пиратская команда, о которой мы знаем, состояла из десяти человек под командованием капитана Эдмондсона — в 1726 году. Однако совершенно очевидно, что вряд ли это был целый экипаж. Не исключено, что в их распоряжении просто находилось некоторое количество рабов, которые выполняли основную работу на корабле.
В реальной жизни большинство пиратских экипажей состояло из 50–70 человек. Однако были и сверхкрупные пиратские экипажи. Например, можно отметить, что у Робертса в 1721 году под командованием было 368 человек, а у капитана Энгланда двумя годами ранее — 380 человек.
Откуда брались такие цифры? Итак. С одной стороны, у нас власти закручивают гайки, с другой — пиратские экипажи не становятся более малочисленными. Почему? Пираты использовали следующий прием. Они делали вид, что берут людей в плен, однако на самом деле эти люди присоединялись к пиратам. Зачем нужно было городить такой огород? Дело в том, что если человек мог представить суду доказательства, что его насильно заставили путешествовать с пиратами и принимать участие в их деятельности, то его вполне могли и отпустить. Поэтому в некоторых случаях капитаны пиратских кораблей выписывали своего рода бумагу, подтверждающую, что
В некоторых случаях разыгрывались целые сцены. Известно, например, что на суде по обвинению в пиратстве некоего Ричарда Скотта трое его бывших товарищей по работе в торговом флоте — Стивен Томас, Гарри Глазби и Генри Даусон — свидетельствовали, что пираты захватили Скотта насильно, Скотт со слезами на глазах умолял пощадить его, поскольку у него есть жена и маленькие дети, их надо кормить, — но пираты его все равно уволокли. На самом деле Скотт совершенно добровольно отправился к пиратам, однако суд счел, что этих свидетельств было достаточно для того, чтобы его помиловать. Мы не знаем, удалось ли Скотту заработать пиратством
Для того чтобы усилить свидетельство того, что человек на самом деле не добровольно попал к пиратам, была распространена даже такая практика: те, кто оставался на свободе, кого пираты не забирали к себе, помещали для своих товарищей объявления в лондонских газетах — о том, что господин
Некоторое время это работало, и работало хорошо, но, естественно, через
Поэтому с течением времени пиратство стало исчезать, золотой век пиратства закончился, а до нас дошло большое количество таких вот странных свидетельств о том, что пираты массово брали людей в плен. Тогда как на самом деле это был просто способ присоединиться к пиратскому братству.
К сожалению, у нас нет большого количества достоверных сведений о том, где пираты прятали полученную ими добычу. Они не имели привычки вести дневник, не оставляли завещаний — и не исключено, что чаще всего они попросту проматывали свою добычу.
Но до нас дошли некоторые сведения о том, когда удача действительно улыбалась пиратам, то есть о некоторых самых крупных пиратских добычах. Например, в 1695 году несколько пиратских кораблей под командованием Генри Эвери захватили добычу общей стоимостью 600 тысяч фунтов. На одного пирата тогда пришлось порядка одной тысячи фунтов добычи. Чтобы было понятно, как это соотносится с заработком в рамках честной жизни, можно сказать, что примерно столько можно было заработать, работая в течение 40 лет моряком в торговом флоте. В данном случае пиратам эту сумму удалось захватить всего лишь за один рейд.
Есть и другие интересные сведения о пиратской добыче. Например, в начале XVIII века экипаж капитана Томаса Уайта вышел из бизнеса в полном составе и поселился на острове Мадагаскар, после того как во время очередной экспедиции им удалось получить добычи по 1200 фунтов на человека.
В 1720 году экипаж под командованием Кристофера Кондента захватил добычу с рекордным призом в 3000 фунтов на человека. После этого Томас Мор, который плыл на одном из кораблей и оказался захвачен этими пиратами, подслушал, как члены экипажа обсуждали выход из бизнеса, поскольку они получили вполне достаточную добычу.
Напомним, что был еще такой удачливый капитан Бартоломью Робертс, который за три года захватил 456 кораблей с общей оценкой добычи в 50 миллионов фунтов.
Однако нужно понимать, что, скорее всего, такие удачи случались крайне редко. Именно поэтому мы можем по пальцам перечислить все крупные призы пиратов. Чаще всего их добыча была крайне незначительной и могла ограничиваться только продуктами питания и минимальными предметами одежды. Либо это могли быть товары, которые, прежде чем превратиться в сокровища, должны были быть
Однако нас продолжают будоражить разнообразные сведения о кладах, которые пираты прятали. Между тем далеко не все пираты могли
По этому поводу показательны рассуждения Джона Сильвера из романа «Остров сокровищ»: «Да, — сказал Сильвер. — А где они теперь? Такой был Пью — и умер в нищете. И Флинт был такой — и умер от рома в Саванне. Да, это были приятные люди, веселые… Только где они теперь, вот вопрос!»
Значительное количество пиратов, безусловно, заканчивали свои дни либо на виселице, либо спиваясь, либо погибнув при очередном набеге. Однако до нас доходят легенды — и все мы хотим верить в то, что пираты оставляли клады и что эти клады мы с вами можем найти. Есть несколько очень известных историй про клады — от самых известных капитанов.
Про одного из самых успешных пиратов, Генри Моргана, говорят, например, что
Помимо сокровищ Моргана на Панамском перешейке, его клад ищут также на острове Кокос. За последние примерно 200 лет этот остров посетили тысячи кладоискательских экспедиций, однако ни одна из них успеха не добилась. Предполагается также, что сокровища Моргана могут оказаться и
Здесь будет нелишним отметить совершенно безумную версию о том, что Стивенсон как раз нашел один из кладов Моргана. Он догадался, что островов Кокос было не один, а два. И поехал на второй из них, ныне называющийся Самоа, отрыл там клад и, для того чтобы никуда его не перевозить, выстроил там виллу, в которую вмонтировал сейф, куда и спрятал все сокровища. Разумеется, как и со всеми историями о пиратских кладах, это не более чем легенда.
Еще один известный пират, о чьих кладах ходят легенды, — это Оливье Левассёр. Говорят, что, когда его собирались повесить, он со словами «Можете насладиться моими сокровищами, если сможете это разгадать!» бросил в толпу листок с
Легенды остаются легендами. И не так много кладов на самом деле нашли своих новых владельцев.
«Остров сокровищ» я попробовала прочитать, когда мне было лет 12 или 13, и я помню, что я его не дочитала, потому что в
Я расскажу о романе французского писателя Эжена Сю «Парижские тайны». Он был опубликован в 1842–1843 годах и имел бешеный успех. Об этом успехе мы можем судить как минимум по тому, сколько подражаний он породил. Очень скоро после его публикации и затем в течение XIX века вышли «Лондонские тайны», «Российские тайны», «Петербургские трущобы» — это роман писателя Крестовского, тоже подражание роману Эжена Сю. Были «Тайны» лиссабонские, неаполитанские, флорентийские, брюссельские, берлинские.
В чем, собственно, заключается сюжет книги? Нам показывают Париж, причем Париж не только и не столько великосветский, что было привычно для романов, сколько парижское дно: в романе действуют воры, проститутки, разные люди сомнительных профессий, бедные, несчастные. Эжен Сю изначально думал показать это парижское дно примерно так, как американский писатель Фенимор Купер показывал индейцев, — то есть показать светским, образованным читателям то, чего они, в общем, не знают и не замечают, хотя это происходит рядом с ними.
В то время Эжен Сю был уже очень известным писателем, и его биография довольно любопытна. Сначала он был морским врачом, потом получил наследство от отца, который тоже был врачом, и стал вести роскошную жизнь денди, то есть очень модного франта. При этом Сю писал морские романы, в которых действовали вовсе даже не денди, а грубые моряки. И это приводило к забавным водевильным ситуациям: читателям трудно было вообразить реальный облик писателя. В одном из очерков этого времени описывается фойе Парижской оперы, где прогуливаются разные знаменитые люди, и автор обращается к читателям: «Вы вбили себе в голову, что господин Сю — толстый, грубый и неопрятный моряк, а господин де Бальзак — хрупкий, бледный кавалер, с видом слащавым и задумчивым. Отодвиньте живот Бальзака, и вы насладитесь видом одетого с иголочки господина Сю». То есть Сю описывал грубых моряков, а сам был худощавым франтом; Бальзак, наоборот, описывал светскую жизнь и разных изысканных дам, которые очень любили читать его произведения, но сам был толстый и пузатый, хотя тоже претендовал на звание денди.
На страницах своего романа о парижском дне Сю говорит о нем так: слабая книга с точки зрения искусства, но зато очень нужная книга с точки зрения морали. Это чистая правда: потом мы увидим почему. Я далеко не всегда соглашаюсь с Виссарионом Григорьевичем Белинским, нашим великим критиком, но тут он написал про этот роман очень точно: «…роман Эжена Сю — верх нелепости. Большая часть характеров, и притом самых главных, безобразно нелепа, события завязываются насильно, а развязываются посредством deus ex machina». «Бог из машины» — это элемент античного театра: там в самом деле появлялся в конце представления бог и разрешал все противоречия, которые не могли быть разрешены человеческими средствами.
Действительно, в романе все это есть. Тем не менее даже сейчас, когда я его перечитывала, то не могла не признать, что он очень увлекателен. И чувствуешь себя примерно как ребенок в театре, который видит, что сейчас Волк съест Красную Шапочку, и кричит Красной Шапочке: «Там Волк, Волк, осторожно!» Тут точно так же.
В этом романе много сюжетных линий, поэтому пересказать его совершенно невозможно — и не нужно. Но вкратце так: есть благородный и всесильный Родольф. Умберто Эко, знаменитый итальянский писатель нашего времени, рассказ об этом Родольфе включил в свою книгу о супермене Имеется в виду «Superman для масс. Риторика и идеология народного романа».. Родольф действительно, говоря современным языком, супермен, хотя в эпоху Эжена Сю этого слова не знали. Он странствует по Парижу и помогает разным людям, как правило, низкого происхождения, которые попали в беду. У него есть разные возможности для этого: он может и поучаствовать в кулачном бою, и заплатить выкуп, он может с
Среди прочего он помогает девушке, у которой прозвище Певунья, еще ее называют Лилия-Мария. Она падшая девушка, но абсолютно благородная и в душе чистая, и опять-таки читатель очень скоро узнаёт, что эта девушка — дочь Родольфа, а он думает, что дочь умерла (Эжен Сю от читателя этого не таит и сообщает в примечании). И вот мы хотим ему закричать: это твоя дочь, не упускай ее из вида! С ней происходит все время то хорошее, то плохое. То она в притоне, потом Родольф ее из притона освобождает, она попадает на идеальную ферму, где все прекрасно. Оттуда ее похищают — она попадает в тюрьму. Из тюрьмы ее освобождают, но тут же ее опять хватают плохие люди и пытаются утопить ее в реке. Утопить не удается — она попадает в больницу… И примерно по той же схеме все происходит с другими героями, которым Родольф тоже помогает, но, естественно, не сразу.
Те подражания, о которых я упомянула вначале, в основном касались таких сюжетных перепадов. И мы знаем несколько очень знаменитых романов тайн с многими сюжетными линиями, где рано или поздно обязательно выясняется про разных героев или что они в родстве, или что они участвовали, сами того не понимая, в
Казалось бы, и до сих пор это интересно читать, следить за сюжетом, волноваться за героев. Но я буду рассказывать о том, чего, я думаю, не знают современные читатели романа и, главное, чего не знают зрители одноименного фильма с Жаном Маре в главной роли Имеется в виду фильм Андре Юнебеля «Парижские тайны»(1962).. Это костюмный и до
Я сказала в самом начале, что роман вышел в 1842–1843 годах. Почему это заняло целых два года? Бывает, что если в романе два тома, то, например, один том выходит в одном году, а другой — в другом. Здесь не так. Этот роман печатался изначально в газете. В Париже выходила большая ежедневная политическая газета; она была, что называется, официозная, то есть правительственная. Называлась газета Journal des débats — «Газета прений». Изначально она была создана для того, чтобы печатать прения, дискуссии, которые идут в палате депутатов, но одновременно там, естественно, печаталось и много другого. И есть такое изобретение, которое появилось сперва во Франции, а потом его переняли, в частности, и в России, — фельетон. Мы привыкли, что фельетон — это
Издатели газеты платили специальный налог. Но в
Надо помнить, что газеты в это время не продавались в розницу и нельзя было, как у нас сейчас, пойти в киоск и купить один номер газеты. Газеты распространялись только по подписке. Можно было подписаться на три месяца, на полгода или на год, и цена была довольно высокой. Подписка на год стоила 80 франков, а довольно обеспеченный рабочий зарабатывал в год
«Пресса» начала выходить летом 1836 года, а осенью уже вышел первый роман-фельетон — это был роман Бальзака «Старая дева», сравнительно короткий. Эжен Сю печатал «Парижские тайны» с 19 июня 1842 года по 15 октября 1843-го, с паузой в месяц. Читатели — мы знаем этот эффект по современным телесериалам — оказывались на крючке. Было специальное искусство обрывать текст на самом интересном месте, чтобы написать там: «Продолжение следует». Сейчас это называется саспенс. Мы часто думаем, что такие приемы придумали в ХХ–ХХI веках, а раньше такого не было. Но такое было — вот в этих романах-фельетонах, которые пользовались страшной популярностью. Они печатались в газетах, и некоторые люди вырезали фельетоны и сами переплетали, чтобы получить самодельную книгу. Кроме того, главы печатались — уже после газетной публикации — в виде отдельных брошюрок, которые тоже можно было сплести в общий текст, а потом уже, когда печатание фельетона заканчивалось, издавалась отдельная книга. В результате аудитория романа очень увеличивалась.
Другой замечательный французский писатель, Теофиль Готье, рассказал о романе Сю: «Его читали все, даже неграмотные — им декламировал вслух
Но почему я сказала, что люди XIX века, как выясняется, читали эти «Парижские тайны» не так, как мы? Они, конечно, следили за интригой, за этими «продолжение следует», интересовались, что произойдет дальше с героями. Но в письмах читателей к Эжену Сю (эти письма сохранились и большинство опубликовано) обнаруживается совершенно потрясающая картина: роман читали не ради острой интриги. Вот, к примеру, что пишет Эжену Сю один каменотес: «Я рабочий, у меня для чтения мало времени, и еще меньше — денег, поэтому я выбираю книги как можно более серьезные, а значит, сами понимаете, романов сторонюсь. Однако я знаю, что попадаются порой романы, свободные от обычных глупостей. Они полны настоящей философии и оказывают великую услугу делу прогресса».
Таких писем очень много, из экономии времени я не буду их цитировать все, потому что, повторюсь, они изданы и проанализированы. Я сказала, что сначала Сю не думал превращать свой роман в
Когда школьники пишут сочинение про «Евгения Онегина», обычно упоминают лирические отступления. А в «Парижских тайнах» — не лирические, а, я бы сказала, идеологические отступления. Что там обсуждается? Права женщин, право на развод (в течение почти всего XIX века развод был во Франции запрещен), польза одиночного заключения — потому что во Франции одиночное заключение было большой редкостью, все заключенные спали вповалку и, естественно, заражали друг друга пороками, физическими и нравственными. В романе обсуждаются и другие серьезные проблемы: обязанности правительства и государства по отношению к оступившимся гражданам, вред смертной казни и прочее.
Эти отступления были не очень длинные, но они очень важные, и читатели реагировали именно на них. Постараюсь показать, как они устроены. Например, про развод. В романе есть второстепенный, в сущности, персонаж — некий маркиз д’Арвиль. Он женился и скрыл от жены, что страдает эпилепсией, и поэтому жене д’Арвиль омерзителен, а он ее любит. И из благородства он кончает с собой, чтобы не мешать ей жить счастливо. И Сю подводит итог: «Но если бы у нас существовал развод, разве этот несчастный покончил бы с собой? Нет — он мог бы частично искупить содеянное зло, вернуть своей жене свободу, чтобы она могла найти счастье в новом супружестве. Так неумолимая окостенелость закона делает порой некоторые ошибки непоправимыми или, как в нашем случае, позволяет их исправить лишь ценой нового преступления» — потому что самоубийство в христианском обществе считается преступлением.
Еще один пример — про тюремное наказание. Сю пишет: «…ваша система наказаний, вместо того чтобы исправлять, развращает людей. Вместо того чтобы улучшать нравы, она их ухудшает. Вместо того чтобы исцелять моральный недуг, она превращает его в неисцелимую болезнь». Смертная казнь никого ничему не учит, если она происходит вдали от толпы. Впрочем, чаще всего в то время она как раз происходила на виду, но и это не приносило никакой пользы. В тогдашнем Париже была специальная площадь для казней, толпа ходила туда как на праздник, хохотала, и никакой поучительности в этом вовсе не было.
Роман Сю печатался, напомню, в почти правительственной газете, и читатели получали вместе с острым сюжетом проповедь. И проповедь эта была обращена не только и не столько к низшим классам, сколько к высшим. Сю призывал богатых заниматься благотворительностью. Одновременно Сю их немножко пугал — мол, если вы не будете помогать бедным, то они сделаются разбойниками и грабителями, которых уже никто не исправит.
И дальше происходит удивительное. Возникает постоянный контакт романа и жизни, и одно влияет на другое, причем это влияние работает в обе стороны, чего, конечно, не происходит, когда роман появляется сразу в виде книги; в этом случае читателям гораздо труднее повлиять на роман. А вот когда роман печатается в газете, эти контакты между жизнью и произведением становятся гораздо более интенсивными. Например, Сю получает письмо от благотворительницы, и эта дама ему пишет, что она занимается благотворительностью, но ей недостает рекламы. Ей надо, чтобы об этой благотворительности знали другие люди, и они тоже тогда, может быть, к ней присоединятся. И после этого Сю усиливает линию благотворительности в своем романе и показывает разных прекрасных дам, которые этим занимаются. Таких писем у Эжена Сю накопилось огромное количество — до 500 или даже больше. И он завел специальную рубрику в этой же газете, которая называлась «Письмо господина Эжена Сю редактору Journal des débats», и в этой рубрике он печатал отрывки из писем к самому себе. То есть вот этот контакт с одними читателями был явлен остальным читателям, которые могли про это не знать.
В сам роман Сю включал факты (например, судебные случаи), взятые из жизни. Скажем, там показан вор-рецидивист, который украл
Еще интереснее дело обстоит с концом романа. По походу своего повествования Сю ищет способы, как помочь бедным людям, отверженным. И предлагает такую меру — создать беспроцентный банк, который будет выдавать рабочим, потерявшим работу, беспроцентную ссуду с тем, чтобы они потом, когда начнут работать, благородно сами ее возвращали. Вот такой рецепт. Казалось бы, чистая утопия.
Как я сказала, роман печатался в Journal des débats до 15 октября 1843 года. В книжном издании есть эпилог, последние слова. Роман заканчивается на том, что Лилия-Мария, та самая Певунья, хотя и обрела своего родителя, но тем не менее умерла, ее похоронили. Но в газете роман на этом не кончается, потому что в последнем номере есть датированное тем же числом письмо Эжена Сю к редактору Journal des débats. И в этом письме он рекомендует ему газету «Народный улей», которую выпускали рабочие. Эта газета на первой странице цитирует слова Родольфа, главного героя «Парижских тайн», о том, как хорошо помогать несчастным, но лучше предупреждать несчастье и преступление. Дальше эта народная газета призывает богатых следовать примеру Родольфа и сообщает, что в редакции есть адреса тех, кто нуждается в помощи, а вы, богатые, можете обратиться в редакцию, если хотите участвовать в благотворительности, и получить эти адреса. А дальше сам Сю пишет, что ему из Лиона и Бордо сообщают, что там начали воплощать в жизнь утопическую, казалось бы, идею о беспроцентном банке для безработных трудящихся.
К чему я клоню все это время: что тот факт, что роман печатался в газете, менял отношения текста с жизнью, напрямую соединял писателя с читателями, и оказывалось, что ценен он не столько интригой, сколько вот этим своим социальным пафосом. Это довольно удивительно, и этого нельзя понять из самого текста или из фильма.
Почему это для нас важно? Не только потому, что затрагиваются вопросы, которые остаются вполне современными: права женщин, смертная казнь, возвращение бывших заключенных к нормальной жизни и прочее. Мне кажется, что есть минимум еще две причины, почему это важно. Во-первых, есть такая идея, которую часто повторяют, и мне самой случалось ее повторять, что Россия — литературоцентрическая страна и у нас в XIX веке не было философии и ничего не было, кроме литературы, и поэтому все социальные вопросы решались в романах, в художественной литературе. Это правда, но гордость за то, что это было только у нас, не совсем правильная. Не скажу про другие страны, но во Франции мы видим на примере «Парижских тайн», что роман читали не только и не столько как художественное произведение, а как учебник жизни. Там искали рекомендации, как жить. В этом смысле мы с французами очень, так сказать, сродни — мы не одни были такие литературоцентричные.
Почему роман Эжена Сю еще важен? Без него, я думаю, не было бы как минимум двух очень знаменитых произведений русской классической литературы XIX века.
Прежде всего, это, конечно, «Преступление и наказание» Достоевского, который, бесспорно, читал Эжена Сю. В «Парижских тайнах» есть такая героиня Луиза Морель, которая вынуждена, чтобы спасти свою семью, вести жизнь падшей женщины и даже потом рожает ребенка. Над ней надругался злой человек, и ребенка она рожает мертвого, а ее обвиняют в том, что она его убила, — в общем, страшная история. И конечно, эта Луиза Морель, как и Лилия-Мария, хотя ведет грязную жизнь, но в душе чистая, как Сонечка Мармеладова. Однако этим дело не ограничивается.
Я упоминала маркиза д’Арвиля, но в романе есть еще другой знатный герой, герцог де Люсине, довольно нелепый персонаж, но тем не менее он очень скорбит о том, что его друг д’Арвиль покончил с собой. И в связи с этим он вспоминает притчу о портном: «Некоего портного осудили на казнь через повешение, но во всем городке больше портных не было. Как поступают горожане? Они пришли к судье и сказали ему: „Господин судья, у нас в городе только один портной, а башмачников — трое; если вам все равно, повесьте лучше одного из них вместо портного — нам хватит и двух башмачников“». И этот герцог мысленно составляет список людей, чья смерть была бы для него совершенно безразлична: пусть бы лучше умерли они, а не маркиз д’Арвиль.
Так вот, вся эта коллизия в точности повторена в «Преступлении и наказании», хотя об этом, может быть, не все помнят. Раскольников, когда он уже обдумывает убийство старухи-процентщицы, слышит разговор офицера и студента. И студент говорит офицеру: вот, с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и даже, напротив, всем вредная, а с другой стороны, если ее убить и взять ее деньги, можно сделать тысячу полезных дел.
«Одна смерть — и сто жизней взамен — да ведь тут арифметика! — говорит этот студент. — Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана. Да и того не стоит, потому что старушонка вредна». Как мне кажется, это рассуждение очень похоже на рассуждение того довольно нелепого герцога. И Эжен Сю, и Достоевский считают, что такая арифметика невозможна, она безнравственна. Достоевский, конечно, мог и сам придумать эту коллизию, но я думаю, что гораздо более вероятно, что он запомнил ее, когда читал «Парижские тайны».
Еще один роман, который, наверное, был бы по меньшей мере другим без «Парижских тайн», — это «Что делать?» Николая Чернышевского. В романе Сю есть повторяющийся мотив — один герой говорит другому: ну давай помечтаем, вот представь себе, как бы могла сложиться твоя жизнь, если бы все было так, как ты мечтаешь, идеально. И тот, второй, сначала не соглашается: ну а что мечтать о невозможном! — а потом начинает эту утопию рисовать, строить воздушные замки, придумывать идеальный вариант. А потом оказывается, что этот воздушный замок вдруг осуществляется.
Конечно, в «Парижских тайнах» чаще всего всё осуществляется с помощью Родольфа, который — и это в романе даже внятно проговорено несколько раз — такая замена Бога на земле. Он всемогущ, как Бог. Мы скажем — супермен, а Эжен Сю говорил «как Бог», и те люди, которых он спасает, смотрят на Родольфа как на божество. Но одновременно там есть и конкретные почти что бизнес-планы — в частности, тот самый беспроцентный банк, о котором я говорила.
И еще вот что: в романе есть более или менее второстепенная героиня, ее зовут
И это, мне кажется, уже немалый вклад Эжена Сю в русскую литературу. А главное в его книге — тот самый феномен, о котором я говорила: когда прямо на наших глазах роман перетекает в жизнь, а жизнь потом перетекает обратно в роман. Такое случается нечасто, и,
У меня нет воспоминаний о том, как я в детстве зачитывалась этим романом. Я его читала в первый раз, наверное, когда училась в университете — честно сказать, он на меня не произвел сильного впечатления. Но лет десять назад вышла книжка замечательной современной французской исследовательницы Жюдит Лион-Каэн, она историк и историк литературы. Лион-Каэн написала книгу, которая называется
Есть пьеса Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора», а я написала рецензию на эту книгу и назвала ее «Персонажи в переписке с автором» В. А. Мильчина. Персонажи в переписке с автором. Рец. на кн. J. Lyon-Caen. La Lecture et la Vie. Les usages du roman au temps de Balzac // Новое литературное обозрение. № 3. 2008.. И тут для меня открылось то, о чем я сейчас попыталась рассказать, а именно то, что «Парижские тайны» — это не только остросюжетный роман, но еще и роман идеологический, моральный. Лион-Каэн подробно анализирует, что писали читатели Эжену Сю и Бальзаку. И оказывается, что в историческом контексте «Парижские тайны» звучат совершенно иначе. То есть Лион-Каэн, как настоящий хороший историк, опускает этот роман в историческую действительность. Это страшно увлекательно.
Я написала рецензию, перевела главу из этой книги как раз про то, как читали Эжена Сю. Так что мое сильное впечатление от «Парижских тайн» было опосредованное — через другую книгу.
Сегодня мы поговорим о романе Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Готовясь к лекции, я подумала: с
Французский литературный критик и историк литературы конца XIX века Фердинанд Брюнетьер сказал замечательную фразу: «У каждого из нас в душе живет привратник, и вот к
Дюма говорил, что история — это «гвоздь, на который я вешаю свои романы». И можно это трактовать буквально: он в своих романах из разных эпох всегда использовал исторические события. В «Монте-Кристо» это может быть не так очевидно, как, например, в «Трех мушкетерах» или его многочисленных романах из истории Французской революции, но история там тоже присутствует.
Русскоязычные читатели начиная с 1946 года (думаю, за это время «Графа Монте-Кристо» переиздавали не меньше сотни раз) читают первую фразу романа так:
«Двадцать седьмого февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам-де-ла-Гард дал знать о приближении трехмачтового корабля «Фараон», идущего из Смирны, Триеста и Неаполя». Пер. В. Строева и Л. Олавской в редакции Н. Галь и В. Топер.
Когда я, готовясь к лекции, перечитывала роман (грешным делом
Поэтому для французов 27 февраля 1815 года — это все равно как для русскоязычного человека прочитать в романе, что, к примеру,
Тем не менее 24-е или 27-е — это, в общем, для истории уже не так важно: все равно понятно, что это тот самый февраль 1815 года, то есть дата не нейтральная, и сам роман тоже, хотя это не так очевидно, как с другими, укоренен в истории.
Дюма рассказал о происхождении сюжета романа две «байки» — я употребляю ненаучное слово, а
Первая байка — о происхождении сюжета. Дюма сам написал уже после выхода романа очерк под названием «Акт гражданского состояния графа Монте-Кристо». Это предыстория. Что он там рассказывает? Что издатели заказали ему путевые заметки о Париже, описания Парижа, которые были страшно популярны, но потребовали, чтобы они строились по модели «Парижских тайн» Эжена Сю, о которых я рассказывала в предыдущей лекции. Описание Парижа, но остросюжетное.
И тут Дюма пишет, вспоминая, что он читал такую многотомную книгу под названием «Извлечения из архивов полиции». Автором ее значился некий Жак Пеше, который действительно был архивариус парижской полиции. Так вот, в одном из томов был опубликован рассказ под названием «Алмаз и мщение». И там рассказывается история, которая действительно отчасти похожа на историю Эдмона Дантеса. Там тоже есть молодой человек, сапожник Пико, хотя это происходит в другую эпоху, еще при Наполеоне, и обвинили его несправедливо, тоже из зависти, его же близкие друзья. Но Эдмона Дантеса обвинили в том, что он пособник Наполеона, когда Наполеон еще был свергнут. А сапожника Пико обвинили в том, что он работает на англичан: Англия с Францией в те времена были в больших контрах. И дальше этот сапожник отсидел
Дюма пишет об этом рассказе так: «В таком виде это был чистый идиотизм, неотделанная жемчужина, ожидающая своего гранильщика». И он решил использовать эту сюжетную линию в качестве предлога для путешествия героя своего будущего романа в Париж. А соавтор Дюма Огюст Маке сказал ему, что тогда он упускает самое интересное — как все началось, историю самого героя, как именно его предали. И тогда Дюма написал начало, которое мы знаем, про Мерсе́дес или Мерседе́с: я не знаю, как произносить — п
Дюма опубликовал рассказ «Алмаз и мщение» в приложении к одному из изданий, не первому, но довольно скоро после первого. Я прочла этот рассказ. Что это чистый идиотизм, совершенно согласна, тут Дюма был абсолютно прав. Это слишком похоже на «Монте-Кристо», но слишком не похоже на реальность. И тут оказалось, что умные люди уже исследовали этот вопрос, и еще в XIX веке был такой знаменитейший библиограф Керар, который все знал про старые книги. Керар написал, что автор, Жак Пеше, действительно был архивариусом, но вот эта книга издана уже после его смерти, то есть он за нее ответственности не несет. И там не то чтобы опубликован
Дюма, конечно, читал эту историю, и он, безусловно,
У Дюма, конечно, все в большом масштабе — и бегство с помощью аббата Фариа, когда Эдмона Дантеса выбрасывают зашитого в мешок и он, конечно, в море не тонет, а выплывает. И сокровища он нашел огромные, а у того сапожника был
Означает ли это, что роман Дюма совершенно вымышленный? Как ни странно, оказывается, нет. Но достоверность его можно доказать другим способом. Тут я вынуждена отослать за подробностями к своей предыдущей лекции про роман Эжена Сю «Парижские тайны», который печатался в газете с продолжением. Там я рассказала, как возникла сама эта идея — печатать романы с продолжением. Здесь не буду повторяться, но только скажу, что «Граф Монте-Кристо» тоже не сразу явился на свет в виде книги, как мы привыкли читать: два тома или если очень толстый, то один том, — а был напечатан в той же газете Journal des débats, что и роман Эжена Сю.
Он печатался долго довольно, с 28 августа 1844 года по 15 января 1846-го. Была газета, верхняя ее часть, где публиковались политические новости, а внизу — «Монте-Кристо», с продолжением. И мне стало любопытно, я посмотрела самый первый номер газеты, от 28 августа 1844 года, — что там напечатано не внизу, в подвале, где роман, а вверху, где современная политика. Что я там вижу? Была такая рубрика во французских газетах, которая называлась Faits divers,
Что же мы читаем в номере от 28 августа 1844 года? История гувернантки прусского консула в Бейруте. Она обручилась с прусским же консулом в Иерусалиме, а
То есть новости в газетах 1844 года очень «романические» (такое слово было в XIX веке). Это не значит, что Дюма брал новости и использовал их как источник. Но на этом фоне уже события, описанные в «Монте-Кристо», не кажутся такими невероятными.
А дальше есть по меньшей мере два совершенно достоверных исторических случая, которые произошли уже после выхода романа, то есть они на роман воздействовать никак не могли, но доказывают, что события, описанные в романе, не такие уж невероятные. Возьмем бегство из превосходно охраняемой тюрьмы: Эдмон Дантес, как мы помним, сбежал, потому что он в качестве трупа был зашит в мешок вместо умершего аббата Фариа. Публикация романа завершилась в начале 1846 года. А что происходило в том же 1846 году, но в мае?
У Наполеона I, который к тому моменту давно покоился в могиле, был племянник, Луи Наполеон Бонапарт — впоследствии император Наполеон III. В это время он еще был просто принц Луи Наполеон Бонапарт и никто не знал, что с ним будет дальше, но он уже претендовал в
А другая история — еще более кошмарная, но тоже имеет некоторое отношение, мне кажется, к роману. Один из тех нехороших людей, предавших Эдмона Дантеса, который был влюблен в Мерседес и женился на ней, вот этот самый Фернан, стал пэром Франции. Франция была в этот момент конституционной монархией. Там имелся парламент с двумя палатами — палатой депутатов и палатой пэров. Депутатов выбирали, а пэров назначал сам король. Это высшая палата, и в ней действительно состояли люди самые уважаемые и почтенные. И вот когда этот Фернан стал пэром, вдруг раскрылись его предыдущие страшные преступления и предательства, и все это огласили прямо на заседании палаты пэров, был чудовищный скандал. Это стало трагедией не только для Фернана, но и для палаты пэров.
Так происходило в романе. А что было в действительности? Был пэр и настоящий герцог, не такой, как Фернан, который превратился из рыбака в пэра благодаря своим темным делам, а настоящий родовитый герцог де Шуазёль-Прален. У него была жена, очень ревнивая, они родили девять детей, долго жили в браке, но жена мучила его всякими претензиями, обижалась, что он мало на нее обращает внимания. Сначала он очень хитро пытался с этой женой покончить: он отвинтил, как потом выяснилось, у балдахина над кроватью все винты, кроме последнего, в надежде, что этот балдахин рухнет, а ему не придется прикладывать руку. Но в один непрекрасный день она его так довела, что он ее — ужасно! — искромсал ножом. Сначала де Шуазёль-Прален отрицал свою причастность, но потом стало понятно, что никто, кроме него, этого сделать не мог. А судить пэра могла только палата пэров. То есть был чудовищный скандал на всю Францию.
Если учесть, что незадолго до этого другого министра посадили за, как сейчас бы мы сказали, коррупцию, то для Франции и для правительства это было совсем не хорошо. Власти закрыли на это глаза и дали герцогу покончить с собой — он себя отравил, потому что ему уже некуда было деваться. Кошмарная история. Это вовсе не источник Дюма, но это нам доказывает, что описанное у Дюма не так невероятно, как может показаться.
Конечно, главная связь романа с исторической действительностью в другом. Я уже упоминала Наполеона I и Луи Наполеона Бонапарта. Дюма общался, естественно, не с Наполеоном I, потому что тогда он был слишком молод, а с принцем Луи Наполеоном и с другими членами семьи Бонапарта. Он рассказал про происхождение романа две байки.
Одну мы уже знаем. А вторая байка касается происхождения названия «Монте-Кристо». Якобы Дюма попросили сопровождать в путешествии еще одного члена этой большой, разветвленной семьи Бонапарт — принца, которого тоже звали Наполеоном, сына Жерома Бонапарта. То есть он был главному, первому Наполеону племянник, а Луи Наполеону Бонапарту, который стал потом Наполеоном III, приходился кузеном.
Этого самого молодого Бонапарта Дюма сопровождал в путешествии по Италии. Они посетили Эльбу, а потом увидели маленький островок, и выяснилось, что островок этот называется Монте-Кристо. Они хотели на него высадиться, но моряки, которые их везли, сказали, что тогда там была
Это было в 1841 году, а воспоминания об этом Дюма написал через 15 лет. И якобы принц после поездки спросил: «Ну и зачем мы плавали вокруг этого острова?» А Дюма ответил: «Чтобы я в память об этом плавании назвал свой новый роман «Граф Монте-Кристо»». Я думаю, что все это вымысел. То есть они, наверное, плавали, но в этот момент Дюма совершенно еще не думал о том, что он назовет роман «Монте-Кристо», и ничего такого не сказал, а потом просто использовал красивое слово.
То, что Дюма тесно общался с членами семьи Бонапарт, отнюдь не значит, что он был бонапартистом. Это была очень влиятельная партия, и чем дальше после смерти Наполеона, тем более влиятельной она становилась, что и привело к тому, что тот самый его племянник стал императором Наполеоном III. Дюма совсем этого не одобрял, и, в общем, дело не в том, был Дюма бонапартистом или нет, а в том, что Дюма показывает страшно важную вещь для истории Франции, о которой хорошие французские историки много писали. Франция — страна постоянной политической разделенности на разные партии. То есть, наверное, это можно сказать и про любую страну, но французы ощущают это очень остро. И это не обязательно политические партии — это могут быть религиозные «партии» — например, католики и гугеноты.
Я упоминала, что сапожник, герой той первой истории, «Алмаз и мщение», работал на внешнего врага — на Англию, а Дантеса обвинили в том, что он якобы работает на Наполеона, это уже внутрифранцузские распри. И сюжет «Графа Монте-Кристо» в большой степени строится вокруг того, что один из врагов Эдмона Дантеса — роялист, а его отец — бонапартист. И это противостояние проходит через весь роман. Это очень важно для Франции, и именно в этом связь романа с исторической и политической действительностью.
Что касается бонапартизма, то для Дюма был важен не бонапартизм как таковой, а культ всемогущей личности. Я уже цитировала книгу Умберто Эко «Superman для масс», когда говорила про «Парижские тайны», и здесь тоже уместно ее процитировать, потому что «Монте-Кристо» в еще большей степени роман о супермене, чем «Парижские тайны», и этим суперменом, конечно, является сам Эдмон Дантес, впоследствии граф Монте-Кристо. Но Эко цитирует итальянского философа Антонио Грамши. Фраза потрясающая. Грамши писал: «Мне кажется, можно утверждать, что так называемое учение Ницше о сверхчеловеке уходит корнями не в доктрину Заратустры, а в роман «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма».
То есть вот какие, оказывается, последствия были у романа Дюма: сам Ницше придумал своего сверхчеловека, потому что читал «Графа Монте-Кристо». Это очень интересная идея, и она показывает, что для
Я сказала, что роман печатался в газете, и в этом смысле он, так сказать, плоть от плоти газеты. Но дело не только в этом. Там есть два эпизода, которые показывают роль прессы, и это очень современно, потому что мы живем, скажем так, в эпоху, когда газеты — неважно, на бумаге или в интернете, — определяют наше сознание. Как мы знаем от французского философа Бодрийяра, сейчас вообще важнее стало то, что показали по телевизору или в интернете, чем то, что происходило в действительности. Но началось это все в XIX веке, когда существовали только бумажные газеты. И вот два эпизода на эту тему.
В четвертой части, когда Эдмон Дантес уже превратился в графа Монте-Кристо, он подкупает служащего телеграфа, и тот передает неверное сообщение, которое потом поступает в газеты. Дальше я просто прочитаю: «Вечером в «Вестнике» было напечатано: «Телеграфное сообщение. Король дон Карлос Это был претендент на испанский престол. — Прим. лектора., несмотря на установленный за ним надзор, тайно скрылся из Буржа и вернулся в Испанию через каталонскую границу. Барселона восстала и перешла на его сторону»». Один из врагов Монте-Кристо, узнав об этом заранее, успел продать свои облигации, и все только и говорили о его удаче — он отреагировал на вот эту телеграфную новость газетную.
А поскольку Монте-Кристо подкупил телеграфного служащего и
Второй эпизод — про того самого пэра Фернана де Морсера, о котором я упоминала. Там драматическая сцена: пришли документы, которые изобличают его в том, что он предал турецкого пашу и что он предатель и изменник, и все уже об этом знают, потому что это было напечатано в газете. «Только сам граф де Морсер ничего не знал — он не получал газеты, где было напечатано позорящее сообщение, и все утро писал письма, а потом испытывал новую лошадь». И все ждут, как же он войдет, как он будет держаться, а он один ничего не знает. Причем он очень надменный, и его за это не любят, тут на трибуну выходит его заклятый враг, и все молча ожидают его речи, «один только Морсер не подозревал о причине того глубокого внимания, с которым на этот раз встретили оратора, не пользовавшегося обычно такой благосклонностью своих слушателей».
То есть, если бы он читал газету, это, может быть, в конечном счете не изменило бы его судьбу, но он по крайней мере был бы готов к тому, что его ожидает. Ну, может быть, убежал бы, мало ли что.
Конечно, не весь «Граф Монте-Кристо» посвящен газетам, но эти два эпизода очень характерны, потому что показывают, насколько они были важны для XIX века.
Завершая разговор о соответствии романа исторической действительности: Дюма мог придумать
Мы знаем, что «Граф Монте-Кристо» — это роман о мщении и роман о сильном человеке, который на все способен. Там у него бывают, конечно, моменты грусти, но тем не менее он победитель. Но если читать внимательно, то окажется, что «Монте-Кристо» еще и роман о нравственном выборе. И эта тема возникает сначала, когда еще они сидят с аббатом Фариа в замке Иф и обсуждают способы бегства и Дантес предлагает один из планов побега — убить часового, но благородный аббат Фариа не соглашается, а Дантес ему говорит, что, мол, я убью, а вы не будете иметь к этому отношения. Но Фариа не соглашается даже на такое соучастие в убийстве, даже если он сам рук не измарает кровью.
А дальше, уже когда Дантес превратился в графа Монте-Кристо, там есть такая не самая, может быть, важная для сюжета, но важная, как мне кажется, в этическом смысле беседа Монте-Кристо с очень нехорошей дамой — госпожой де Вильфор. Он достаточно иронически говорит: «В такой чистой душе, как ваша, естественно, должны возникать подобные сомнения [в том, можно ли
И дальше он ее как бы соблазняет, поскольку ему это нужно для своего мщения, что вот можно так убивать, как бы ничего не делая самостоятельно для этого. «Вы мало найдете людей, спокойно всаживающих нож в сердце своего ближнего или дающих ему, чтобы сжить его со свету, такую порцию мышьяку, как мы с вами говорили. Это действительно было бы эксцентрично или глупо». Но можно действовать
И в связи с этим он поминает известный парадокс о мандарине. Другое дело, что на самом деле этот парадокс не Жан-Жака Руссо, а другого писателя, Шатобриана, но это страшно известная вещь, про нее и Достоевский помнил. Но он тоже знал это не напрямую из Шатобриана, а из романа Бальзака «Отец Горио», и неправильная ссылка на Руссо оттуда же. Там беседуют два студента, и один из них говорит: «Помнишь то место, где он [Руссо, а на самом деле Шатобриан] спрашивает, как бы его читатель поступил, если бы мог, не выезжая из Парижа, одним усилием воли убить в Китае
То есть это тот самый соблазн, который потом Достоевский показал в «Братьях Карамазовых»: замыслил убийство Иван Карамазов, а реально убивает Смердяков — кто виноват? Тот, кто произвел действие, или тот, кто его задумал и другого подтолкнул? Это здорово очень придумано. Вот мандарина убить —
Дюма над этим размышлял, и, конечно, эта самая госпожа де Вильфор очень нехорошая, настоящая злодейка, но и Монте-Кристо тоже, наверное, не очень хорошо поступает, когда ее практически толкает на эти убийства. Хотя
Но Дюма был мудр в том, что он иногда расставлял такие как бы предупредительные сигналы: осторожно — мщение может зайти очень далеко, и при этом могут пострадать невинные люди. И вообще, когда тебе предлагают убить мандарина одной своей мыслью, ты подумай сначала — может быть, все-таки, независимо от того, стар он или молод, не нужно этого делать.
Дюма придумал современный миф, символ. И, когда мы говорим «Граф Монте-Кристо», уже не нужно объяснять, что это такое. И вот свежайшее свидетельство того, что «Монте-Кристо» жив. На портале «Горький» Лев Оборин каждое воскресенье печатает замечательные материалы — новости литературного интернета. И я там прочла, что во Франции учредили премию за лучшее произведение о тюрьме, а в жюри будут те, кто сейчас сидит в тюрьме. И они в восторге — те, которых выбрали в это жюри. И, конечно, эта премия будет называться премией Монте-Кристо. Это свидетельство того, что роман Дюма жив.
К сожалению, ничего не могу рассказать про мое личное отношение к роману «Граф Монте-Кристо». Я не помню, когда я его читала в первый раз. Наверное, когда училась в школе. Но это не оставило никаких таких специальных следов в моей памяти. Но зато я могу сказать, что мне два раза в жизни пришлось переводить Дюма.
Мы переводили с моей подругой Ольгой Гринберг, которой, к сожалению, уже нет в живых. Один роман называется «Анж Питу» — это из тетралогии, где «Джузеппе Бальзамо» и «Графиня де Шарни», времена Французской революции. И второй роман — это дилогия, про которую, как правило, никто не помнит: это последний роман, который Дюма написал. Дилогия называется «Сотворение и искупление». И я переводила первый роман, который называется «Таинственный доктор», а моя подруга переводила второй роман, который называется «Дочь маркиза».
Это мое как бы интимное общение с Дюма, и я могу сказать, что он, конечно, страшно харизматический. Это мы знаем и по «Трем мушкетерам». Тому, кто прочел «Трех мушкетеров», можно сколько угодно исторически доказывать, что этот был не такой, а этот, может быть, был другой, в голову уже впечаталось все именно так, как было описано Дюма. То же самое — про историю Французской революции.
Дюма, кстати, не врал особенно, он читал «Историю Французской революции» Мишле, серьезного историка, но у него были свои, естественно, оценки разных героев — и он может изобразить хорошим и добрым
И кроме того, там очень видно, как Дюма старался писать, чтобы были не только диалоги. Там очень все дозировано: идет описание, потом диалоги, потом автор словно вспоминает, что не только же диалоги нужны, я же не пьесу пишу — надо добавить описание, и идет на полстраницы
А в «Таинственном докторе» такая душераздирающая история: в аристократической семье накануне Французской революции родилась девочка, как сейчас бы сказали, с аутизмом, и ее практически подбросили
Вот это мой контакт с Дюма. И я ему благодарна за приятные ощущения, которые получала, когда его переводила.
Шерлок Холмс — родной для нас всех, жителей России, человек. Он даже говорил
Где же он был? Вот вопрос, который всех волнует. Оказывается, Холмс путешествовал по Российской империи. Как он овладел русским языком, неизвестно, но овладел. И он раскрывал дела в России и достиг невероятных успехов и известности. Об этом, в частности, говорилось в повести малоизвестного русского литератора Михайловича, которая называлась «Три изумруда графини В.-Д.».
Таким образом, еще в конце XIX — начале ХХ века Холмс стал невероятно популярен. В ХХ веке его популярность росла — и, конечно же, она выросла благодаря удачным экранизациям. Известно, что лучший Шерлок Холмс — это советский Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова, а лучший Уотсон — советский Уотсон, Виталий Соломин. И фильм действительно удачный, и снят с иронией (что этот фильм только украсило).
Современность знает еще одну чрезвычайно успешную кинопостановку «Шерлока Холмса». Это фильм со знаменитым актером Камбербэтчем в роли Холмса. И что существенно — этот современный Шерлок Холмс
Вернемся собственно к Конан Дойлу и к той литературной конструкции, которую он придумал больше 100 лет назад. Что именно нас восхищает и продолжает восхищать в этом литературном герое, который, кажется, действительно существует в реальности?
Здесь понятно: есть банальные вещи. С одной стороны, это шарм Холмса, его элегантность, смелость, решительность, ирония — его способность высмеивать оппонентов. Знания, которые зачастую нас удивляют и поражают. Но, разумеется, самое главное и примечательное — как он молниеносно, за несколько секунд рассказывает о другом человеке то, чего, казалось бы, никто знать не может по определению.
Прежде всего я имею в виду знаменитый эпизод с часами, когда Холмс просит у Уотсона часы, долго смотрит на циферблат (на самом деле не так уж и долго: несколько секунд) и рассказывает историю несчастного брата Уотсона. Это текст, который называется «Суть дедуктивного метода Холмса», к которому мы еще вернемся. Это самое главное объяснение того, каким образом Холмс приходит к собственным выводам. Вот что рассказывает Холмс удивленному, пораженному Уотсону, который не верит в то, что Холмс это все узнал, посмотрев на циферблат, и думает, что Холмс, конечно, его обманывает, смеется над ним и знал заранее
«Ваш брат был человек очень беспорядочный, легкомысленный и неаккуратный. Он унаследовал приличное состояние, перед ним было будущее, но он все промотал, жил в бедности, хотя порой ему и улыбалась фортуна. В конце концов он спился и умер».
Уотсон недоумевает. Он не понимает, что происходит, и с подозрением спрашивает Холмса: откуда он все это знает? И Холмс говорит: нет-нет, это вам сейчас кажется, что я сделал
«…взгляните на нижнюю крышку, в которой отверстие для ключа. Смотрите, сколько царапин, — это следы ключа, которым не сразу попадают в отверстие. У человека непьющего таких царапин на часах не бывает. У пьяниц они есть всегда. Ваш брат заводил часы поздно вечером, и вон сколько отметин оставила его нетвердая рука! Что же во всем этом чудесного и таинственного?»
Действительно: что же? Сам Холмс дает ответ на этот вопрос. Речь идет о дедукции, то есть о точном, безошибочном методе умозаключений, который гарантирует Холмсу стопроцентный результат. Или почти стопроцентный. Мы знаем, что Холмс не ошибается. За редким исключением. Есть рассказ с участием Ирен Адлер, в котором из-за внезапно вспыхнувшей страсти, если вообще такой термин к Холмсу применим, Холмс совершил несколько логических ошибок, которые не позволили ему довести дело до конца. Или, конечно, мы можем подозревать Уотсона в том, что он не рассказывает нам о неудачах Холмса… И весьма вероятно, что
Так или иначе, Холмс безошибочно определяет преступника, прошлое человека, то, что человек делал сегодня утром или вчера вечером, — и это и есть магические способности, которые нас чаруют, привязывают к этому персонажу и заставляют невероятно ему сочувствовать в самых разных делах.
Вот
Дедукция — это строгий метод умозаключения, который исходит из общего, идет к частному (сейчас я покажу, как это происходит) и гарантирует стопроцентный результат, стопроцентное попадание. Одним из самых важных теоретиков дедукции и вообще логического умозаключения в конце XIX века был философ Пирс, который ввел чрезвычайно простой и убедительный способ рассказать о довольно сложных логических построениях. Он использовал пример с фасолинами.
Представим себе, что у нас есть мешочек с белыми фасолинами. Мы абсолютно уверены, что в мешочке никаких других фасолин, кроме белых, нет. Мы знаем, что перед нами лежат фасолины из этого мешочка. Мы видим, как они оказываются перед нами. Какой стопроцентный вывод о цвете этих фасолин мы можем сделать? Разумеется, что они белые. Дедукция именно таким образом и работает.
Мы обладаем абсолютно достоверным знанием обо всех фасолинах, которые находятся в мешочке, мы знаем, что они белые. И как только мы любую фасолину извлекаем из этого мешочка, мы твердо про нее можем сказать, что она будет белого цвета. Ошибиться практически невозможно. Именно это и является дедукцией, дедуктивным следствием из правила, которое в данном случае говорит нам о том, что все фасолины из этого мешочка — белые.
По идее, Холмс так и должен всякий раз действовать. Мы сейчас увидим, так ли это на самом деле и действует ли он таким образом. Но важно сначала сказать, чему противостоит дедукция, что не является таким строгим методом и что является методом, наоборот, произвольным.
Обратимся к типу умозаключений, который называется «индукция». Если дедукция идет от общего к частному и за счет этого строит стопроцентно правильное предположение (в данном случае — о цвете фасолин), то индукция действует обратным образом. На основании частного делается вывод об общем.
Продолжим пример Пирса с фасолинами. Представим себе, что перед нами фасолины, которые взяты из данного конкретного мешочка. Мы видим, что эти фасолины белые. Человек, который следует индуктивному методу, сделает вывод, что все фасолины из этого мешочка — белые.
В чем главная проблема такого рода рассуждений? Мы не проверяли в начале все фасолины. Мы не знаем, какие в мешочке фасолины, а делаем вывод на основании частного случая. Как вы понимаете, это совершенно не так. Легко себе представить, что в мешочке есть еще, скажем, и коричневые фасолины. И тогда индуктивный метод ни к чему не ведет.
Есть еще один пример, известный всем, кто хоть
Пока мы не изучим всех лебедей вместе, мы строгое дедуктивное высказывание, утверждение, не построим. Именно поэтому так существенно для дедукции и менее существенно (совсем несущественно!) для индукции первоначальное знание всех фактов, всех характеристик данного рода явлений. В нашем случае это были белые фасолины из мешочка.
Каким же образом к своим умозаключениям приходит Шерлок Холмс? Очевидно, что индукцию он не использует. Я не проверял все тексты о Шерлоке Холмсе — может быть,
При этом, когда мы начинаем смотреть, как рассуждает Холмс, мы внезапно обнаруживаем, что и точных дедуктивных высказываний в его рассуждениях довольно мало. Высказываний точных, твердых, основанных на стопроцентной уверенности, которая базируется, в свою очередь, на достоверном знании о всех явлениях.
Для того чтобы проверить, в какой мере перед нами гадание или жесткая, твердая, логически выверенная дедукция, предлагаю разобрать эпизод, описанный в знаменитой повести «Этюд в багровых тонах», где Холмс и Уотсон знакомятся. Позволю себе процитировать, а потом шаг за шагом разберу умозаключения, которые делает Холмс.
«Здравствуйте! — приветливо сказал Холмс, пожимая мне руку с силой, которую я никак не мог в нем заподозрить. — Я вижу, вы жили в Афганистане». И действительно, читатель к этому моменту уже знает, что Уотсон служил ассистентом хирурга в 5-м Нортумберлендском стрелковом полку, в составе которого принял участие во Второй англо-афганской войне. Участвовал в сражении при Майванде, был ранен, потом болел тифом, еле выжил и, наконец, был отправлен в Англию, потому что военная карьера для него была уже закрыта.
Что это за исторические события? Это будет для нас важно. Это Вторая англо-афганская война, которая длилась с 1878 по 1880 год и во время которой Британия стремилась утвердить свое колониальное господство над Афганистаном. Война проходила с переменным успехом: побеждали то афганцы, то британцы. Битва, о которой упоминает Конан Дойл, произошла 27 июля 1880 года близ села под названием Майванд. В ней участвовал Уотсон, и там британцы потерпели поражение. В итоге англичане договорились с эмиром Абдур-Рахманом, одним из представителей власти в Афганистане, после чего покинули страну. Мы знаем, что еще до окончания войны страну покинул и сам Уотсон.
Возвращаемся к эпизоду со знакомством. Уотсон недоумевает: откуда Холмс знает, что он был в Афганистане? И Холмс начинает ему объяснять:
«Ход моих мыслей был таков: „Этот человек по типу — врач, но выправка у него военная. Значит, военный врач. Он только что приехал из тропиков — лицо у него смуглое, но это не природный оттенок его кожи, так как запястья у него гораздо белее. Лицо изможденное — очевидно, немало натерпелся и перенес болезнь. Был ранен в левую руку — держит ее неподвижно и немножко неестественно. Где же под тропиками военный врач-англичанин мог натерпеться лишений и получить рану? Конечно же, в Афганистане“. Весь ход мыслей не занял и секунды».
Опять магическим образом Холмс разгадывает сложную загадку. Эффект тем сильнее, что Конан Дойл уже выдал читателям часть информации об Уотсоне. И когда читатели — мы с вами — обращаемся к этому фрагменту, мы немедленно опознаем Уотсона в этом описании. И магия Холмса усиливается.
Но давайте посмотрим на это рассуждение внимательнее. Перед нами на самом деле не одно рассуждение, а целая логическая цепочка. Первый фрагмент. Врачи с военной выправкой должны быть военными врачами. Иначе говоря, не существует врача с военной выправкой, который бы не служил в армии. Предположим, это так — хотя на самом деле само по себе это правило, вероятно, не является правилом. Можно себе представить ситуацию, в которой на войне оказывается гражданский врач. Но, предположим, мы уверены в том, что Холмс знает наверняка. И тогда перед нами будет следующая логическая конструкция: все врачи, имеющие военную выправку, — военные врачи. Перед нами врач с военной выправкой. Следовательно, перед нами военный врач.
Со всеми оговорками, которые мы сделали, очевидно, что перед нами пример чистой дедукции. Как и в случае с фасолинами, когда мы посмотрели на все фасолины и удостоверились, что все они белые, так и здесь: мы уверены, что не может быть никакого другого врача, кроме врача с военной выправкой. Поэтому умозаключение оказывается точным. Холмс на сто процентов может утверждать, что Уотсон является военным врачом.
Идем дальше. Всякий человек с сильным загаром может приехать только из тропиков или из зоны, близкой к ним. И это тоже справедливо — с некоторыми оговорками о том, что сильный загар или смуглый цвет кожи могут свидетельствовать о пребывании в другой климатической зоне, где солнце тоже очень сильное. Но предположим, что такой эффект — такой и только такой! — дают только тропики или зоны, которые находятся близко к тропикам. Таким образом, перед нами вновь дедуктивное высказывание.
Но вот затем в этом механизме
Сбой логики происходит, на мой взгляд, и при следующем рассуждении. Если человек ранен в левую руку, то она либо неподвижна, либо находится в неестественном состоянии. На правду это не похоже. Мы можем представить себе человека, который получил травму при
Венец рассуждений Холмса, в котором он сводит воедино все предыдущие. Тропики, военный врач, ранение и лишения. Все это указывает на англо-афганскую войну. Чтобы сделать такой вывод, в случае дедуктивного умозаключения (то есть умозаключения, которое базируется на стопроцентном знании всех фактов) необходимо твердо знать, что Англия в 1880 году воевала в Афганистане и только в Афганистане — в тропиках или в климатических зонах, близких к тропикам.
Однако беглый просмотр сведений о странах, в которых воевала британская армия, известная в XIX веке своей боеспособностью, покажет нам, что Холмс неправ! Была еще одна война — и, значит, это не дедуктивное высказывание. В 1878–1879 годах Британия вела боевые действия против зулусов в Южной Африке, а Южная Африка находится в климатическом поясе, который довольно близок к тропикам. Теоретически Уотсон мог быть и в Южной Африке.
Таким образом, мы видим, что проблема существует на уровне правила — и, более того, эта проблема выдает нам не дедуктивное высказывание, а
Сценаристы современного сериала с Камбербэтчем ловко обошли это препятствие. Вспомним знаменитую сцену в морге (тоже, надо сказать, довольно впечатляющую): знакомство происходит в тот момент, когда Шерлок Холмс осматривает трупы. Он видит Уотсона и спрашивает: «Афганистан или Ирак?» Уотсон отвечает ему: «Афганистан», — и дальше Холмс запускает вот этот утонченный точный механизм разгадывания.
Создатели сериала показывают: для того чтобы построить четкое дедуктивное высказывание, Холмсу нужно знать, в Афганистане или в Ираке воевал Уотсон. Таким же образом, как Конан Дойлу,
Очень важно знать, что абдукция тоже исходит из правила, и в этом смысле она имеет вид достоверности. Абдуктивным высказываниям мы склонны доверять. Правило, которое мы формулировали раньше, звучит следующим образом: «Все фасолины из этого мешочка — белые». Давайте еще раз представим себе мешочек: мы заглянули вовнутрь, посмотрели и установили, что все фасолины — белые.
Эти фасолины — белые. Эти фасолины, делаем мы вывод, взяты из этого мешочка. Такое умозаключение (еще раз повторю, это важно) отталкивается от правила, и в этом смысле мы склонны ему доверять. Однако по сути перед нами способ угадывания. Мы видим белые фасолины, мы видим мешочек, твердо знаем, что внутри белые фасолины, и мы выдвигаем гипотезу, строим догадку о том, что эти фасолины попали на стол из этого самого мешочка. Вероятность того, что так дело и обстоит, довольно велика. Однако, как вы понимаете, все гораздо хитрее. Представим, что человек, который стоит рядом с нами, прячет за спиной еще один такой же мешочек с белыми фасолинами. И фасолины могут быть взяты из второго мешочка, а не из первого.
Иначе говоря, для того чтобы построить дедуктивное высказывание, нам нужно исследовать все мешочки и быть абсолютно уверенными, что никаких других мешочков, кроме этого, у нас нет. Однако этого не происходит. Поэтому мы и выдвигаем гипотезу и затем проверяем ее. Строго говоря, так Холмс и действует. Он бесконечно выдвигает гипотезы: об Уотсоне, о других персонажах, о часах, о предметах, о ситуациях, о спичках, — о чем угодно. Он выдвигает гипотезы, которые затем подлежат проверке. И проверка в подавляющем большинстве случаев говорит нам о том, что да, Холмс прав!
Для того чтобы увидеть, как это работает в рассказах о Шерлоке Холмсе, давайте вернемся к одному из примеров, который мы уже разбирали. У каждого, кто перенес болезнь и страдал, изможденное лицо. Я думаю, вот это как раз сомнению совершенно не подлежит. Действительно, если мы болеем или если мы глубоко страдаем, очень часто, практически всегда на нашем лице остаются следы страданий и переживаний. Еще раз: у каждого, кто перенес болезнь и страдал, изможденное лицо. Перед нами человек с изможденным лицом, в данном случае сам Уотсон. Перед нами человек, в прошлом болевший и страдавший.
Что не так с этим рассуждением? Мы знаем из повествования, что на самом деле все так. Уотсон действительно болел, страдал: тиф, ранение, — и Холмс прав. Но между тем изможденное лицо очень часто является следствием тяжелого труда. Пример, который видит Холмс, изможденное лицо Уотсона, на самом деле может отсылать к другому правилу: «У каждого, кто тяжело трудился, изможденное лицо». И тогда вся картинка, которую столь ловко рисует Холмс, может быть совершенно иной.
Логика в абдуктивном высказывании сильно ослаблена. На самом деле Холмс выдвигает гипотезы, которые могут оказаться правильными, но могут оказаться и неправильными. Другое дело, что зачастую догадки Холмса обоснованны. То есть мы имеем дело, если угодно, с хорошей абдукцией. Его гипотезы лучше всего объясняют нам ту совокупность фактов, которую рассказчик (или автор, сам Конан Дойл) предоставляет в распоряжение читателя.
Холмс лучше всех остальных объясняет, что на самом деле происходило с героями. Вспомним смешные и трогательные диалоги Лестрейда и Холмса. Лестрейд — представитель Скотленд-Ярда, он полицейский и должен выдвигать
Другое дело, что мы все равно имеем дело с абдукцией, то есть с умозаключением, в котором логические связи ослаблены, в котором наблюдаемый случай может отсылать сразу к нескольким правилам. Холмс (такой вывод мы можем сделать на этом основании) при всей своей интеллектуальной оснащенности гадает. И угадывает. Перед нами — хорошая абдукция.
Холмс часто упрекает Уотсона, который описывает их приключения, в том, что рассказы слишком уж художественны. Что Уотсон не передает всей красоты рассуждений Холмса. Что он недостаточно научен. Что метод Холмса (а мы знаем, что Холмс публикуется в серьезных научных журналах) недостаточно освещен в тех бойких рассказах, которые Конан Дойл приписывает Уотсону. Между тем рассказ, который мы разбирали ранее, показывает, что Холмс действительно не работает с четкой математической логикой; на самом деле никакой дедуктивной точности в его рассуждениях нет.
Мы забываем о том, что имеем дело с литературным текстом. А литературный текст устроен по определенному принципу: автор заставляет читателя поверить в собственный вымысел. Именно этим вымыслом и является дедуктивный метод Шерлока Холмса! Холмс никогда не ошибается, потому что Артур Конан Дойл так хочет. А вовсе не потому, что он использует твердый логический дедуктивный метод.
Разумеется, это не отменяет того факта, что дедукция, индукция и абдукция — вполне реальные логические построения. И самое интересное в этой ситуации (и сложное, и, пожалуй, красивое) — что вымысел, о котором мы только что говорили, натолкнул вполне серьезных ученых на развитие собственного научного метода. В 1983 году в печать вышел сборник статей «Знак трех», по аналогии со «Знаком четырех» Конан Дойла, в котором известные, в том числе русскому читателю, европейские ученые, и не только европейские, подробно рассуждали о том, каким образом строятся рассуждения Холмса. Это был сборник, в котором принимали участие известные интеллектуалы-исследователи Умберто Эко и Карло Гинзбург. Так вот, оказалось, что абдуктивный метод Холмса (или Конан Дойла, как угодно) обладает странной и на первый взгляд совершенно неочевидной связью с тем, как работают историки. Как раз эту точку зрения защищал Карло Гинзбург в своей знаменитой «Уликовой парадигме» («уликовой» — от слова «улика», как в детективе).
Здесь важно, что работа историка уподоблена Гинзбургом работе детектива. Подобно детективу, историк очень многого не знает о прошлом. Прошлое представляет собой определенный набор сведений, которые известны из источников, но также и набор темных пятен, о которых источники говорят косвенно, о которых у нас нет достоверных сведений. И абдуктивный механизм, который использует Холмс, оказывается очень удобен и довольно адекватен при разговоре о том, что делают историки. Историк выдвигает гипотезы — которые затем, разумеется, основательно проверяет.
Естественно, историк не может стопроцентно проверить все свои гипотезы. Но эта гипотетичность, это стремление к догадке, эта уверенность в том, что в науках о человеке истина достигается не математическим образом, а именно через догадку, через смелое рассуждение, через прозрение, как раз и связывает детектива и историка. Связывает тех, кто сейчас занимается наукой, и Шерлока Холмса. И в этом смысле Шерлок Холмс, может быть, не такой уж и литературный персонаж. Может быть,
В дальнейшем Гинзбург будет сравнивать работу историка с тем, как действует судья. Однако это будет уже совсем другой сюжет.
Если говорить о рассказах или повестях о Шерлоке Холмсе, которые произвели на меня самое большое впечатление, то один текст будет стоять намного выше всех остальных. Это «Собака Баскервилей». Прежде всего потому, что Холмс на протяжении большей части повествования (как нам, читателям, кажется) наконец имеет дело с потусторонним миром. Я страшно люблю готические романы и вообще мистическую литературу и, когда впервые читал «Собаку Баскервилей», думал: «Н
Потом дело оказалось совсем другим, и, конечно, эта собака — увы, не
В 2020 году на экраны выйдет новая экранизация романа Джейн Остин «Pride and Prejudice» — «Гордость и предубеждение» (иногда это название переводят на русский язык как «Гордость и предрассудки»). О новом фильме известно пока немного. Телесериал выпускает британская телекомпания ITV. Над ним работает драматург Нина Рейн, которая в одном из многочисленных интервью, данных по этому поводу, заметила: любимый всеми роман Джейн Остин представляется ей гораздо более взрослым, чем принято о нем думать. На этих взрослых мрачных аспектах она и предполагает сосредоточиться. Видимо, нужно ожидать «Гордость и предубеждение» «18+».
В тех же интервью Нина Рейн говорила и о том, что каждому поколению нужны свои «Гордость и предубеждение», свое новое прочтение, иллюстрация, экранизация. И это действительно так. Редкое десятилетие ХХ века обходилось без новой экранизации. Cамыми известными, наверное, были фильм 1940 года, в котором мистера Дарси сыграл сэр Лоуренс Оливье, и две последние экранизации — 1995 и 2005 года. Мини-сериал Би-би-си, снятый в 1995 году, с Колином Фёртом и Дженнифер Эль в главных ролях (этот фильм имел продолжение на современный лад — «Дневник Бриджит Джонс», где тот же Колин Фёрт играл персонажа по фамилии Дарси), и англо-французско-американский, но по своей сути совершенно голливудский фильм «Гордость и предубеждение» с Кирой Найтли в главной роли.
Почему это так? Почему этот роман Джейн Остин экранизировался больше всех остальных? Почему каждый раз возникает потребность в новом видеоряде, в картинке? Может быть, в самом тексте Джейн Остин заложено нечто, что каждый раз требует новой зрительной реализации? Давайте подумаем почему.
«Гордость и предубеждение» действительно самый известный, самый читаемый и самый любимый роман Джейн Остин. Она относилась к нему с особой нежностью — как к трудно рожденному ребенку, работала над ним очень много лет. Первая версия, которая называлась «Первые впечатления», «First Impressions», относится к 1796–1797 годам. Тогда роман не был опубликован, и Джейн Остин вернулась к работе над ним много лет спустя. Известная нам версия «Гордости и предубеждения» вышла в свет в 1813 году, имела ошеломительный успех и стала в Англии «книгой года» — люди рекомендовали ее друг другу, ею зачитывались;
Дело происходит в английской провинции рубежа веков — начала XIX века. И прежде всего мы знакомимся с семейством Беннет, в котором есть пять дочерей, которых нужно выдать замуж. Ситуация довольно тяжелая, потому что приданого нет. И даже дом, в котором девушки живут со своими родителями, мистером и миссис Беннет, передается только по мужской линии. Поэтому за отсутствием в семействе Беннет братьев в случае кончины отца дом этот перейдет
В эту сельскую местность приезжают из Лондона два чрезвычайно завидных, богатых и состоятельных жениха — мистер Бингли и мистер Дарси. И, естественно, к ним обращаются взоры многих семей вокруг, в том числе взоры семейства Беннет.
Мистер Дарси принадлежит к богатейшим и наиболее знатным английским семьям. Его мать была дочерью лорда, и само его имя, Дарси, — норманнского происхождения, что свидетельствует о том, что семья эта не только чрезвычайно богата, но что это действительно очень древний английский род. И на этом роду (в прямом смысле этого слова, точнее выражения) мистеру Дарси написано жениться на своей двоюродной сестре — дочери чрезвычайно знатной, богатой и столь же несимпатичной дамы леди Кэтрин де Бург, которая живет неподалеку от Беннетов. И мы понимаем, что Дарси этого очень не хочется, но что ему делать, он пока не решил.
Мистер Бингли с самого начала симпатизирует старшей из сестер Беннет, Джейн. А мистер Дарси и вторая по старшинству сестра и главная героиня романа Элизабет, Лиззи Беннет, сначала страшно друг другу не нравятся. Дарси на балу в поместье Меритон замечает, что Элизабет недостаточно хороша собой, чтобы вскружить ему голову, «not handsome enough». Недостаточно исключительна для того, чтобы Дарси пригласил ее на танец. Она же сразу видит в нем неприятного дерзкого сноба, и таковы их первые впечатления друг от друга.
Надо сказать, что, хотя Джейн Остин и отказалась от первого названия своего романа, «Первые впечатления», первые впечатления, поверенные и проверенные дальнейшими событиями и собственным опытом, остаются главной темой книги. Этот роман можно читать как мысленный эксперимент об удельном весе, о важности исходных данных человека, его природного ума и сметливости, остроумия — и опыта. Того, что приходит со временем, появляется постепенно.
Надо сказать, что, несмотря на все привходящие обстоятельства и имущественные, социальные и классовые различия между главными героями романа, Элизабет Беннет и мистером Дарси, их счастливому воссоединению с самого начала мешают главным образом они сами — их гордость, их предубеждение. И если на пути другой пары, которая постоянно присутствует в романе, старшей сестры Джейн и мистера Бингли, встают
Вернемся к повествованию. Там происходит довольно много разнообразных событий: к Элизабет сватается совершенно пародийный персонаж мистер Коллинз — дальний родственник, который предполагает унаследовать дом семейства Беннет и который служит в церкви при доме вот этой самой знатной и неприятной Кэтрин де Бург. Элизабет отвергает его предложение, чем приводит в полную ярость собственную мать.
Первые неприятные впечатления Элизабет от мистера Дарси, который, как мы помним, показался ей чрезвычайно высокомерным, гордым снобом, усиливаются, когда в романе появляется мистер Уикхем, сын бывшего дворецкого отца мистера Дарси. Он вырос с ним вместе и обвиняет мистера Дарси в разнообразных грехах — и Элизабет верит ему. Эти сплетни, рассказы, пришедшие со стороны, также должны быть скорректированы, проверены, поверены собственным опытом и собственными впечатлениями.
Все кончается хорошо: Джейн выходит замуж за мистера Бингли, Элизабет выходит замуж за мистера Дарси, и обе свадьбы совершаются в один день. Мы имеем здесь дело с двойным хеппи-эндом. При всем успехе книги даже сама Джейн Остин писала о том, что, может быть, роман этот слишком легкий, слишком искрящийся, слишком игривый.
Если мы вглядимся попристальнее — а надо сказать, что все герои постоянно вглядываются, всматриваются, разглядывают, смотрят друг на друга пристально, — мы действительно увидим, что зрение играет в тексте романа и в развитии его сюжета огромную роль. Обратимся хотя бы к выбранной наугад цитате. В поместье Меритон впервые приходят Дарси и мистер Бингли, и появляется тот самый мистер Уикхем, воспитывавшийся вместе с мистером Дарси, а впоследствии предавший его и чуть было не соблазнивший его любимую младшую сестру Джорджиану.
Когда Уикхем впервые появляется в поле зрения остальных героев, мы читаем:
«Мистер Дарси подтвердил это кивком головы и, вспомнив о своем намерении не засматриваться на Элизабет, внезапно остановил взгляд на незнакомце. Элизабет, которая в это время случайно посмотрела на того и другого, была поражена действием на них этой встречи: оба изменились в лице, один побледнел, другой покраснел. Через несколько секунд мистер Уикхем притронулся рукой к шляпе — приветствие, на которое мистер Дарси едва ответил. Что это могло означать? Придумать этому объяснение было невозможно, и так же невозможно было удержаться от желания проникнуть в скрывающуюся за этим тайну». Пер. И. Маршака.
В русском тексте мы не отдаем себе отчета в том, какую роль играет зрение в повествовательной ткани «Гордости и предубеждения», потому что очень много слов теряется в переводе — так сказать, lost in translation. Потому что Джейн Остин использует весь спектр многочисленных английских глаголов зрения. Но даже если мы сейчас не будем вдаваться в лингвистические подробности, даже в русском переводе мы видим постоянный обмен взглядами, сложную зрительную сеть, сложный зрительный диалог.
«Вспомнив о своем намерении не засматриваться…» — вот это, например, предположение смотреть, но смотреть определенным образом, не останавливать слишком долго взор на Элизабет. Таких моментов — с подробным, тщательным, скрупулезным описанием взгляда как действия — в романе очень много.
Автор сценария самой удачной, на мой взгляд, экранизации романа, мини-сериала 1995 года, — Эндрю Дэвис. На ютубе существует несколько интервью с ним и записанных лекций, в которых он очень интересно рассказывает о том, как текст романа превращался в киносценарий. В коротком интервью Дэвис формулирует пять правил превращения текста в кинотекст и говорит, что в романе «Гордость и предубеждение» один взгляд равен десяти тысячам слов. При этом он говорит, что снять взгляд в кино не
Основные события происходят в публичном пространстве, у всех на виду, и потом обсуждаются героями наедине. Элизабет Беннет обсуждает происходящее то со своей сестрой Джейн, то с подругой Шарлоттой Лукас, то со своей тетушкой миссис Гардинер. Интересно, что одним из самых частотных слов в романе является глагол observe, который близок русскому «наблюдать». Слово observation — это и наблюдение (то есть собственно процесс наблюдения за
У нас нет сейчас времени подробно обсуждать, хотя это очень интересно, различия оттенков значения глаголов зрения в английском и в русском языке, которые, как я уже сказала, не всегда удается передать в переводе. Приведу один пример. Речь идет о встрече Дарси и мистера Коллинза, который служил священником в поместье Кэтрин де Бург: «Последний [то есть мистер Дарси] смотрел на Коллинза с нескрываемым изумлением». В английском оригинале читаем: «Mr. Darcy was eyeing him with unrestrained wonder». «Was eyeing him» — здесь, в русском переводе, «последний смотрел». Но слово «смотрел» нейтрально. Перевести это словом «глазел» было бы неправильно. Мне кажется, что в этом глаголе, eye и eyeing, почти тактильная, осязающая, ощупывающая сила зрения действительно ощущается особенно остро.
Если мы обращаемся к теме оптики как к некоторому возможному ключу и еще одному способу прочтения романа, то понимаем, что все изменения, происходящие с его героями, которые, собственно, и ведут к счастливому разрешению ситуации, могут описываться в терминах изменения точек зрения, перспектив, смены дистанции.
У Джейн Остин была знаменитая современница, сначала некоторое время учившаяся химии, но потом все-таки сосредоточившаяся на литературе, в том числе детской, — Анна-Летиция Барбо. Ее трактат «О предрассудках» («On Prejudice») написан одновременно с романом Джейн Остин. Всю теорию предрассудков Барбо строит на теории перспективы, то есть полностью переводит на язык зрения и визуального опыта.
Зрение оказывается в романе аналогом понимания. И это тоже зафиксировано в английском языке: когда мы говорим «I see», это значит «Я понимаю». И когда Элизабет читает письмо от мистера Дарси, в котором рассказывается истинное положение дел, все, что случилось между ним и мистером Уикхемом, а также между ним и мистером Бингли, Элизабет говорит сначала: «Как слепа я была», — а потом: «Я понимаю».
Последний пример, который я хотела бы привести, — сцена, когда Элизабет разглядывает портрет мистера Дарси в картинной галерее в его поместье Пемберли, которое они посещают с ее любимыми дядей и тетей Гардинер. Это посещение Пемберли, как она скажет в самом конце романа своей сестре Джейн, и решило все дело, ее судьбу.
По картинной галерее и по всему дому в поместье Пемберли Гардинеров и Элизабет водит домоправительница мистера Дарси мисс Рейнолдс, едва ли случайно оказывающаяся однофамилицей одного из самых знаменитых британских живописцев XVIII века Джошуа Рейнолдса, первого президента британской Академии художеств.
«Разглядывая множество семейных портретов, которые едва ли могли привлечь внимание постороннего, Элизабет искала среди них единственное лицо со знакомыми чертами. В конце концов оно бросилось ей в глаза, и она была поражена удивительным сходством портрета с мистером Дарси».
Казалось бы, это сходство не так удивительно. Но!
«На полотне была запечатлена та самая улыбка, которую она нередко видела на его лице, когда он смотрел на нее. Несколько минут Элизабет сосредоточенно в него вглядывалась, и, покидая галерею, она еще раз к нему подошла, услышав от миссис Рейнолдс, что портрет был написан еще при жизни прежнего хозяина [то есть отца мистера Дарси]. В эту минуту Элизабет явно испытывала к оригиналу портрета более теплые чувства, чем
когда-либо на протяжении их знакомства».
Это довольно любопытный момент: портрет, изображение может изменить отношение человека к тому, с кого он был написан. И только в этом пронизанном сетью взглядов и зрительных диалогов тексте романа общение с портретом может оказаться настолько важным.
Постоянные эксперименты со взглядами, со зрением в «Гордости и предубеждении» совершенно созвучны своему времени. Рубеж XVIII–XIX веков, особенно конец XVIII века, или, как принято говорить, длинный XVIII век, — время всевозможных оптических экспериментов. В 80-е годы XVIII века появляются воздушные шары. Значит, появляется еще одна, прежде неведомая точка зрения, и, как
К самому рубежу веков относится появление первых панорам и диорам — в Лондоне, потом в Париже. В Лондоне существовал театр, который назывался Эйдофусикон (его открыл француз Лютербург), и этот театр часто считают предвестником кино: в нем разнообразные пейзажи и виды сменяли друг друга. Внимание было обращено к зрению как к человеческой способности, возможности. И даже в России Михаил Муравьев написал пространное дидактическое стихотворение «Зрение», в котором с большими физиологическими подробностями изложил, как именно изображение фиксируется ретиной. Весь процесс зрения становится поэтической темой.
В последней части нашего разговора мне хотелось бы обратиться к третьей книге романа. Собственно, мы уже обратились к ней, потому что сцена, в которой Элизабет Беннет стоит в картинной галерее Пемберли, происходит в первой главе третьей книги, одной из самых главных в романе, более длинной, чем все остальные, и заключающей в себе одно из самых подробных описаний.
Мы все время говорили об обилии глаголов зрения и зрительных эпизодов в романе, но собственно описаний в нем довольно мало. В первой главе третьей книги мы находим чрезвычайно подробное описание поместья мистера Дарси — не только дома, в котором мы уже оказались вместе с Гардинерами и Элизабет, но и окружающего его сада. Обратимся к этому описанию.
«Ожидая появления Пемберлейского леса, Элизабет всматривалась в дорогу с большим волнением. И когда, миновав сторожку, они наконец свернули в усадьбу, возбуждение ее дошло до предела.
Отдельные части обширного парка составляли весьма разнообразную картину. Начав осмотр с одного из его самых низменных мест, они некоторое время ехали по красивой, широко раскинувшейся роще.
<…> На протяжении полумили они медленно поднимались и в конце концов внезапно выехали на свободную от леса возвышенность, с которой широко открывался вид на долину с господским домом, стоявшим на ее противоположном краю. Это было величественное каменное здание, удачно расположенное на склоне гряды лесистых холмов. Протекавший в долине полноводный ручей без заметных искусственных сооружений Вот это отсутствие искусственных сооружений здесь чрезвычайно важно. превращался перед домом в более широкий поток, берега которого не казались излишне строгими или чрезмерно ухоженными. Элизабет была в восторге. Никогда еще она не видела места, которое было бы более щедро одарено природой и в котором естественная красота была так мало испорчена недостаточным человеческим вкусом».
Я специально прочитала эту довольно длинную цитату, потому что все описание пейзажа в Пемберли изобилует подробностями и этим отличается от остального текста романа. Поместье Пемберли и сад, окружающий дом мистера Дарси, — чрезвычайно яркий пример английского парка, английского сада, противопоставленного в культурном сознании XVIII века французскому регулярному парку.
Конечно, эти два понятия относительны. В конце XVIII века, когда Джейн Остин писала свой роман, английские сады распространились уже по всей Европе, в том числе и во Франции, и в России. Но нам важно противопоставление, присутствующее в романе, между садом регулярным, размеренным, симметричным, где все находится на своих местах (а таков парк, окружающий поместье Розингс, где живет Кэтрин де Бург, человек чрезвычайно ограниченных взглядов, не меняющий своих точек зрения и не меняющий своих перспектив), и парком в поместье Пемберли, главным свойством которого оказывается непредсказуемость, перемена, движение.
«Отдельные части обширного парка составляли весьма разнообразную картину» («The park was very large, and contained great variety of ground»). Английское слово variety, «разнообразие», и разные его производные наполняют собой это описание пейзажа. Ни Гардинеры, ни Элизабет не знают, что они увидят в следующий момент, не знают, куда они выйдут, не знают, через какой мостик перейдут. И даже когда они осматривают дом, из каждого окна им открывается новый вид. То есть здесь ключевым оказывается изменение, перемена, движение.
Все, о чем мы говорим, является составляющими чрезвычайно важного для конца XVIII века, прежде всего для Англии, представления о живописном, picturesque. Вот еще одна маленькая цитата: «Они теперь шли по восхитительной тропинке у самой воды. С каждым шагом перед ними открывались все более красивые склоны, все более живописный вид на приближавшуюся лесную чащу».
Первое значение слова «живописный» (в русском языке еще и «картинный») — это пейзаж, который хорошо будет смотреться на картине. Культура живописного была чрезвычайно важна в Англии последнего десятилетия XVIII века. О живописном, о picturesque, написаны специальные трактаты. Суть сводилась к тому, что человек должен смотреть вокруг особым образом: его зрение должно быть подготовлено, образованно, и поэтому начинать живописные путешествия следовало с Озерного края, Lake District, в Англии. Он был разнообразен, спускался и поднимался и был непредсказуем. Именно в Озерный край собирались ехать Гардинеры и Элизабет Беннет, но не смогли, потому что, как мы помним, мистер Гардинер не мог долго отсутствовать. И тогда они едут в Дербишир (часть английского Мидлендс), в середину Англии, — это было не так далеко.
Внутри этой совершенно реальной части Англии помещается воображаемое поместье Пемберли, которое оказывается ярким воплощением всех свойств живописного пейзажа. И совершенно не случайно, что именно проходя по этому пейзажу — пейзажу, разворачивающемуся во времени, — Элизабет многое понимает.
Пейзаж живописного парка проходится, разворачивается, читается только во времени — его нельзя понять сразу, его нельзя охватить взглядом. Здесь мы можем вспомнить, как Николай Михайлович Карамзин, в 1790 году совершая свой гранд-тур, писал, как ему не понравился Версаль. Карамзин писал: «Лудовик XIV с Ленотром запечатали мне воображение, которое ничего тут не может придумать, ничего представить иначе». В пейзажном парке (который, кстати, был очень мил сердцу Карамзина) все ровно наоборот: огромная роль отведена воображению, которое должно достроить некоторую данность до новой, у каждого своей картины.
Развитие пейзажного английского парка в XVIII веке созвучно другим чрезвычайно важным явлениям и тенденциям английского Просвещения. Понятие «век» относительно — его можно начинать с разных точек. И, наверное, самым правильным было бы отсчитывать XVIII век от, может быть, первых трудов Ньютона. XVIII век был веком развития эксперимента, веком ухода от геометрического мышления.
Французский парк — с его симметрией, с центральной перспективой — был апогеем картезианства и аксиоматического мышления, когда мы можем сделать выводы на основе исходных данных, не добавляя к ним собственный опыт. Таким образом устроено научное знание. Весь XVIII век был развитием эксперимента. К началу XIX века, когда Джейн Остин работала над «Гордостью и предубеждением», экспериментальные науки — химия, биология, физика — как раз оформились и стали самостоятельными.
Знаменитые современники Джейн Остин, поэты Озерного края Уильям Вордсворт и Кольридж, не случайно предпочитавшие Озерный край другим областям Англии, в начале XIX века были замечены на публичных лекциях, которые читал в Лондоне химик Хэмфри Дэви. Когда их спросили, что они там делают, кажется, Кольридж ответил, что им нужно обновить свой запас метафор. И химия оказывается для этого чрезвычайно благодатной сферой.
Мы здесь говорим не только о развитии эксперимента в науке, но и о том, что это ее экспериментальное измерение становится и поэтической темой. Оно обладает потенциалом обновления запаса метафор, которыми еще нужно будет учиться пользоваться. И развитие экспериментальной новой науки (она так и называлась тогда — new science) не случайно совпадает со временем развития романа как жанра.
В XVIII веке история знания и история литературы развиваются параллельно. И если в XVII веке ученый как бы проходил по симметричным и размеренным аллеям французского парка, то в XVIII веке зрение, наблюдение, познание становится возможным только как результат собственного опыта и собственного эксперимента.
В романе Джейн Остин мы видим, что на смену гордости и предубеждению, на смену существующей системе имущественных, классовых, социальных различий, с которых мы начинали, приходит единственное различие, которое представляется Джейн Остин существенным: различие между людьми, способными к внутреннему движению, и людьми, к нему не способными. Причем эти люди могут принадлежать к самым разным классам.
К внутреннему движению леди Кэтрин де Бург оказывается так же не способна, как миссис Беннет. А главные герои романа, Элизабет Беннет и мистер Дарси, проходят путь, который позволяет им воссоединиться. Не случайно их встречи в поместье Пемберли происходят каждый раз по разные стороны мостов и мостиков.
Мы говорили о внимании Джейн Остин к зрению, обмену взглядами, к самому феномену человеческого зрения. Мы говорили и о важности движения в романе: в книге есть путешествия, побеги, прогулки. Наверное, из этого постоянного внимания Джейн Остин к взгляду и к зрению и из постоянно присутствующего в романе движения, из двух этих составляющих и складывается текст, существующий по обе стороны слов, который делает этот роман столь благодатной почвой для экранизаций. И на вопрос, который мы задали в начале — заключено ли в самом тексте Джейн Остин
Роман «Джейн Эйр» был издан в 1847 году под псевдонимом Каррер Белл. Одновременно вышли два романа сестер Шарлотты Бронте, которая была автором этого романа. Они тоже прятались под псевдонимами, и это были романы «Грозовой перевал» и «Агнес Грей». Они вышли единым двухтомником, а «Джейн Эйр» вышла в другом издательстве отдельно.
«Джейн Эйр» совершенно взорвала лондонский свет. Книжка стала популярной на другой день, о ней писали все, кто
Главным пунктом всеобщих обсуждений было авторство. Из коммерческих соображений издатели посоветовали Шарлотте Бронте (которую они знали только по переписке, она для них тоже была Каррер Белл) написать после заглавия: «Автобиография». Конечно, это придало книге еще больше коммерческого успеха, потому что люди пытались в «Джейн Эйр» вычитать реальную историю жизни и даже отнестись к этому как к некоему «роману с ключом», отгадать, о ком это и кто это написал. Всех очень занимало, мужчина это или женщина. Скорее склонялись к версии о мужчине, потому что для женщины рассуждения мистера Рочестера о браке были, как казалось обществу, немножко «чересчур».
Джейн Эйр — сирота, у которой умерли оба родителя, — воспитывается в семье своего дяди (дядя, к сожалению, тоже умер), тетя ее не любит, и ей приходится хлебнуть горя. С ней плохо обращаются кузены, с ней плохо обращается тетя — и в конце концов Джейн бунтует, оказывает сопротивление своему противному кузену, и тетя решает отдать ее в приют для сирот. Приютом управляет ужасный мистер Брокльхёрст. Джейн терпит лишения, но при этом получает прекрасное образование и после приюта становится гувернанткой в мрачном загадочном доме, в котором живет такой же мрачный и загадочный хозяин.
У Джейн возникает роман с хозяином. Он делает ей предложение руки и сердца, но когда они приходят в церковь и священник спрашивает, есть ли
Джейн Эйр убегает из дома. В огорчении она забывает свой маленький сундучок в дилижансе и скитается по вересковым пустошам совершенно без еды, воды и человеческого участия. Чуть не умирает, но находит приют в доме молодого священника и двух его сестер. Впоследствии выясняется, что они тоже ее кузены. Джейн получает наследство от их общего дяди, разделяет это наследство в равных долях между всеми кузенами. И внезапно Джейн как будто бы слышит в ночи голос мистера Рочестера. Уже независимой женщиной она возвращается на старое место, узнает, что был страшный пожар, в котором жена мистера Рочестера погибла, а сам он ослеп и превратился в калеку с изувеченной рукой. Джейн находит его, выходит замуж — это главная, самая известная фраза романа: «Читатель, я стала его женой». И все заканчивается свадьбой, как положено в классическом романе.
Уильям Теккерей, в то время очень популярный писатель, по популярности приближающийся к Чарльзу Диккенсу, как раз в это время начал печатать в журналах свою «Ярмарку тщеславия». Он прочел «Джейн Эйр», очень высоко оценил роман — и допускал, что его написала женщина. С оговоркой, что если это женщина, то она наверняка получила классическое образование.
Со своей стороны Шарлотта Бронте очень восхищалась Теккереем и посвятила ему второе издание своей книги. Но дело в том, что в романе «Джейн Эйр» у возлюбленного героини, скромной гувернантки, имеется сумасшедшая жена, которую он держит на чердаке. И у Теккерея тоже была сумасшедшая жена — которую он, правда, держал не на чердаке, а в клинике, но у его детей тоже постоянно были гувернантки, которые их воспитывали. И вот
Теккерей был в бешенстве. Конечно, Шарлотта Бронте это сделала по абсолютной невинности и неведению, она жила в глуши, в Йоркшире, и совершенно не представляла себе, что ее посвящение любимому писателю может так отозваться. Издатели очень осторожно ей об этом сообщили, и она была в отчаянии, но сделать уже ничего было нельзя. И именно в таком виде эти слухи докатились и до России.
В России первый перевод появился очень скоро после публикации «Джейн Эйр», в 1849 году, всего через два года. Автором этого перевода был удивительный знаменитый переводчик XIX века Иринарх Введенский, который перевел на русский язык всю английскую классику, и впоследствии ему очень досталось от советских переводчиков, которые постоянно его ругали, приводили в пример излишние вольности… Но на самом деле это совершенно не исторический подход, потому что для своего времени Иринарх Введенский был невероятным новатором. Он первым начал переводить речевые характеристики героев, пытаясь им придать те черты, которые придавал, например, Диккенс. И вообще он был человек, безусловно, очень талантливый.
Введенский перевел «Джейн Эйр», но перевел очень вольно:
На этом переводческая активность не остановилась, потому что роман «Джейн Эйр» стал знаменит в России почти так же, как в Англии, и немедленно стали появляться новые переводы и пересказы. В то время было очень принято просто вкратце пересказать произведение или перевести по французскому переводу. Появилось два таких перевода «Джейн Эйр». В общей же сложности их успело выйти до конца XIX века пять или шесть. И, наконец, в конце XIX века появился еще один перевод, уже более полный, с меньшим количеством пропусков. Поскольку «Джейн Эйр» из записок «какой-то гувернантки» к тому времени стала английской классикой, то она уже получила более бережное отношение переводчиков.
В ХХ веке переводческая судьба этой книги была тоже очень интересна. Первый перевод уже ХХ века появился в 1950 году, его сделала Вера Станевич — и это совершенно прекрасный, очень тонкий перевод, я очень его люблю, это книга моего детства, которую читала бабушка, которую читала я, — но он, конечно, тоже был с определенными пропусками. Дело в том, что Шарлотта Бронте была дочерью священника. Конечно, для нее религия играла огромную роль — и в романе довольно много религиозной экзальтации. Так вот Станевич не только выпускала наиболее отъявленные отрывки, но и все время смягчала накал этой экзальтации. Все, что касается религии, немножко смягчалось, делалось менее эмоциональным, более логичным, что ли. Поэтому, конечно, вот эти черты героини довольно существенно меняют ее образ.
После перестройки пропуски в советских переводах стали привлекать довольно много внимания, потому что было очень много цензурных купюр. Были вещи, которые нельзя было писать в переводе, часто это была самоцензура. Переводчик знал, что нельзя — сексуальные сцены, нельзя — религиозную экзальтацию, нельзя грубое слово… То есть все знали, чего нельзя.
Когда стало все можно, стали пересматривать произведения, переведенные в ХХ веке, в советскую эпоху, — и в 1990 году появилось сразу два перевода. Один — Станевич со вставленными пропусками, эти вставки перевела Ирина Гурова. А потом Ирина Гурова, видимо, почувствовала, как чужеродно эти вставки смотрятся в тексте Станевич. Они оттуда торчали, как куски
Когда я еще перечитывала «Джейн Эйр»
Дело в том, что Джейн оба раза сидит не на подоконнике. Она сидит на window seat. То есть на месте, которое как раз предназначено для сидения. В английских домах часто бывают эркеры — глубокие оконные ниши, в них встроены диванчики, на которых люди сидят. И действительно, в английской литературе — у Диккенса и у того же Теккерея — можно заметить, что люди, которые хотят остаться незамеченными, очень часто усаживаются на эти вот диванчики в оконных нишах.
У Гуровой это правильно написано. У нее один раз это диванчик в оконной нише и другой раз — диванчик в эркере. То есть там нет яркой детали, которая привлекает внимание и вызывает вопросы.
С другой стороны, если мы вернемся к первому «вхождению» подоконника, когда наша героиня забралась с книжкой на диванчик, который находится в оконной нише, там тоже есть любопытная деталь. Нам сообщают, что это за книжка. Это «Жизнь британских птиц» Бьюика, двухтомное издание. Фактически орнитологический справочник. Практический определитель. Там очень точно нарисованы птицы и описаны их свойства, их размеры, их оперение и так далее. И там тоже возникает некоторая странность.
Девочка сидит с этой книжкой. В основном она, конечно, смотрит картинки, но и предисловие, где описываются всякие картины природы, тоже читает. В переводе Станевич Джейн рассказывает об этом так:
«У меня сразу же сложилось
какое-то свое представление об этих мертвенно-белых мирах, — правда, туманное, но необычайно волнующее, как все те, еще неясные догадки о Вселенной, которые рождаются в уме ребенка. Под впечатлением этих вступительных страниц приобретали для меня особый смысл и виньетки в тексте: утес, одиноко стоящий среди пенящегося бурного прибоя; разбитая лодка, выброшенная на пустынный берег; призрачная луна, глядящая из-за угрюмых туч на тонущее судно.
<…> Страничку, где был изображен сатана, отнимающий у вора узел с похищенным добром, я поскорее перевернула: она вызывала во мне ужас.
С таким же ужасом смотрела я и на черное рогатое существо, которое, сидя на скале, созерцает толпу, теснящуюся вдали у виселицы».
Тут, конечно, возникает вопрос: откуда в определителе птиц, в справочнике об английских птицах, виселица, черт и вот это все? Какое это отношение имеет к английским птицам? У Гуровой сказано еще более непонятно. У нее сказано: слова на страницах «Введения» связывались с иллюстрациями книги. И дальше опять про черта, дьявола, виселицу и так далее. Дело в том, что Станевич более внимательно отнеслась к тексту и перевела слово «виньетка». То, что рассматривает Джейн, — вот все эти черти (черт, который схватился за суму вора, черт, который смотрит на виселицу) — это не иллюстрации к книге. Нет никакого текста, который бы соответствовал этим картинкам. Это именно виньетки, которые просто присутствуют в тексте для красоты.
И действительно, если мы посмотрим замечательный двухтомник Бьюика (сейчас можно найти его в сети), то увидим, что после каждой главы есть картинка сельской жизни.
Удивительным образом Шарлотта Бронте подробно рассказывает в «Джейн Эйр» о детском чтении типичного ребенка начала XIX века. Очень полно. Потому что — что читает Джейн Эйр? Мы об этом знаем подробно. Она читает арабские сказки, она читает «Гулливера» (который, конечно, не был написан для детей, как и арабские сказки), она читает «Путешествие пилигрима» — очень благочестивое сочинение, но полное всяких удивительных фантастических картин, и дети это очень любили. Она читает справочник о птицах и, вероятно, всякие другие книжки о путешествиях, она читает римскую историю, она слушает няню, которая пересказывает ей романы и поет баллады. Как раз все это и составляло основу детского чтения начала XIX века.
Все эти произведения, включая баллады и сказки, не были написаны специально для детей. То есть дети себе отвоевали
Эта традиция началась в XVII веке, и если мы внимательно читаем английскую классику, то видим, как издеваются, раз за разом, над Исааком Уоттсом — богословом, который много писал для детей. Прилежная пчела, которую он всем приводит в пример, становится предметом насмешек Кэрролла в «Алисе в Стране чудес» Подробнее об этом можно прочитать здесь. , в нескольких романах Диккенса, у Милна — позже в отдельном эссе. То есть детей этим довольно долго мучили. И если мы вспомним сцену с мистером Брокльхёрстом, то вот тут мы впервые имеем дело с детским чтением.
Мистер Брокльхёрст — удивительно страшная, мрачная фигура в книге. Это человек, который приходит, когда Джейн взбунтовалась против родственников, которые дурно с ней обращаются, они решили отправить ее в школу для сирот. И настоятель, попечитель этой школы, мистер Брокльхёрст, пришел, чтобы поговорить с Джейн. Я зачитаю кусочек из этой сцены:
«Я ступила на ковер перед камином; мистер Брокльхёрст поставил меня прямо перед собой. Что за лицо у него было! Теперь, когда оно находилось почти на одном уровне с моим, я хорошо видела его. Какой огромный нос! Какой рот! Какие длинные, торчащие вперед зубы!
— Нет более прискорбного зрелища, чем непослушное дитя, — особенно непослушная девочка. А ты знаешь, куда пойдут грешники после смерти?
— Они пойдут в ад, — последовал мой быстрый, давно затверженный ответ.
— А что такое ад? Ты можешь объяснить мне?
— Это яма, полная огня.
— А ты разве хотела бы упасть в эту яму и вечно гореть в ней?
— Нет, сэр.
— А что ты должна делать, чтобы избежать этого?
Ответ последовал не сразу; когда же он, наконец, прозвучал, против него можно было, конечно, возразить очень многое.
— Я лучше постараюсь быть здоровою и не умереть.
— А как можно стараться не умереть? Дети моложе тебя умирают ежедневно. Всего два-три дня назад я похоронил девочку пяти лет, хорошую девочку; ее душа теперь на небе. Боюсь, что этого нельзя будет сказать про тебя, если Господь тебя призовет».
Сегодня кажется, что это очень странный способ разговаривать с ребенком — пугать его смертью. Но для XIX века это абсолютно нормально. Потому что мистер Брокльхёрст, в общем, говорит правду. Детская смертность была очень высокой — и этой девочке, героине, и самой Шарлотте Бронте вполне грозила опасность умереть в раннем возрасте. Что и произошло с двумя ее сестрами. Они умерли рано, как раз вот в такой школе, для детей священнослужителей, дочерей священников, которые сами не могли им дать образование.
Поэтому это была реальная угроза. Но, конечно, мистер Брокльхёрст, кроме всего прочего, озабочен другими вещами. Его не очень волнует, умрет ребенок или нет, — его волнует, чтобы ребенок умер и попал в рай, а не в ад. И для этого он вполне искренне пытается сделать все, что в его силах, и рассказать, какие ужасы ждут каждого непослушного ребенка. И вот как раз эти ужасы и были основной литературой для детей. Еще один отрывок:
«— А псалмы? Я надеюсь, их ты любишь?
— Нет, сэр.
— Нет? О, какой ужас! У меня есть маленький мальчик, он моложе тебя, но выучил наизусть шесть псалмов; и когда спросишь его, что он предпочитает — скушать пряник или выучить стих из псалма, он отвечает: „Ну конечно, стих из псалма! Ведь псалмы поют ангелы! А я хочу уже здесь, на земле, быть маленьким ангелом“.
— Псалмы не интересные, — заметила я.
— Это показывает, что у тебя злое сердце, и ты должна молить Бога, чтобы он изменил его, дал тебе новое, чистое сердце. Он возьмет у тебя сердце каменное и даст тебе человеческое.
Я только что собралась спросить, каким образом может быть произведена эта операция, когда миссис Рид прервала меня, приказав сесть, и уже сама продолжала беседу».
И в конце мистер Брокльхёрст говорит: «Девочка, вот тебе книжка «Спутник ребенка»; прочти ее с молитвой, особенно «Описание ужасной и внезапной смерти Марты Дж., дурной девочки, предавшейся пороку лжи и обмана»».
Мистер Брокльхёрст, когда мы читаем про него в книге «Джейн Эйр», кажется воплощением чистого зла. Он кажется таким почти опереточным злодеем, который выходит на сцену и говорит: «А-а-а! Я злодей, я хочу убить всех!» — или
У мистера Брокльхёрста был совершенно реальный прототип — человек, которого хорошо знал отец Шарлотты и которого знал весь Йоркшир, — и когда книга дошла до Йоркшира, его тут же все узнали. На что, возможно, Шарлотта Бронте изначально не рассчитывала. Это был священник, преподобный Уильям Карус Уилсон, действительно создавший школу для дочерей священнослужителей, которые не могли сами дать образование своим дочерям. И это была школа на самом деле неплохая — что мы видим даже из романа «Джейн Эйр». Она включала в программу гораздо больше, чем обычно полагалось знать девочкам в викторианское время. Там были и языки, и музыка, и история, и география, и литература. Но, конечно, условия там были очень тяжелые — что опять-таки было очень типично для школ того времени. Мы читаем о страшном прогорклом вареве, которое им предлагали есть, в котором плавали куски гнилого мяса; о том, как они не могли умыться, потому что вода в тазах замерзала; о том, как эпидемия выкосила полшколы, — и, в общем, никого это особенно не волновало.
В Ловудском приюте, в тех сценах, которые описывает Шарлотта Бронте, нас поражает суровость и необоснованность наказаний. Во всех школах были телесные наказания, в школах для мальчиков телесные наказания существовали до середины ХХ века и позже. Кроме того, были наказания унизительные. На детей вешали вывески: «Неряха», «Лентяй». Если, например, ребенок не понял объяснения и сделал ошибку, на него надевали так называемый колпак тупицы, на котором так и было написано: «Тупица». Детей заставляли в наказание бесконечно переписывать один и тот же текст. Секли розгами, били тростью и так далее. Это действительно была повсеместная практика, и наказания были очень изощренными — и не нужно думать, что им подвергались только бедные и беззащитные дети, такие, как вот эти осиротевшие девочки в приюте. Например, дочь королевы Виктории за ложь запиралась в комнате со связанными руками. То есть и принцесса подвергалась таким наказаниям.
В одних мемуарах, тоже викторианской поры, мне встретился очень трогательный пассаж, где автор подсчитывает, сколько человек имели право ее бить. И получалось, что довольно много. То есть идея, что из ребенка надо выбить грех, действительно была очень популярной. И когда миссис Рид запирает Джейн Эйр в комнате, в которой умер ее дядя, и та испытывает смертельный страх и после этого заболевает — это не проявление
Конечно, нас сегодня это не может не ужасать, как ужасно это возмущает героиню, Джейн Эйр. И вот как раз это возмущение, которое мы воспринимаем естественно, было самым удивительным в этой книге. Потому что такие школы существовали повсеместно, это было нормой. Почти никто, кроме Шарлотты Бронте, вот так сильно не возмущался. Несмотря на все эти ужасы, несмотря на то, что дети действительно в этих школах умирали.
Можно назвать два писательских голоса, которые возвысились против такой школьной практики. Это Чарльз Диккенс, который опубликовал в 1838–1839 годах (тоже порциями в журнале, как было принято) роман «Николас Никльби», где выведена школа в Йоркшире — там дети подвергаются страшным издевательствам, плохо питаются, умирают и так далее. Для того чтобы написать эти главы, Диккенс ездил в Йоркшир инкогнито, проникал в школы и там производил разведку. Он вообще увлекался расследовательской журналистикой. А Шарлотта Бронте испытала это все на себе — и это самая автобиографическая часть книги, те главы, где Джейн находится в приюте. Это абсолютно то, что Бронте пришлось пережить самой. Две ее сестры умерли в этой школе, потому что никто не обращал внимания на то, что они больны. А она действительно испытывала глубочайшее возмущение, которое переполняло ее всю жизнь. И это возмущение выплеснулось вот таким образом в романе.
Конечно, прежде всего после Диккенса, произошла реформа школ. И вот такие школы закрыли. Тогда писательские голоса, так громко прозвучавшие, часто приводили к реформам. Но я хочу вернуться к мистеру Брокльхёрсту и книжке, которую он дал Джейн Эйр на прощание. О девочке, которая лгала и в результате умерла. Действительно, мистер Уилсон, прототип мистера Брокльхёрста, тоже писал книги для детей, примерно такого же толка, и издавал журнал, который назывался «Друг детей». В этом журнале он печатал свои собственные рассказы (мистер Брокльхёрст тоже увлекался сочинением рассказов), содержание их было примерно такое: один мальчик не послушался маму и папу и сгорел в камине. А другая девочка соврала — и утонула. Или одна девочка аплодировала учительнице, которая выпорола нескольких учеников, потому что «она же это делает для нашего блага». Как сказано в Библии, «кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына». И поэтому это все делается для того, чтобы мы не грешили и попали в рай. И вообще идея, что дети должны любить розги и быть благодарными тем, кто их сечет, была тогда довольно популярна.
Это действительно очень популярный протестантский жанр — а мистер Уилсон был кальвинист, то есть представитель самого яростного, самого сурового ответвления протестантства. И детская смертность в этих книжках была стопроцентная. Все дети в этих рассказах умирают. Только плохие дети умирают с ужасом, зная, что пойдут в ад, а хорошие дети умирают с удовольствием, зная, что пойдут в рай. И вот это — и только это — и было книжками, написанными специально для детей.
Тем не менее времена менялись. И не случайно, что все это так близко расположено по времени. Например, романы Диккенса, в которых он описывает ужасы школ, а потом будет роман «Дэвид Копперфилд», тоже автобиографический, об ужасах детства самого Диккенса.
Но Шарлотта Бронте успела первой, еще до «Дэвида Копперфилда», сделать ребенка рассказчиком. Это считается ее новаторской находкой: у нее в романе говорит ребенок. Она показывает внутренний мир детства через свой опыт. Это было очень необычно. Все это стало началом другого восприятия детства, которое очень
Как раз начиная с середины века стали появляться детские книги. Мы теперь понимаем, что это и есть детская литература: лимерики Эдварда Лира, «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, менее известные сказки Чарльза Кингсли и Джорджа Макдональда — и так далее. То есть появилась та английская литература, которую мы сегодня опознаем как детскую, где много приключений, развлечений, мало назиданий, нет никаких постоянно умирающих детей… Ну, хотя у Кингсли и Макдональда есть, конечно.
Любопытно, что и в образовании происходили серьезные перемены — и в том числе в образовании для девочек. И интересно, что это все началось с гувернанток. Потому что мы видим парадоксальную ситуацию: сирота Джейн Эйр в романе попадает в ужасный Ловудский приют, где их морят голодом, холодом и так далее, и получает там очень приличное образование, которое позволяет ей музицировать, рисовать, читать, учить языки, работать гувернанткой, работать сельской учительницей.
То есть она получает от этой школы действительно много интеллектуальной пищи. И когда она встречается со своими выросшими богатыми кузинами, оказывается, что у них с образованием все обстоит гораздо хуже. Одна из них не читает ничего, кроме часослова Часослов — книга, содержащая тексты песнопений и молитв для церковных служб., другая не читает вообще ничего. Они не умеют себя занять, они не владеют ни кистью, ни
Это вполне закономерно, потому что девушек из богатых семей не готовили к тому, чтобы они читали книжки и учили языки (современные еще туда-сюда, но, уж конечно, не классические). И они действительно получали менее основательное образование, чем девочки вот в таких вот школах и приютах.
Обычно в богатых семьях за образование девочек отвечала гувернантка. И вот как раз
И тогда возникло Общество защиты гувернанток — всё в те же самые годы, когда выходит «Джейн Эйр», это буквально 1847 год. Возникают высшие курсы для гувернанток — но их посещают многие девушки, которые не планируют стать гувернантками. И этот огромный наплыв девушек, которые приходят слушать лекции по самым разным предметам, приводит к тому, что открывается первый женский колледж — и уже совсем недалеко до времени, когда женщины проникнут в святая святых — старинные английские университеты Оксфорд и Кембридж. А все началось со скромной гувернантки.
Безусловно, каждая эпоха
Я хочу обратить ваше внимание на то, что это будет один и тот же пассаж. Потому что из прочитанного это будет неочевидно.
По
Тем не менее они продолжают переписываться, и именно известие о судьбе Сент-Джона — это то, чем Шарлотта Бронте заканчивает роман:
«Сент-Джон покинул Англию ради Индии. Он вступил на избранную им стезю и следует по ней до сих пор. Никогда еще столь мужественный пионер не пролагал дорогу среди диких скал и грозных опасностей. Твердый, верный, преданный, исполненный энергии и света истины, он трудится ради ближних своих, расчищает их тяжкий путь к спасению. Точно исполин, он сокрушает препятствующие им суеверия и кастовые предрассудки. Пусть он суров, пусть требователен, пусть даже все еще честолюбив, но суров он, как воин Великое Сердце, оберегающий вверившихся ему паломников от дьявола Аполлиона. Его требовательность — требовательность апостола, который повторяет слова Христа, призывая: „Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною“. Его честолюбие — честолюбие высокой самоотверженной души, взыскующей обрести место в первом ряду спасенных — тех, кто непорочен стоит перед престолом Божьим, тех, кто разделит последние великие победы Агнца, тех, кто суть званые, и избранные, и верные.
Сент-Джон не женат и уже не женится никогда. Труд его был по силам ему, а ныне труд этот близок к завершению — его дивное солнце спешит к закату. Его последнее письмо исторгло у меня из глаз человеческие слезы и все же исполнило сердце мое божественной радости: ему уже мнится заслуженная награда, его нетленный венец. Я знаю, следующее письмо, начертанное рукой мне не известной, сообщит, что добрый и верный раб наконец призван был войти в радость господина своего. Так к чему лить слезы? Никакой страх не омрачит последний час Сент-Джона, ум его будет ясен, сердце исполнено мужества, надежда неугасима, вера тверда. Залогом тому его собственные слова.
„Мой Господин, — пишет он, — предупредил меня. Ежедневно Он возвещает все яснее: ‚Ей, гряду скоро!‘, и ежечасно все более жаждуще я отзываюсь: ‚Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе!‘“».
То же самое в переводе Станевич:
«Что касается Сент-Джона, то он покинул Англию и уехал в Индию. Он вступил на путь, который сам избрал, и до сих пор следует этой стезей.
Он так и не женился и вряд ли женится. До сих пор он один справляется со своей задачей; и эта задача близка к завершению: его славное солнце клонится к закату. Последнее письмо, полученное от него, вызвало у меня на глазах слезы: он предвидит свою близкую кончину. Я знаю, что следующее письмо, написанное незнакомой рукой, сообщит мне, что Господь призвал к себе своего неутомимого и верного слугу».
И вот то же самое в переводе Иринарха Введенского:
«Мистер Сент-Джон Риверс уехал в Индию и сделался там отличным миссионером. Он не женат».
Перевод, который мы прочитали первым, конца ХХ века, — это перевод абсолютно точный, он следует оригиналу практически слово в слово. Перевод советского времени не просто опускает довольно большой кусок текста — он совершенно другой интонационно. Мне кажется, что как раз здесь это особенно чувствуется. Это интонация очень обыденная, совершенно лишенная религиозной экзальтации. А Иринарх Введенский, который вообще не считал нужным церемониться с гувернанткой, как мы уже говорили, решил, что это кусок вообще
У меня была бабушка, учитель физики, Софья Григорьевна Луцкая, которая «Джейн Эйр» любила, безусловно, больше всех книг на свете и перечитывала непрерывно. Вот «настольная книга» — это именно в буквальном значении то, чем была для нее «Джейн Эйр», она всегда была под рукой. Бабушка вообще много читала, всегда сидела или со своими тетрадками, или с книгами, но «Джейн Эйр» была
И она, конечно, мне ее начала читать настолько рано, что я не помню когда. И
Я должна сразу признаться, что не читала «Моби Дика» в детстве и даже не помню, чтобы читала его подростком. Первое сильное впечатление от этой книжки более позднее. Но мне очень легко представить, какое обаяние она имеет для совсем юного человека. Там есть охота, там есть погоня, там есть приключения, там есть смелые, отважные люди, которые противоборствуют огромному таинственному морскому чудищу.
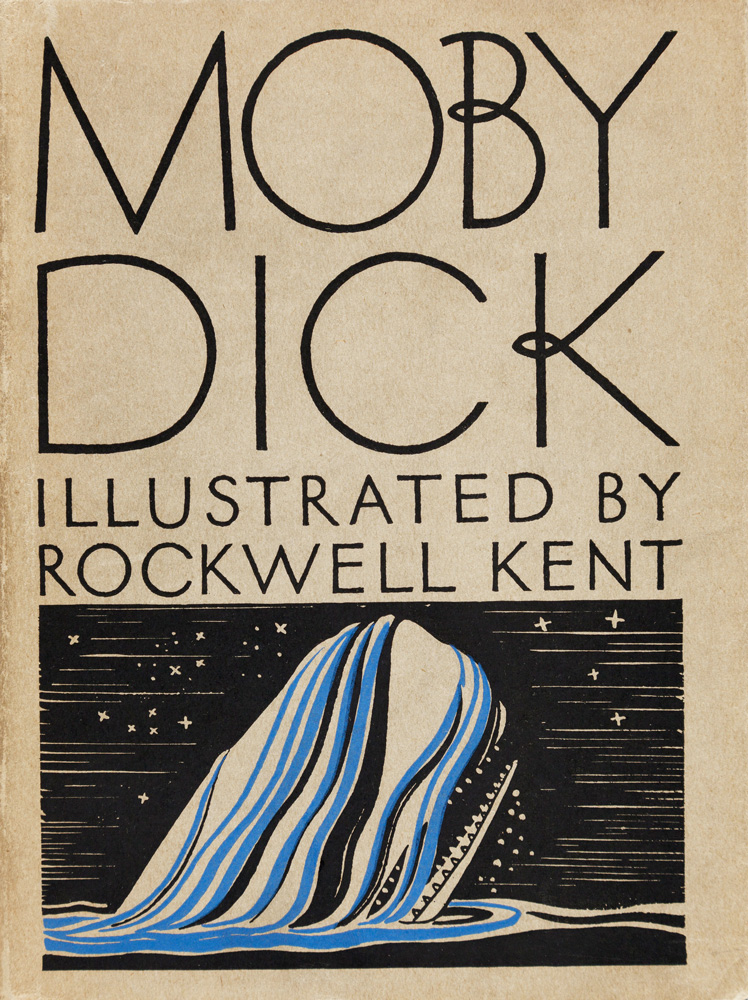
Еще там есть удивительно подробно, и точно, и достоверно описанный мир, которого нет и никогда не будет, в который можно войти только усилием воображения, — мир китобоев, каким он был 200–300 лет назад. Это само по себе чарует, и самого по себе этого более чем достаточно, хотя в книге есть и много больше. И я думаю, что, когда мы возвращаемся к этой книжке и перечитываем ее уже более взрослым взглядом, мы находим себя в ней иначе. Про это я и хотела рассказать.
Нужно начать с того, как вообще «Моби Дик» «вплыл» в жизнь Мелвилла и через него — в мировую литературу. Потому что история о том, как возник этот странный роман, который не похож на роман, — особая. Написал его 30‑летний, в общем, молодой человек, ровно полжизни которого прошло в испытаниях. Он родился в очень благополучной, приличной нью-йоркской семье, а потом из-за банкротства и смерти отца вынужден был строить жизнь заново. Он пробовал землемерствовать, пробовал учительствовать,
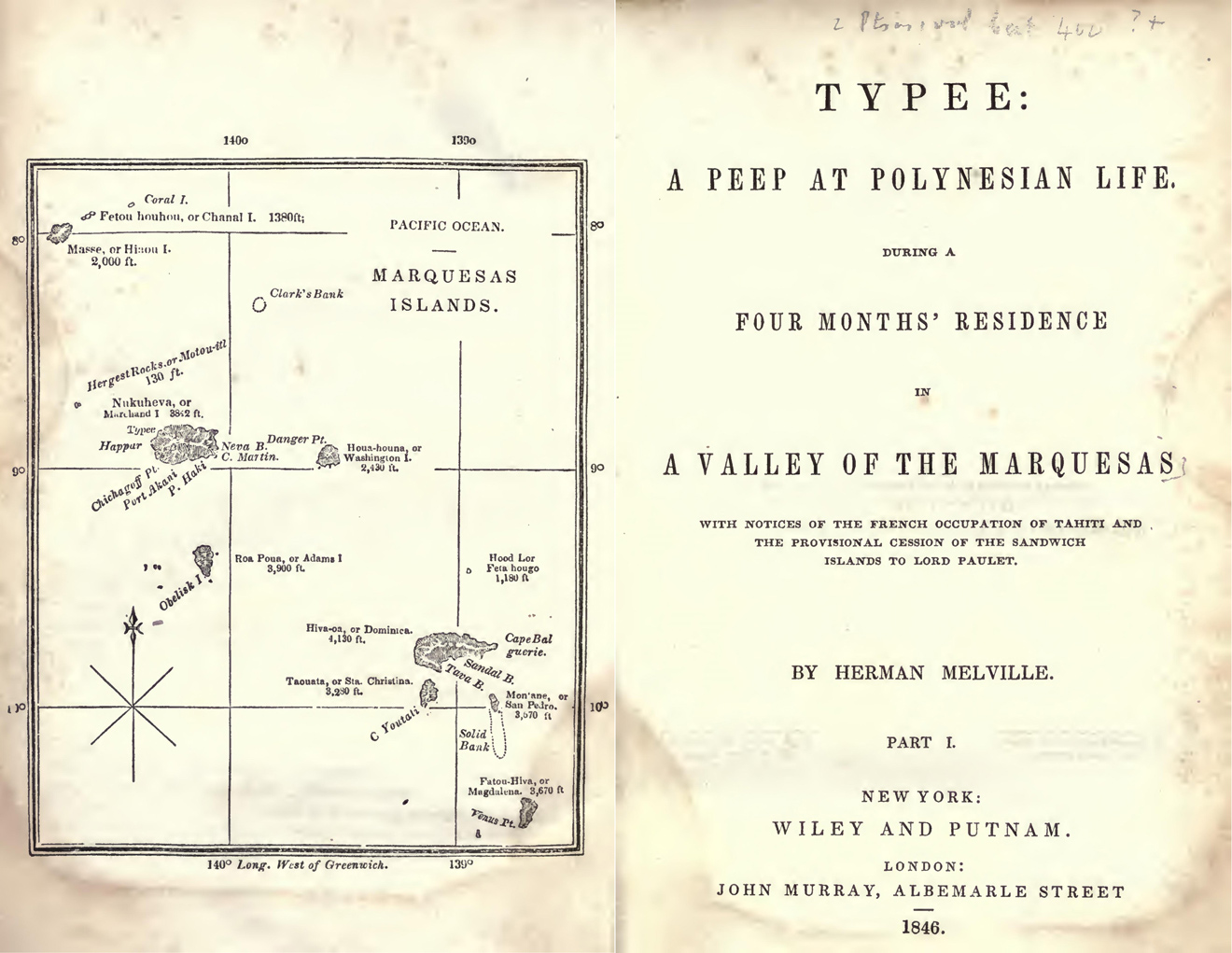
А когда вернулся — начал писать, наверное, неожиданно даже для себя. И потерпел успех. Роман под названием «Тайпи» описывает, как он с приятелем сбежал с корабля на Полинезийских островах и
Из этой точки и пишется книга под названием «Моби Дик» — очень «поисковая» книга. В Лондоне она сначала была опубликована под названием «The Whale», «Кит» или «Тот самый кит», и только потом появляется нынешнее название, уточняющее цвет кита и его кличку. В это время никто не подозревает, что написан главный шедевр американской романистики: книжка вызывает скорее недоумение и сдержанные реакции.
«Моби Дик» — это 1851 год. Впереди меньше десятилетия работы как писателя — в 1857-м Мелвилл пишет последнее опубликованное прозаическое произведение. Почему он погружается в молчание, сказать трудно — можно строить
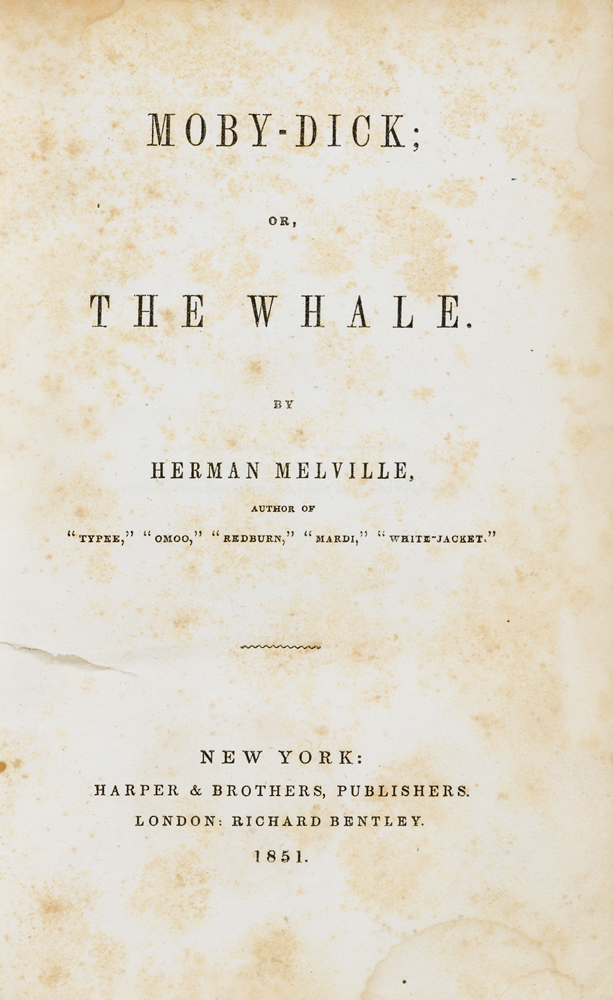
Когда он умирает в 1891 году, уже в очень преклонном возрасте, в некрологах сообщают, что умер инспектор нью-йоркской таможни Герман Мелвилл, который
После его смерти жена, Элизабет Мелвилл, найдет в кабинете жестяную коробку с рукописями, но она, в
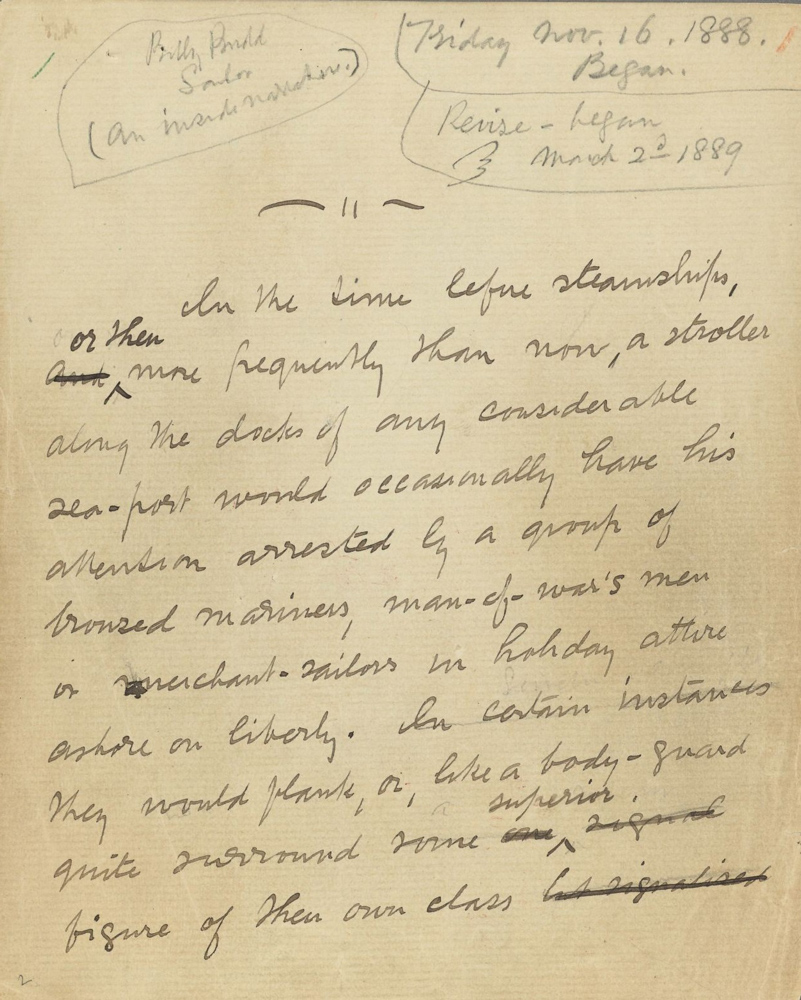
Вернемся обратно к «Моби Дику». Я думаю, в американской литературе нет более знаменитой первой фразы романа: «Call me Ishmael» — «Зови меня Измаил» или «Зовите меня Измаил». Это
Если совсем коротко пересказать сюжет, то молодой человек, назвавшийся Измаилом, нанимается на китобоец, и корабль уходит в плавание. И поначалу нигде не видно капитана, а когда капитан Ахав объявляется, выясняется удивительная вещь: он, в

Для капитана это месть, потому что в предыдущем плавании Моби Дик его искалечил, но это не мелкая личная месть и не об этом он толкует команде — 30 матросам, как бы человечеству в миниатюре, собравшемуся на палубе корабля под названием «Пекод» или «Пекот». Пекотами назывались люди индейского племени, истребленного пуританами в XVII веке в ответ на устроенный ими кровавый набег. То есть с самого начала в романе присутствуют, пусть и не очень заметно, ассоциации, связанные с войной, кровопролитием, насилием. Так или иначе, месть капитана Ахава — это не мелкая месть живой твари, которую кит покалечил. Из боли, которую он так сильно и долго переживал, родилась химера, сплавившая образ кита и образ злой судьбы — или образ печальной, несчастной ограниченности человеческих возможностей: никогда человек не сможет осуществить то, что он воображает, то, о чем он мечтает, в полной мере —

Мы ожидаем, что будет дальше. А дальше странным образом ничего особенного не происходит. Корабль плывет, занимается промыслом, встречает другие корабли, гарпунеры забивают китов, потом обрабатывают их туши и так далее, то есть происходит обычная рутина, промысловое плавание. И мы так и не знаем, чего ждать. В конце концов, безумец может образумиться или его могут образумить — спрятать в трюм до лучших времен. Или Моби Дик вообще может не появиться, потому что как ни велик кит, Мировой океан еще больше. То, что началось как лихо закрученный авантюрный роман, превращается в роман производственный, что может нравиться или не нравиться, увлекать или обескураживать. Это необыкновенно пространное, «вкусное», «болтливое» описание. Даже если посмотреть оглавление, мы увидим: что ни глава — то обозначение
В последних трех главах мы вдруг возвращаемся к приключению. Моби Дика настигают, он уплывает, корабль «Пекот» его упорно преследует. В
Отвлечемся от сюжета, который возникает в начале, в середине странным образом отсутствует и возвращается в конце. Еще раз — это может нравиться, а может не нравиться. Например, Эрнест Хемингуэй, который в
А нам интересно, что за блюдо готовил Герман Мелвилл. Через весь толстый разномастный роман, где есть описания, есть авантюра, есть шекспироподобная драма, есть философское размышление, есть квазинаучное описание, проходит одна сквозная тема. Ее можно сформулировать как тему взгляда или зрения, которое одновременно умозрение и прозрение — или сомнительность прозрения, а иногда коварство прозрения.
По-английски первая глава называется «Loomings», что трудно перевести. Это то, что видно, но трудно различается. На русский она переведена как «Очертания проступают» Перевод Инны Бернштейн.. Там рассказывающий нам эту историю Измаил задается вопросом: а почему, собственно, все эти сухопутные крысы, которые сидят всю жизнь в своих конторах или каморках на Манхэттене, как только выдается свободный день, устремляются к молам Молами называют ограждения от морских волн у входа в порт., к пристаням — чем ближе к воде, тем лучше — и стоят там

Этот вопрос возникает снова и снова за каждым поворотом. Например, в XVI главе «Корабль». Как раз в этой главе Измаил приходит наниматься на китобоец, и капитан корабля Фалек У «Пекода» было несколько владельцев, которые называли себя капитанами. Капитан Фалек представился Измаилу так: «Ты говоришь с капитаном — с капитаном Фалеком, вот с кем ты говоришь, юноша. Дело мое и капитана Вилдада — снаряжение „Пекода“ перед плаванием, поставка на борт всего необходимого, а значит, и подбор экипажа. Мы совладельцы судна и агенты». проводит с ним, как мы бы сейчас сказали, собеседование. Он спрашивает, собственно, зачем он пришел, что побудило его пойти в матросы. Измаил отвечает: «Хочу посмотреть мир». Ага, говорит ему капитан Фалек, так вот пойди на нос корабля, посмотри, а потом вернись и расскажи, что увидел.
Измаил отправляется на нос корабля. Что он видит? Видит опять-таки волнующуюся холодную пустоту. Он возвращается и докладывает об этом капитану, а тот спрашивает, стоит ли ради этого огибать мыс Горн. Может быть, лучше смотреть оттуда, откуда стоишь? Здравый смысл абсолютно на стороне капитана, но
Каждая глава побуждает нас рассматривать эту тему то с одной, то с другой стороны. Например, в 99-й главе, «Дублон», вставлено «зеркало». Капитан Ахав приколачивает к мачте «Пекота» золотую эквадорскую монету, на которой выгравировано

Потом подходит
Есть еще кое-что, интригующее и Измаила, и автора романа, наверное, больше всего. Это, например, то, как видит мир кит. А кит видит мир иначе, чем человек, хотя бы потому, что голова кита устроена таким образом, что он смотрит сразу в две разные стороны и видит мир сразу в двух перспективах. Кажется, самой большой амбицией Германа Мелвилла было бы попробовать воспроизвести художественными средствами эту двойственность видения, физически недоступную человеку.
Например, в главе «Великая армада». О какой удивительной и прекрасной армаде здесь идет речь? Корабль, преследуя кита, оказывается вдруг посреди огромного китовьего стада. А середина выглядит как неожиданно тихое, гладкое озеро. И если посмотреть вглубь, то увидишь, как в глубине, неожиданно прозрачной, плавают китихи и новорожденные, совсем маленькие киты. Младенцы-киты смотрят вверх, на смотрящих на них людей, и это странный, остраненный взгляд, похожий на то, как глядят маленькие человеческие младенцы, — они и смотрят на тебя, и не замечают, как будто ты

Кончается эта удивительно идиллическая сцена побоищем. Потому что китобои, которые плывут среди этого огромного стада, то почесывая
Итак, есть капитан, одержимый идеей настигнуть и убить. И есть рассказчик Измаил, совсем другой типаж. И между ними разыгрывается настоящая интрига, если не драма. Потому что, если бы не было капитана, не было бы истории — Измаилу было бы нечего рассказать, а если бы не было Измаила, то некому было бы рассказать. Но Измаил — человек любопытный и дружелюбный, он образцовый оппортунист, то есть легко уживается и с добрым, и со злым, и с совершенным, и с несовершенным. В одной из начальных глав он волею судеб оказывается в одной комнате и даже постели с дикарем, возможно, каннибалом. Ничего — он переживает и эту странную ситуацию. А когда каннибал, который становится его другом, приглашает вместе помолиться, то при всей правоверности своих христианских убеждений Измаил решает, что Бог не будет против, — и молится языческому божку. Он умеет ужиться с неопределенностью, недосказанностью, несовершенством жизни.
И, наверное, самую главную истину — я не знаю, главная ли она для Мелвилла, но она совершенно точно является такой для рассказчика романа — Измаил высказывает в 85-й главе под названием «Фонтан». Фонтан — это первое, чем кит становится заметен на расстоянии. «Фонтан на горизонте!» — кричит дозорный. В то же время, рассказывает нам в этой главе Измаил, никто не знает, что такое фонтан, — это
«Так сквозь густой туман моих смутных сомнений то здесь, то там проглядывает в моем сознании божественное наитие По-английски здесь стоит слово intuition, то есть «видеть», «прозрение»., воспламеняя мглу небесным лучом. И за это я благодарен Богу, ибо у всех бывают сомнения, многие умеют отрицать, но мало кто, сомневаясь и отрицая, знает еще и наитие. Сомнение во всех истинах земных и знание по наитию кое-каких истин небесных — такая комбинация не приводит ни к вере, ни к неверию, но учит человека одинаково уважать и то и другое».
Это умение балансировать, умение видеть «надвое», умение жить парадоксом — то образцовое, что воплощается на уровне метафоры в видении кита. Мне кажется, что для Мелвилла, в этом романе и вообще, это то, в чем воплощается человеческая мудрость, которой свойственно стремиться к окончательным истинам, но это стремление, как показано, не доводит до добра.
Мелвилл заканчивал свой роман, сидя в кабинете только что купленного, вполне «сухопутного» имения. Он назвал его Эрроухед Arrowhead на английском, то есть буквально «наконечник стрелы».: домик располагался в Беркширских горах, где в земле находили много наконечников стрел, и Мелвилл дал название в память о войнах, об охотах.

Окна его кабинета выходили на так называемую mount Greylock, гору Грейлок. Это самая высокая гора в штате Массачусетс, хотя она не так уж велика — ее высота около тысячи метров. С точки зрения Мелвилла, она — и он многим об этом говорил — похожа на горб кита, горб кашалота.

Он сидел в своем «сухопутном» поместье, заканчивал роман, и мне интересно это представлять. Он смотрел на горб горы, а потом на буквы, которые выводила его рука, а потом опять на горб горы, и в этой постоянной смене оптик — «далекого — близкого», «абстрактного — конкретного» — наверное, черпал вдохновение. А когда он закончил, то признался в письме другому писателю, Натаниэлю Готорну, в котором отчаянно хотел видеть человека, понимающего его до глубины души (неизвестно, в какой мере понимал его Готорн — от дружбы он скорее уклонялся): «I have written a wicked book». Трудно сказать, как здесь перевести слово wicked: «Я написал злую», или «опасную», или «вредную книгу»». Продолжается эта фраза так: «Но я чувствую себя непорочным, как агнец».

Он действительно написал не просто мальчиковый авантюрный роман про охотников — он написал очень трудную, вредную в каком-то смысле книгу. Она не дает нам ясности, не дает определенности, она все время выталкивает нас в
Я расскажу историю из своей практики преподавателя, потому что волею судеб я ежегодно преподаю «Моби Дика». Однажды мне пришлось столкнуться с обескуражившей меня неожиданностью. Студентка, причем хорошая, оправдываясь, что недочитала к семинару
Современному читателю, привыкшему к фильмам вроде «Парка юрского периода», может показаться, что главное достоинство книги Конан Дойла в том, что это первая книга про динозавров. Но на самом деле эта книга не только и не столько про динозавров, сколько про Британскую империю в канун Первой мировой войны, про ее внутреннее устройство, про ее роль и миссию в международной политике в понимании Конан Дойла.
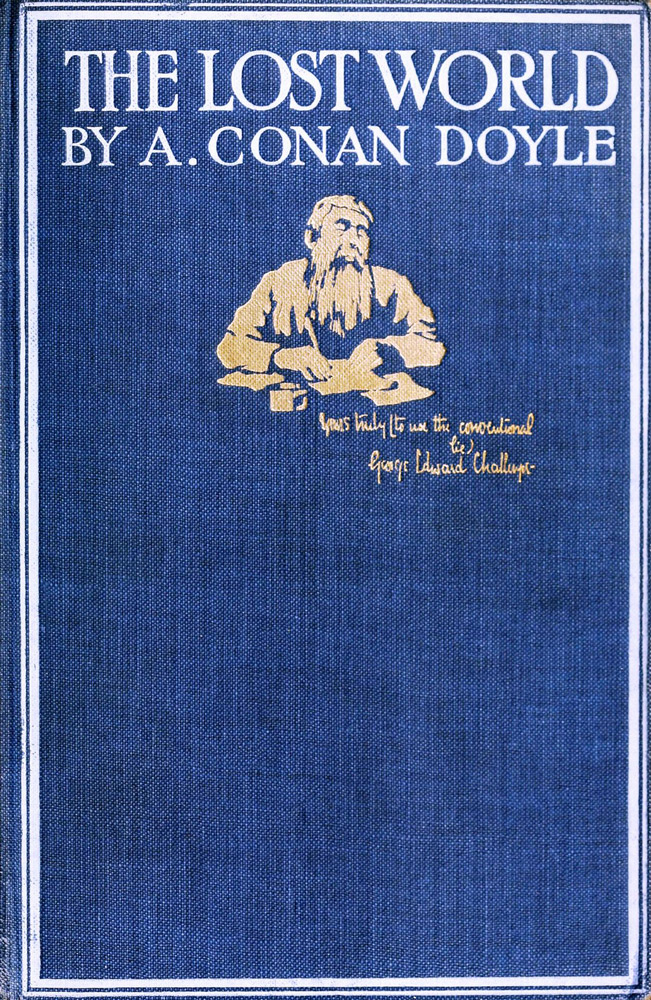
В индейской деревне в джунглях Амазонки профессор Челленджер натолкнулся на тело только что скончавшегося там американца. Бедняга умер от голода, истощения и усталости. В его вещмешке Челленджер нашел альбом с рисунками удивительных животных. Рисунки эти опознал бы даже ребенок — так похожи они были на иллюстрации к книге «Исчезнувшие виды животных» E. R. Lankester. Extinct Animals. London, 1905., вышедшей в 1905 году и подготовленной бывшим директором Музея естественной истории Рэем Ланкестером.

Сопоставив содержимое вещмешка с рассказами индейцев о горе, на которой обитают злобные духи, Челленджер тут же понял, что перед ним драгоценные улики. Он пустился по следу американца и добрался до неприступного горного плато. Взобраться на него ему так и не удалось, но зато с вершины плато к нему слетел живой птеродактиль.

Челленджер вернулся в Лондон с сообщениями об удивительном открытии, но ему никто не поверил. Во-первых, у него было слишком мало вещественных доказательств, а во-вторых, Челленджер обладал отвратительным характером: он был слишком уверен в своем интеллектуальном превосходстве, надменен, неуживчив и склонен к публичным скандалам.
После очередного такого скандала, который Челленджер спровоцировал во время лекции об эволюции Земли, было решено наконец собрать комиссию, чтобы проверить его сообщения на месте. В комиссию вошли: ученый и коллега профессора Челленджера, профессор Саммерли, знаменитый британский охотник и спортсмен лорд Рокстон и двадцатитрехлетний ирландский репортер Эд Мелоун, от лица которого и ведется повествование. В Латинской Америке к ним присоединился сам профессор Челленджер. Экспедиция включала четверых белокожих британцев, двух нанятых на месте метисов, индейцев и одного темнокожего потомка африканских рабов по имени Самбо. Они пустились по следу бедняги-американца, поднялись по Амазонке и ее притокам, преодолели речные пороги, пробрались через джунгли, где их подгоняли барабаны каннибалов-индейцев, и, наконец, экспедиция добралась до подножия горного плато, где обнаружила останки еще одного американца, погибшего загадочной, но явно мучительной смертью.
Путешественникам удалось подняться на плато, но там они оказались в ловушке из-за предательства коварного метиса: он сбросил в пропасть единственный мост, связывавший плато с горным утесом, на который можно было взобраться. Метис мстил им за гибель своего брата и поплатился смертью за предательство, но утешения в этом было мало, поскольку белокожие путешественники оказались заперты на вершине плато и индейцы бросили их в беде. Единственной ниточкой, связывавшей их с внешним миром, остался Самбо — он обещал верно дожидаться их возвращения у подножия утеса и не обманул.

Британцы начали открывать для себя этот затерянный мир, населенный злобными человекообезьянами, громадными динозаврами и злосчастными индейцами, которые были вынуждены бороться за выживание и с первыми, и со вторыми. Несколько раз едва не расставшись с жизнью, британские путешественники помогли индейцам справиться с ужасными человекообезьянами, вдоволь налюбовались на динозавров и пустились в обратный путь. Им удалось выбраться с плато, и они вернулись в Англию, где продемонстрировали маловерам живого птеродактиля и стали героями дня.
Конан Дойл поставил эпиграфом к своему роману красивую фразу: «У меня есть простой план: доставить час радости мальчику, ставшему наполовину мужчиной, и мужчине, оставшемуся наполовину мальчиком». Этот роман писался не для женщин, увы, и это характерный признак романа поздней Викторианской эпохи. Это резко отличает его и от авантюрного французского романа, и от исторического романа в духе Вальтера Скотта. В этих романах непременно действует пара героинь: есть целомудренная и прекрасная блондинка, которая становится наградой герою, если герой успевает ее спасти, и есть темпераментная брюнетка, которая и сама не прочь спасти героя. По всем законам романического жанра указать героям выход с плато должна была прекрасная индианка — как это происходит, например, в «Кавказском пленнике» Пушкина. Но у Конан Дойла эту роль выполняет молодой сын индейского вождя. Женщины в поздневикторианском романе не заслуживают доверия — они взбалмошны, капризны и непредсказуемы.

От стандартной пары «целомудренная блондинка — темпераментная брюнетка» у Конан Дойла осталась только вторая часть. Немногочисленные героини «Затерянного мира» все как на подбор темпераментные брюнетки, но вместо помощи они доставляют героям одни неприятности. Жена профессора Челленджера устраивает ему публичный скандал при Мелоуне и угрожает разводом, а невеста Мелоуна Глэдис сначала отправляет его рисковать жизнью ради того, чтобы заслужить ее руку, а потом, не дождавшись его возвращения, выходит замуж за ничтожного клерка. Не надо доверять женщинам в викторианском романе. Гораздо лучше — надежная мужская дружба, особенно накануне войны.
А в том, что мир ожидает война, герои Конан Дойла не сомневаются, как не сомневался в этом и сам Конан Дойл, и, надо сказать, он не сильно ошибся в прогнозах. Роман печатался в 1912 году. Мелоун
Я думаю, из моего рассказа вы уже поняли, что роман «Затерянный мир» с современной точки зрения глубоко неполиткорректный. Конан Дойл со снисходительной иронией относится к женщинам и регулярно употребляет слово «негр». Моя точка зрения не совпадает с точкой зрения автора.
Образцом для описания затерянного плато стала история открытия реального плато Рорайма, которое находится на границе трех стран: Бразилии, Венесуэлы и — тогда — Британской Гвианы. О существовании этого плато европейцы знали по крайней мере с XVII века, но взобраться на него удалось только в 1884 году — это была экспедиция британского подданного швейцарского происхождения Эверарда им Турна. Экспедиция им Турна вызвала живой интерес публики: все рассчитывали, что он найдет там остатки доисторической флоры и фауны и — особенно — динозавров. Но динозавров там не оказалось. Зато им Турн увидел фантастический пейзаж: выветрившиеся скалы напоминали фигуры окаменевших людей и странных животных.

Однако и после экспедиции им Турна плато продолжало возбуждать общественное воображение. В 1896 году в Америке в серии популярных романов для подростков о приключениях Фрэнка Рида — младшего вышло целых два романа про плато Рорайма. Первый назывался «По течению Ориноко», а второй — «Остров в воздухе». Американский подросток Фрэнк Рид — младший отправляется на затерянное плато в сопровождении своего старшего товарища — профессора Перегрина. Они рассчитывали найти там динозавров, но вместо этого обнаружили три цивилизации: вначале — очень дружелюбных инков, а потом — две неизвестные цивилизации, которых радостно окрестили «греками» и «римлянами». «Греки» были светловолосы и очень дружелюбны, а «римляне» — крепко сбиты и довольно упрямы. Они угнали автомобиль Фрэнка Рида, уронили его с вершины плато, и Фрэнку пришлось возвращаться домой пешком. Эти романы были переизданы в Англии в начале ХХ века и, скорее всего, попали в руки Конан Дойла.
Но ожидания серьезных людей были связаны не с динозаврами и не с инками. Серьезные люди предполагали, что на плато можно найти залежи драгоценных камней и металлов. Следы этих ожиданий есть и в «Затерянном мире» — вспомним про бриллианты, которые лорд Рокстон находит в голубой глине озера птеродактилей. Эта надежда едва не стала причиной крупного международного кризиса. Британцы все настойчивее оттесняли от плато венесуэльцев, и в 1894 году Венесуэльский кризис обычно датируется 1985 годом, но давление со стороны британских войск началось в 1984-м. Борьба за спорную территорию, которую Венесуэла считала своей, а Британия — территорией Британской Гвианы, переросла в дипломатический кризис, когда британцев обвинили в нарушении доктрины Монро. Согласно доктрине, США обязались не вмешиваться во внутреннюю политику европейских стран — это же обязательство работало в обратную сторону для стран Западного полушария. Используя доктрину как повод, США вмешались в спор и приняли сторону Венесуэлы, британское правительство уступило и обратилось к арбитражу, то есть третейскому суду. этот натиск стал таким грубым, что пришлось вмешаться США. Под давлением Америки британцы согласились на международный арбитраж, и в результате плато досталось Великобритании. Зато та территория, только по которой и можно было на него взобраться, не будучи профессиональным альпинистом в полном снаряжении, осталась за Венесуэлой. Таким образом, плато Рорайма стало для британцев в полном смысле слова потерянным миром.
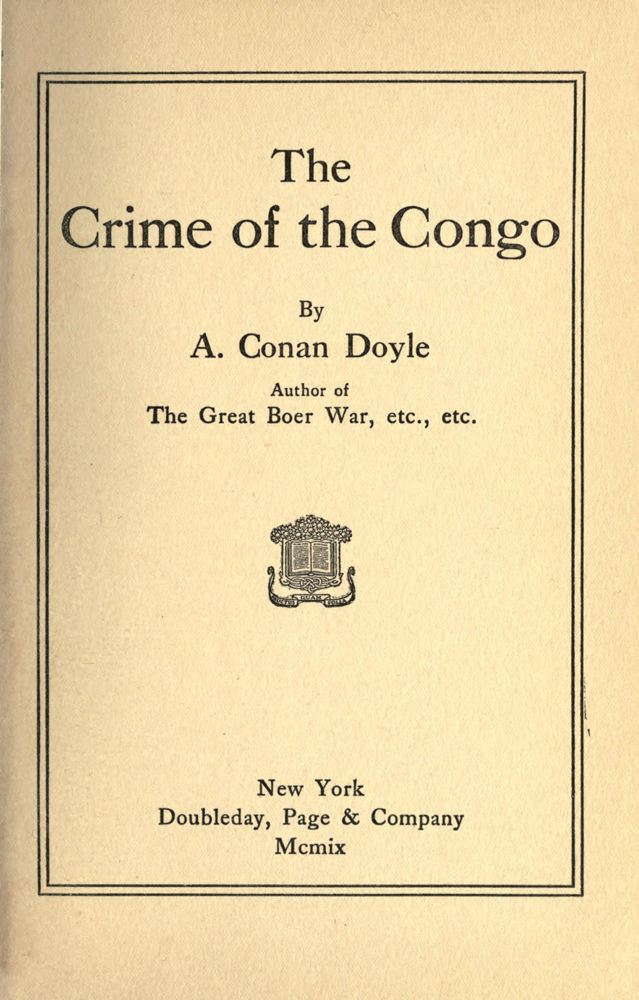
Еще один эпизод международной политики, отразившийся в «Затерянном мире», — это история Свободного государства Конго. Лорд Рокстон — герой индейцев: он спас их от рабства у жестоких злодеев-метисов, которые беспощадно эксплуатировали их для добычи резины. Конан Дойл лаконично добавляет — как в Конго. Это отсылка ко всем известной в начале ХХ века истории Свободного государства Конго, которое тогда находилось в личной собственности короля Бельгии Леопольда II. Бельгийские резиновые концессии наняли племена каннибалов и с их помощью беспощадно эксплуатировали местных жителей. Британские дипломаты первыми вступились за права человека в Конго. Роджер Кейсмент опубликовал доклад о злоупотреблениях бельгийцев, который поднял волну общественного возмущения. Сам Конан Дойл внес вклад в эту борьбу книгой «Преступления Конго» 1909 года.
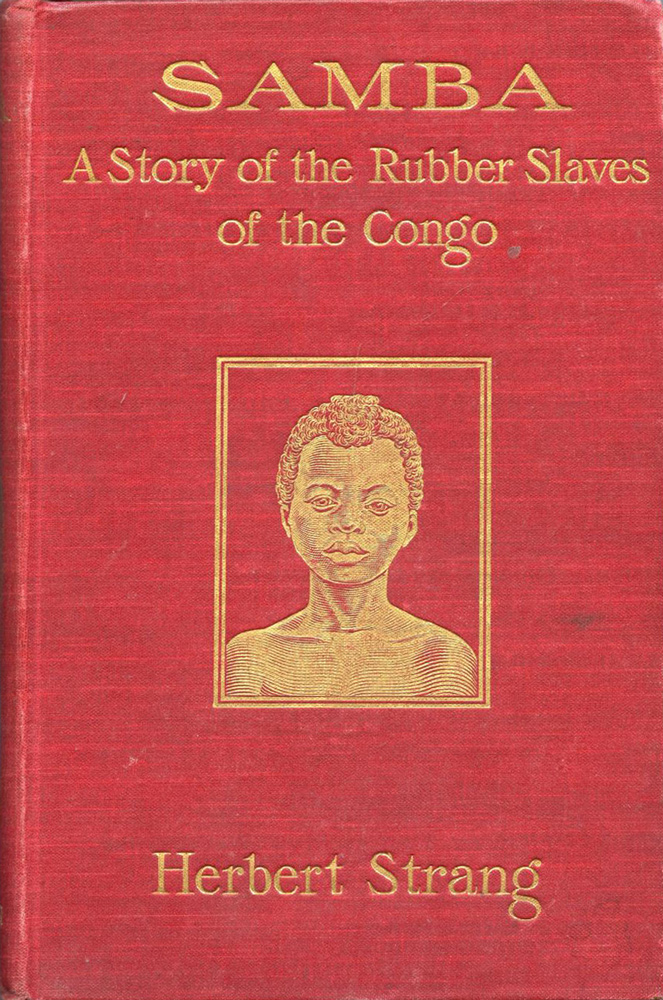
В 1906 году вышел популярный роман для подростков «Самба. История резинового рабства в Конго» В оригинале — «Samba. A Story of the Rubber Slaves of the Congo». Герберта Стренджа. Герой этого романа — африканский подросток Самба, который вместе с семнадцатилетним англичанином по имени Джек борется за права своего народа и героически гибнет. В «Затерянном мире» Самбо — это имя чернокожего африканца, который был единственным, кто не бросил белых британцев в беде. За характером Самбо стоят представления о характере негроидной расы в расовой теории того времени. Чернокожие как дети: они наивны, добродушны, жизнерадостны, их ни в коем случае нельзя превращать в рабов, но их опасно оставлять в одиночестве, потому что власть среди них непременно захватывают самые жестокие, как это и случилось в Конго. Это идеология Англо-бурской войны, в которой англичане отправились освобождать южноафриканцев от рабства буров Бурами, или африканерами, называют потомков европейских колонизаторов из Голландии, Франции и Германии. В Англо-бурской войне 1899–1902 годов Великобритании противостояли две южноафриканские бурские республики, Трансвааль и Оранжевая Республика, где сохранялись рабовладельческие порядки по отношению к местным племенам.. Сам Конан Дойл участвовал в этой войне в качестве военного врача.

Стоит заметить первую отсылку в расовые теории в «Затерянном мире», как масса, казалось бы, малозначительных деталей обретает вполне содержательный смысл. Так, например, при звуке барабанов индейцев-каннибалов Челленджер и Саммерли начинают яростно спорить о том, являются ли эти индейцы монголоидами. За этим стоит представление о желтой, или монголоидной, расе. В представлении расовых теорий начала ХХ века она стоит в развитии выше, чем черная раса, но значительно уступает ей в моральных качествах: эти люди вероломны, коварны и жестоки. Обратим внимание: индейцы в «Затерянном мире» вероломны даже по отношению друг к другу — они обобрали и побили одного из своих товарищей, который был вынужден вернуться к белым британцам и чернокожему Самбо.
Но хуже всего в «Затерянном мире» себя ведут метисы — полукровки, помесь индейцев и испанцев, исторических врагов и конкурентов англичан. Метисы еще более жестоки и коварны. Общество, в котором власть принадлежит метисам, колеблется между анархией и жесточайшей диктатурой. Для того чтобы покончить с рабством индейцев, лорду Рокстону было достаточно убить главных злодеев-метисов, и после этого вся жестокая система эксплуатации распалась сама собой.

Еще любопытнее, как в «Затерянном мире» описаны американцы. В их вещмешках и на месте их стоянки и гибели британцы находят набор чрезвычайно интересных улик: альбом со слабыми стихами и рисунками динозавров, мелки для рисования, золотые часы, серебряный портсигар и, что особенно трогательно, стилографическое перо. Это новомодное изобретение того времени — перьевая ручка, которая заправлялась чернилами при помощи пипетки. И, наконец, обрывки газеты «Чикагский демократ».
Если мы переведем это на язык современных реалий, то увидим, что перед нами два хипстера — один с молескином, а второй с айфоном, — которые отправились в джунгли Амазонки так, как если бы это была увеселительная прогулка на Род-Айленд. Давайте сравним их экипировку с экипировкой практичных англичан. Ей занимался лорд Рокстон, поэтому у каждого из них по винтовке, дробовик и более тысячи патронов. Англичане знают другие расы и умеют с ними обращаться — в отличие от наивных американцев.
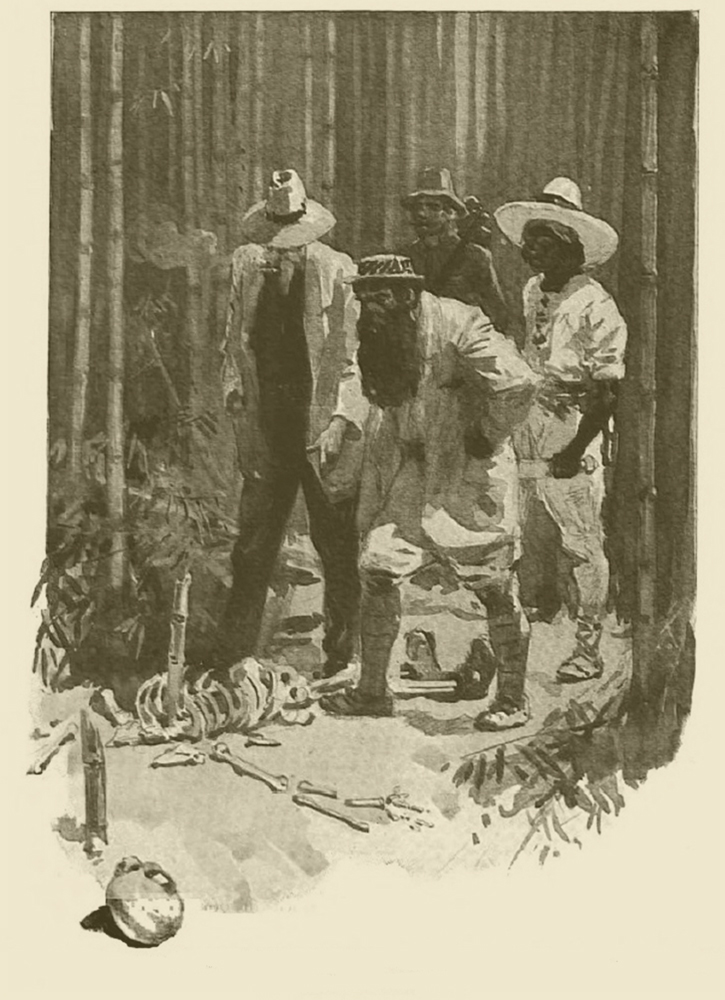
Еще труднее современному читателю заметить отзвуки расовой теории в описании британских путешественников. А между тем экспедиция Челленджера — это живая иллюстрация расовой неоднородности Британской империи.
Проще всего понять, кто такой Эд Мелоун. Столкнувшись с первой же вспышкой его темперамента, Челленджер удовлетворенно констатирует: «Короткоголовый тип… Брахицефал, серые глаза, темные волосы некоторые черты негроида… Вы, вероятно, кельт?» На это Мелоун с гордостью отвечает, что он чистокровный ирландец, и после этого Челленджер не упускает случая подшутить над ним и дать понять, что Мелоун — сущий ребенок, явный несмышленыш.
За этим стоит глубокая ирония. Дело в том, что сам Челленджер — шотландец. Мы знаем, что он родился в городе Ларгс — это город на западном побережье Шотландии, напротив Ирландии. Шотландцы — это гэльские племена, тоже кельтского происхождения. За шуточками Челленджера в адрес Мелоуна стоит конкуренция двух кельтских народов за историческое и культурное превосходство. До середины ХVIII века главным кельтским народом были ирландцы с их древними сагами, музыкой, танцами, а гэльские племена шотландцев считались их дальними бедными родственниками. Но во второй половине XVIII века ситуация поменялась: шотландцы занялись тем, что мы сейчас называем конструированием своей национальной идентичности. Вначале шотландский поэт Джеймс Макферсон выдумал никогда не существовавшего барда Оссиана и написал за него эпические поэмы, которые произвели фурор в Европе. Потом шотландцы начали носить килт, сами поверили и убедили всех в том, что это их древняя одежда. И, наконец, Вальтер Скотт заставил всю Европу влюбиться в его любимую Шотландию. Ирландцы оказались оттеснены на второй план. Конан Дойл сам был ирландцем, поэтому все шуточки Челленджера в адрес Мелоуна следует воспринимать как еще одну комическую черту в характере шотландского профессора.
Любопытно, что во внешности Челленджера негроидные черты выражены гораздо ярче, чем в облике Мелоуна. Его очень колоритное описание дает сам Мелоун, которого прежде всего поразили длинные черные волосы, борода, спускавшаяся на грудь, подобную груди ассирийского быка, черная прядь, приклеенная к высокому и крутому лбу профессора, широченные плечи, огромная голова, мясистое лицо и при этом пронзительные синие глаза, которые посмотрели на Мелоуна властно и проницательно.

Если вам покажется, что в облике Челленджера Конан Дойл специально подчеркивает восточные черты, то вы не ошибетесь. Очень похоже, что это иронический кивок в сторону совершенно невероятной расовой теории о происхождении англичан, очень популярной в конце XIX века. В 1875 году вышла книга под броским названием «Наши скифские предки опознаны как семиты» В оригинале — «Our Scythian Ancestors Identified with Israel».. Британские ученые уже тогда любили доказать
Мы можем совершенно точно представить себе, как, по мнению Конан Дойла, должен был выглядеть профессор Челленджер. Дело в том, что Конан Дойл попросил выполнить постановочные фотографии, которыми он сопроводил первое книжное издание. Для фотографий позировали он и его друзья. Конан Дойл в парике и с накладной бородой играл роль профессора Челленджера. Любопытная деталь: ирландец Конан Дойл позирует для изображения шотландца Челленджера. Это еще один намек на то, что и те и другие — кельты. Его приятель, фотограф Уильям Рэнсфорд, исполнил роль ирландского репортера Мелоуна, а в роли лорда Рокстона и профессора Саммерли выступал один и тот же человек — Патрик Форбс.

Конан Дойл подробно описывает внешность Рокстона. Мелоуна изумили его глаза — светло-голубые, «мерцающие, как ледяное горное озеро». Потом он отметил нос с горбинкой, худые, запавшие щеки, рыжеватые волосы, уже слегка редеющие на макушке, усы шнурочком и задорную эспаньолку. В нем было
Очень разные характеры путешественников идеально дополняют друг друга. Ирландец и шотландец вспыльчивы и темпераментны, но зато они наделены недюжинной интуицией. Именно она позволяет Челленджеру мгновенно находить решение самых трудных проблем, а Мелоуну — стать единственным, кто почувствовал, что за ними следят человекообезьяны. Рокстон и Саммерли спокойны и выдержанны, как истинные арийцы, — разумеется, до тех пор, пока не затронута их страсть. За этим разнообразием характеров стоит представление Конан Дойла о миссии Британской империи показать всему миру, каким образом разные расы могут не только мирно сосуществовать, но и помогать друг другу.
В основе этого мирного сосуществования лежит правильное устройство общества. Обратим внимание: ни один из британских путешественников не принадлежит к числу тех, на ком официально покоится государственная власть. Они не военные, не бюрократы и не люди Церкви. Каждый из них воплощает иное начало, без которого Британская империя не была бы такой крепкой. С особой симпатией Конан Дойл описывает лорда Рокстона. Это лучший образчик английского дворянства — мужественный, сильный, и утонченный одновременно. И, что самое главное, это Дон Кихот, который готов всегда вступиться за права униженных и оскорбленных.

Прототипами лорда Рокстона принято считать двух людей. Первый — Роджер Кейсмент, знаменитый британский дипломат ирландского происхождения, который первым заговорил о преступлениях против человечества в Конго. Но Кейсмент был ирландским патриотом, и в 1916 году он поплатился жизнью за заговор против Англии. Вторым прототипом считают Перси Фосетта — знаменитого английского путешественника, не раз отправлявшегося в Латинскую Америку в поисках Эльдорадо и в конце концов сгинувшего там при таинственных обстоятельствах. Но Фосетт не был альтруистом, в отличие от лорда Рокстона. Очень похоже, что Конан Дойл, который был знаком и с Кейсментом, и с Фосеттом, соединил их черты, но добавил к ним другие, принципиально важные для него: аристократизм, патриотизм и альтруизм.

Молодой ирландский репортер Эд Мелоун готов рискнуть жизнью ради
Наконец, ученые мужи Челленджер и Саммерли олицетворяют собой силу науки, а на силе науки зиждется авторитет Британской империи в мире.
Увлекшись динозаврами, мы рискуем не заметить, в чем истинный смысл находки Челленджера. Это не динозавры. Про них в начале ХХ века уже было известно очень много. Уникальность открытия Челленджера заключается в том, что он нашел пресловутое недостающее звено — человекообезьян, которые и подтвердили истинность теории Дарвина.
Сходство Челленджера с обезьяньим царем, над которым мы так весело смеемся, — это чрезвычайно многозначительная деталь. Вспомним, как Конан Дойл описывает это сходство: после одного дня, проведенного в лапах человекообезьян, от одежды Челленджера остались одни лохмотья, его черная борода сливалась с длинными черными волосами на груди. Он был копией обезьяньего царька — во всем, кроме рыжей масти. Достаточно было одного дня, чтобы превратить этот высший продукт цивилизации в самого жалкого дикаря Южной Америки.
Эта фраза очень важна. Здесь Конан Дойл предвосхищает страшное открытие Первой мировой войны: грань между человеком и зверем
Еще одна важная деталь, которую мы рискуем сегодня не заметить, — это полемика Челленджера с немецким профессором Фридрихом Вейсманом. В самом начале романа для того, чтобы пробраться к Челленджеру, Мелоун изучает его полемику с Вейсманом и выхватывает в ней одну-единственную фразу. Это фраза про то, что каждый —
В чем заключается суть этой полемики? Вейсман был сторонником теории эволюции Дарвина. Он отрицал возможность наследования приобретенных признаков, на которой настаивал Жан Батист Ламарк. Он отрицал и волю к прогрессу. Зато он настаивал на том, что зародышевая плазма содержит в себе память об истории семьи в нескольких поколениях, то есть был сторонником так называемого наследственного детерминизма. У Конан Дойла были личные причины сомневаться в истинности теории Вейсмана. Он был сыном запойного алкоголика, и, согласно теории Вейсмана, ничего хорошего в жизни его не ожидало.

Однако он собственным примером опроверг эту теорию. И Челленджер, и Конан Дойл верят в способность человека к развитию, верят в ту волю к прогрессу, на которой и строится наше общество. И за это Конан Дойл, кажется, и любил Челленджера, а мы любим Конан Дойла и прощаем ему его неполиткорректные высказывания.
У «Затерянного мира» есть особое достоинство, которое очень трудно оценить, читая эту книгу в детстве и юности. Это замечательное чувство юмора, которое здесь заметно гораздо лучше, чем, скажем, в рассказах о Шерлоке Холмсе. Описание профессора Челленджера, профессора Саммерли и других их ученых коллег — это отличный портрет особой породы Homo academicus, к которой, в принципе, принадлежу и я. И тем не менее я от души хохотала, читая описания их мелочного самолюбия, неуживчивости и прочих характерных черт этого типа, и совершенно не желала принимать их на свой счет — до тех пор, пока не дошла до фразы, которая заставила меня поперхнуться. Эта фраза очень точно описывает то, чем я сейчас занимаюсь. Комментируя популярную лекцию своего ученого собрата, Челленджер заметил, что популярные лекции в силу самого характера этого продукта крайне недоброкачественны и ненадежны с точки зрения серьезной науки. Я напоминаю об этой общеизвестной истине, чтобы вы не теряли чувство пропорции, принимая прислужника за жреца науки.
Роман Генрика Сенкевича «Камо грядеши», как он звучал в русском переводе, и «Quo vadis» То есть «Куда идешь»., как он назывался по латыни и издавался во всем мире, стал чрезвычайно популярен сразу и не потерял своей популярности и сейчас. Конечно, это удивительная судьба для книги, и тем более исторической книги, потому что обычно по прошествии уже одного-двух поколений они кажутся
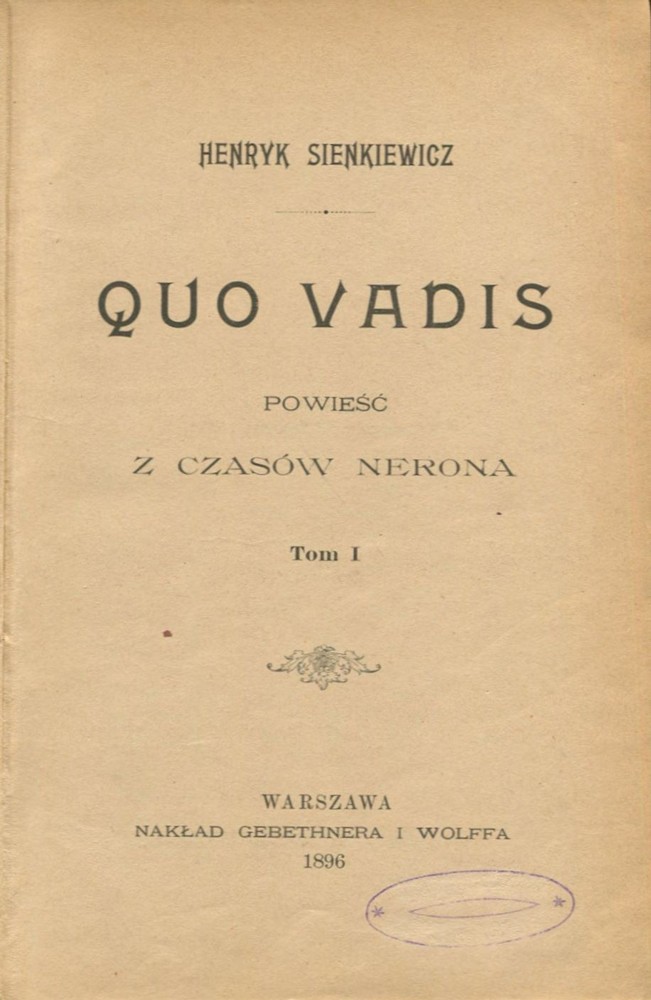
Генрик Сенкевич был поляком, который жил на территории Российской империи. Романы у Сенкевича часто появлялись так: сначала он тренировался, писал
Но этот роман отличался от других произведений Сенкевича. Дело в том, что до этого он писал только про историю Польши. И вдруг — единственная неожиданность, роман по истории не
Причина такого успеха не только в прекрасно поданном сюжете, но и в полном ощущении исторической достоверности. Это было связано не только со старательной работой писателя, о чем мы еще поговорим, но и с тем, что Сенкевич бывал в Риме — он был путешествующим писателем, много куда заезжал, бывал и в Азии, в самых разных странах. И любого, кто посетил Рим, город не оставляет равнодушным. Видимо, эти туристические впечатления оказали на Сенкевича грандиозное влияние.
Многие считают, что роман «Камо грядеши» связан и с Польшей. Каким образом?
Очень многие произведения Сенкевича рассказывают о борьбе поляков за свободу или против завоевателей — в общем, Польша сражается. Роман появляется в самом конце XIX века, в 1894–1896 годах. И это период, когда в Польше не происходят
Но все-таки идея борьбы за свободу, борьбы праведников против угнетающего их государства вполне понятна для поляка. Конечно, Польша тогда чувствовала себя угнетенной могучими империями В 1795 году, после третьего раздела Речи Посполитой между Российской и Австрийской империей и Пруссией, Польша прекратила существовать как государство. В XIX веке население подняло несколько крупных восстаний, например Польское (1830–1831) и Январское (1863–1864), в попытке решить польский вопрос, однако независимость Польша обрела только в 1918 году., и это иносказание тоже просматривается в романе. Правда, надо признать, что специально этот момент автор не отмечает. А второй забавный момент в том, что главный женский персонаж романа позиционируется, конечно же, как полька.
Время коротко рассказать о сюжете. По большому счету это любовный роман-эпопея, рассказывающий о том, как римский патриций влюбился в девушку не патрицианского То есть аристократического. происхождения — она была царской дочерью из варварского племени лигиев. За этими лигийцами угадывается племя, которое жило на территории современной Южной Польши и, конечно, могло претендовать на славянское происхождение. Археологи сейчас считают это племя частью германских культур, но это не значит, что они были германцами, то есть славянское происхождение технически возможно.

Однако роман между этими персонажами не складывается. Патриций Марк Виниций сначала хочет забрать эту девушку к себе и пользуется помощью Петрония, исторического персонажа, приближенного императора Нерона. Но все идет не так: девушка сбегает и попадает в христианскую секту. Звучит это не очень хорошо, но христиане в то время действительно были именно сектой. И после долгих приключений, в которых в том числе показываются грандиозные оргии и празднества нероновского времени, нравы двора, нравы христиан, после того как несчастную героиню выводят на арену амфитеатра и она там едва не гибнет, но все-таки спасается благодаря своему соотечественнику, гигантской силы человеку, любовники объединяются и отправляются жить долго и счастливо. И, конечно, такие любовные линии всегда оживляют
Название романа связано с известной христианской легендой о том, что святой Петр уступил своим друзьям, членам христианской общины, и решил уйти из Рима, куда он приходил проповедовать. Наступили гонения эпохи Нерона Римский император Нерон правил с 54 по 68 год нашей эры., и христиане были обвинены в поджогах: власти считали, что именно они виноваты в том, что Рим загорелся.
Петр покинул город. На знаменитой Аппиевой дороге, сохранившейся до сих пор, он встретил идущего ему навстречу Иисуса и спросил: «Куда ты идешь, Господи?» Лат. «Quo vadis, Domine?». Иисус ответил, что идет в Рим, чтобы снова быть распятым.

Петр не мог поступить иначе, как пойти с Иисусом, потому что эта встреча отсылает к истории, изложенной в Евангелии, где Иисус во время Тайной вечери говорит своим ученикам, что сейчас произойдут неожиданные вещи. Своему любимому ученику Петру он говорит, что не случится еще и утро, как он предаст его. И действительно во время ареста Иисуса Петр отказывается от него: он говорит, что не знает этого человека. Это очень известный сюжет, и, конечно, Петр глубоко раскаивался и отказаться от Иисуса второй раз не мог — он вернулся в Рим и был распят. По преданию, Петра распяли вниз головой, потому что он считал себя недостойным быть распятым так, как его учитель.
Роман чрезвычайно подкупает своей исторической достоверностью. Меня как специалиста позабавило, что буквально в каждую новую фразу автор пытается ввернуть либо
Как так получилось, ведь все-таки Сенкевич не был профессиональным историком и тем более историком Древнего Рима? Историческая достоверность сохраняется даже по прошествии более ста лет после издания этого романа. Это связано с тем, что он пытался, с одной стороны, не отступать от известных ему исторических свидетельств и работал с трудами древних историков, с другой стороны, он бывал в Риме, он смотрел на древнеримские произведения искусства, на остатки архитектуры и мог ориентироваться в топографии.
Сенкевич работал с текстом историка Тацита. Тацит родился еще в I веке нашей эры, он совсем мальчиком застал время, которое описывается в романе. А в 20-х годах II века нашей эры, уже будучи пожилым человеком, он закончил труд, который назывался «Анналы». К сожалению, «Анналы» не дошли до нас полностью, и это большая трагедия (но до нас не дошло столько античных сочинений, что печалиться о каждом не стоит — наоборот, стоит радоваться, что

Чтобы увидеть, как Сенкевич работал с текстом Тацита Сенкевич работал не только с трудом Тацита, но и с текстами древнеримского писателя и историка Гая Светония Транквилла, философа Плутарха и других авторов., мы возьмем один пример. С вашего позволения, я процитирую текст XV книги «Анналов», в которой речь как раз идет о том времени, которое изложено в романе, а потом кусочек с некоторыми купюрами — самого романа. Мы увидим, насколько автор следует, а насколько, может быть, не следует древнему письменному источнику.
Итак, текст Тацита:
«Но самым роскошным и наиболее отмеченным народной молвой был пир, данный Тигеллином Тигеллин — это префект претория,
вообще-то , он просто командующий гвардией императора. Но часто тот, кто командовал гвардией, тот и, как говорится, правил бал. Впоследствии были случаи, когда командир преторианской гвардии даже захватывал власть и становился императором, но не в это время., и я расскажу о нем, избрав его в качестве образца, дабы впредь освободить себя от необходимости описывать такое же расточительство. На пруду Агриппы Агриппа был известным историческим деятелем более раннего времени. Он разбил парк в Риме и сделал там пруд. по повелению Тигеллина был сооружен плот, на котором и происходил пир и который все время двигался, влекомый другими судами. Эти суда были богато отделаны золотом и слоновою костью, и гребли на них распутные юноши, рассаженные по возрасту и сообразно изощренности в разврате. Птиц и диких зверей Тигеллин распорядился доставить из дальних стран, а морских рыб — от самого Океана. На берегах пруда были расположены лупанары Лупанарами древние римляне называли публичные дома. Это было связано с тем, что за проститутками закрепилось название lupa — «волчица». Волчица — почитаемое в Риме животное, но, видимо, в силукаких-то обстоятельств так же называли проституток, поэтому они — лупы, а место их обитания — лупанары.…»
Теперь обратимся к тексту Сенкевича:
«Тигеллин хотел возместить цезарю отложенную поездку в Ахайю и в то же время превзойти всех, кто развлекал цезаря; он хотел доказать, что никто не сумеет так угодить ему. …Он делал приготовления, посылал приказы, чтобы из отдаленнейших мест империи были присланы звери, птицы, редкие рыбы и растения… <…>
Пир должен был происходить на огромном плоту из позолоченных бревен. <…>
<…>
<…> Плот плавал теперь близко от берега, на котором среди чащи деревьев и цветов виднелись группы людей, наряженных фавнами или сатирами, играющих на флейтах и свирелях, а также девушек, представляющих собой нимф… Настали сумерки среди пьяных возгласов в честь луны, доносившихся из шатра… И вдруг лес озарили тысячи светильников. Лупанарии на берегу также засверкали огнями: на террасах показались новые группы, также обнаженные, среди которых можно было узнать жен и дочерей римской знати».
Конечно, Сенкевич — писатель, и он старался
Но если такие описания очень точны, то этого нельзя сказать об описаниях всех героев произведения. Главный мужской персонаж, Марк Виниций, римский патриций, влюбившийся в эту девушку не патрицианского происхождения, варварку, что просто ужасно для древнего римлянина, является собирательным образом. Интересно, что в римской истории нам известны два Марка Виниция — это существующие и имя, и род. Оба они были консулами, один был сподвижником Октавиана Августа, основателя Римской империи, и известным военачальником. Будучи уже пожилым человеком, он даже иногда ходил к императору поиграть в кости, и об этом сохранились сведения, но он умер задолго до этих событий. А второй тоже к этому моменту уже, скорее всего, умер — он был женат на сестре императора Калигулы, но Калигула правил раньше Римский император Гай Юлий Цезарь Август Германик по прозвищу Калигула правил с 37 по 41 год нашей эры. Прозвище он получил из-за сапожек, на латинском caligula, похожих на солдатские, которые будущий император носил ребенком.. Так что в данном случае Сенкевич, видимо, знал о том, что был военачальник Марк Виниций.

Рабыня воспитывается в доме Авла Плавтия — это уже настоящий исторический персонаж. Есть упоминания о его службе, военных победах — это все чистая правда: он сражался в Британии, даже правил ей некоторое время, был администратором очень высокого уровня. Жену его действительно, как это указано в книге, судили на домашнем суде (у римлян — суд, на котором муж судил жену), но жену суд оправдал. Она была обвинена в следовании неким восточным верованиям. Не исключено, что это мог быть, например, иудаизм или секта, но часто исследователи говорили, что это могло быть и христианство. По определенным причинам это кажется маловероятным, но мы к этому еще вернемся.
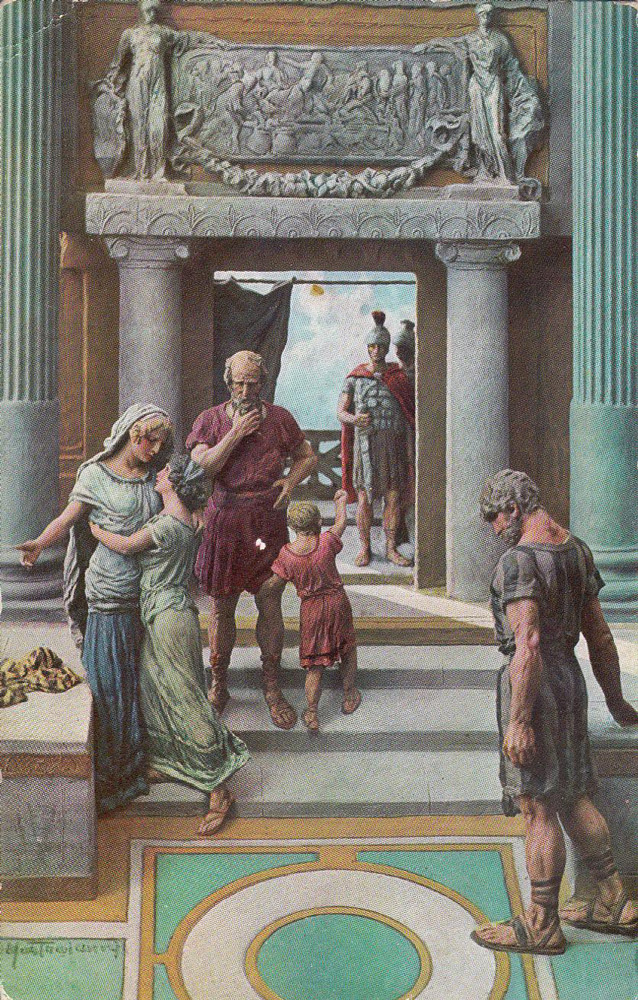
В романе описывается очень много элементов римской жизни. Например, представлено устройство римского дома — люди попадают в атриум или перистильный двор Перистиль — открытое пространство (как правило, двор, сад или площадь), окруженное с четырех сторон крытой колоннадой. Перистильный двор был составной частью большинства жилых и общественных строений периода Античности.. Римский дом всегда был сделан так: сначала атриум, крытый дворик, довольно темный, а дальше — перистильный двор, где происходила частная жизнь. Прекрасно описывается дворец Нерона, описываются бани и их устройство. У римлян баня могла находиться и в частном доме, а общественные бани служили для развлечений, были этаким домом культуры. И, как говорится, иногда проще прочитать «Quo vadis», чем Тацита. У Тацита много скучных повествований,
Надо признать, что обилие кровавых сцен в романе поражает. Смерти, повреждения, убийства и просто море крови не только христиан, но и других персонажей на арене производят впечатление даже при обилии этого в современной литературе или в кино. Действительно, жизнь в Древнем Риме была довольно опасна. Однако я думаю, что, может быть, она и была опаснее, чем жизнь в современном мегаполисе, но ненамного. Римское общество было достаточно развитым для того, чтобы там постоянно не убивали на улицах, а опасные районы есть в любом городе и в любой части планеты.
Например, главный герой в ярости убивает раба, просто разбивает ему голову, и тот умирает на полу его дома. Это не то чтобы частое явление. Просто так убить раба было нельзя, для этого нужны были серьезные причины, а не то, что он плохо подал ужин или косо посмотрел. Поэтому положение рабов очень сильно улучшалось, и часто исследователи уже во II столетии новой эры, то есть лет через 40–50 после событий, описываемых в романе, с трудом могут отличить вольноотпущенников, уже свободных людей, от рабов. Мы привыкли, что есть ужасная жизнь рабов, а потом — прекрасная свобода. В действительности было много ступеней, все было не так беспросветно.

Отдельно стоит остановиться на истории с гладиаторами. В книге часто упоминаются гладиаторы — как парни, которые бродят по Риму и готовы
Как правило, в конце поединка мы ждем смерти гладиатора — этому нас учат современные художественные фильмы о Риме, да и роман «Quo vadis» тоже. В действительности такое море крови, когда куча людей убивает друг друга, было характерно не столько для боев профессиональных гладиаторов, сколько для

Но, конечно, профессионального гладиатора так убивать не хотелось. Это было возможно, но, как правило, гладиатор все-таки выходил с арены живым. В него были вложены огромные деньги, это же профессиональный спортсмен очень высокого класса. Публика обычно требовала добить тех гладиаторов, что сражались неохотно и сознательно проигрывали, таких не любили. Представляете, как ретиво играли бы в современном футболе при таких правилах? Тут уж точно все бились бы до конца. Гладиатор был серьезным вложением денег и мог надеяться дожить до конца своей карьеры, то есть пробыть гладиатором лет 12–15, — в этом нет никаких сомнений.
В романе описывается выход на арену профессиональных гладиаторов: они проходят мимо царской ложи, где находится Нерон, и говорят знаменитую фразу, которая даже стала крылатой: «Ave caesar, imperator! Morituri te salutant» — то есть «Приветствуем тебя, цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!» Видимо, роман «Quo vadis» сыграл большую роль в распространении идеи, что гладиаторы делали именно так. Часто особенно популярные книги говорят именно о том, что это было обязательным приветствием императору, если он присутствовал на гладиаторских играх. Но в действительности, судя по тому, что мы знаем, это не так.
Такое приветствие гладиаторы крикнули, по известным письменным источникам, один раз. Дело в том, что император Клавдий, предшественник Нерона, был не таким большим любителем гладиаторских игр, как Нерон, но тоже их организовывал, иначе народ бы его не понял — римляне любили кровавые игры. Он организовал гигантскую навмахию. Навмахия — это сражение на воде. До сих пор ведутся споры, проходили ли навмахии в каменных амфитеатрах. Чтобы провести навмахию, нужно герметизировать арену, а под ареной находились коридоры, где стояли клетки с хищниками, которые поднимали специальным образом на арену, и так далее, то есть герметизировать огромное пространство было не так просто. Тем не менее есть сведения, что в Колизее, самом большом и знаменитом из сохранившихся до сих пор римских амфитеатров, происходили такие баталии. Но обычно для них вырывали специальный бассейн — это было намного проще. В Риме даже сохранилась церковь, которая называлась церковью Святого Перегрина в Навмахии, потому что построена на месте бывшего бассейна. Клавдий тоже сделал специальный участок, куда был отведен Тибр. Сражались две эскадры. Нужно было столько людей, что в бой кинули всех, кого можно было кинуть, то есть преступников, мелких жуликов — всех.

И вот
Самым интересным и важным моментом является положение ранней христианской общины в Риме. Автор в деталях описывает нам дома христиан, как они молятся, как они собираются за городской стеной. И вот здесь, пожалуй, самый тонкий исторический момент этого романа.
Дело в том, что мы до сих пор почти ничего не знаем о ранних христианах. Найденные археологические свидетельства того, что ранние христиане присутствовали в Риме, практически отсутствуют. Например, до сих пор при раскопках Геркуланума, Помпей, погибших уже после Нерона, Извержение Везувия, в результате которого погибли Помпеи, произошло в 79 году нашей эры. не найдено никаких следов христиан. Предположения, что некоторые найденные следы были христианскими, сейчас опровергнуты.
В романе же Сенкевича христиане исчисляются тысячами, как

Однако современные исследователи не уверены в том, что дело обстояло так серьезно. Христиане в Риме, безусловно, были — об этом пишут историки, которые застали эти времена, будучи детьми. Но, возможно, они перекладывают на это время, вторую половину I века нашей эры, ту ситуацию с христианами, которую мы видим в первой половине II века, то есть через
Основная причина, по которой христиане считались «вредными», состояла в том, что они не могли приносить жертву римским императорам, а это считалось проявлением лояльности. Если ты лоялен Риму, то изволь. Для евреев делали послабления — у них была древняя вера, а тут непонятно что. Принесение жертвы римским императорам было совершенно необходимо: с появлением империи решением Сената, то есть, как это ни забавно, голосованием, император мог быть посмертно объявлен божеством. Так произошло с Юлием Цезарем (он не был императором, но заложил камень в основание империи), Октавианом Августом и многими другими императорами — впрочем, некоторых императоров Сенат богами не объявлял. Если император становился богом, то его статуи устанавливались в специальных храмах императорского культа, за которыми следили особые коллегии, и императорам нужно было приносить жертвы, как богам.
Конечно, не стоит думать, что римляне действительно считали, что император становился божеством: они видели этих императоров, много о них знали, а письменные источники пестрят самыми неприятными сведениями об императорах. Но это было важным обычаем: если ты лоялен правлению римлян, изволь признавать императора богом. Потом — пожалуйста, ты можешь идти и поклоняться
Тем не менее достоверные свидетельства о христианах относятся уже к II веку нашей эры. И самое интересное состоит в том, что таких свидетельств о пребывании святого Петра в Риме нет. Это легенды и предания.
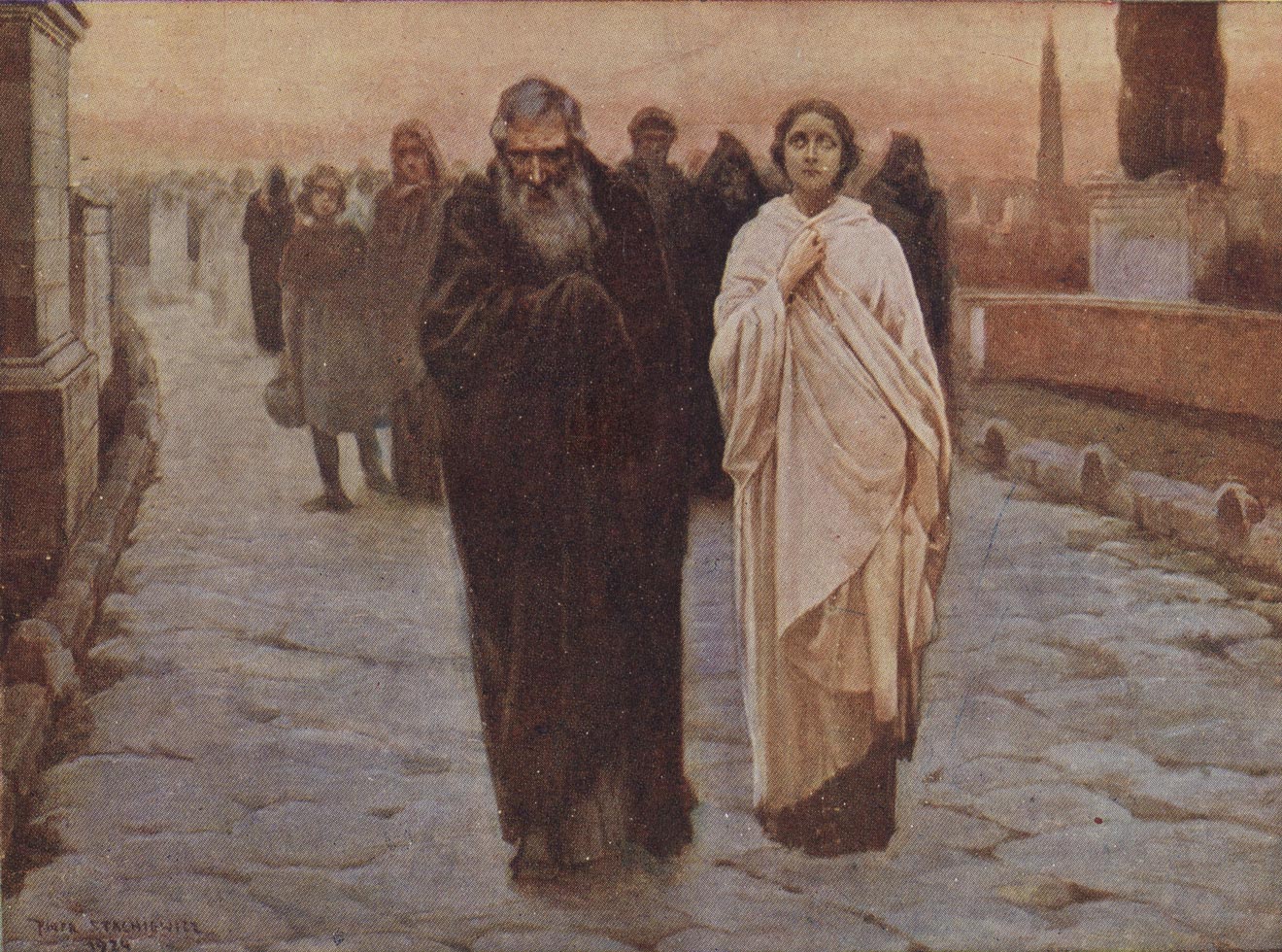
Дошло до того, что в 1950-е годы близ Иерусалима был раскопан некрополь, где израильские археологи нашли могилу, как они утверждали, святого Петра, потому что там написано его еврейское имя Еврейское имя святого Петра — Симон.. Но все-таки церковное предание очень серьезно. И эту часть романа мы должны воспринимать как очень условную реконструкцию.
Почему же Сенкевич написал все это? Если можно так выразиться, он не виноват. Во-первых, он был католиком и верующим человеком — он не мог подвергать сомнению бытие святого Петра и святого Павла в Риме и пытаться выяснить, как же все было на самом деле. Может, первые христиане были совсем другими людьми, как пишут о них римляне, отравителями колодцев, и поклонялись ослу (о чем Сенкевич тоже пишет в своем романе)?

А во-вторых, ученые того времени тоже не могли не доверять церковному преданию и примерно так и представляли ситуацию. В данном случае изменились научные взгляды. Например, в одном из эпизодов романа святой Петр появляется из катакомбы,

Но самое важное в романе — это всегда его художественные достоинства, а для романа-эпопеи, исторического романа важным является созданный автором образ — выглядит ли он достоверно? Сенкевичу это удалось. Не приходится сомневаться, что успех романа и его долгая жизнь связаны именно с тем, что историк ты или просто рядовой читатель, ты веришь в то, что происходит. И можно только одобрить решение Нобелевского комитета, вручившего за этот роман и за другие достижения Сенкевича, Нобелевскую премию.
Если говорить о моем опыте прочтения романа «Quo vadis», «Камо грядеши», то я полностью прочитал его, только готовясь к этой лекции. И нужно сказать, что меня удивило то, что мне действительно почти не к чему было прицепиться. Как профессиональный археолог, очень чувствительный к неправильному изложению древнего материального мира, я даже с неким наслаждением нахожу ляпы авторов, которых и в современных произведениях довольно много, и наслаждаюсь ими.
Тем не менее здесь не было никакой неточности, чтобы серьезно понасмехаться над автором. Я упомянул некоторые узкие места, но, конечно, нужно отдать должное — Сенкевич очень хорошо познакомился с материалом, и я как специалист могу это только приветствовать.
А впервые название этого романа я услышал от своей бабушки, которая сказала: «Эх, вот нет у нас „Камо грядеши“ — тебе обязательно нужно его прочитать». Вот прошло
Пересказывать содержание романа «Собор Парижской Богоматери» — это примерно такая же задача, как пересказывать содержание сериала «Игра престолов». Все равно не уложишься по времени, и там есть масса боковых ответвлений, ходов, намеков. Но, в общем, это про любовь, про страсть, про Средние века — а кончается все, наверное, плохо, потому что все погибают. Эсмеральда погибает, и Квазимодо заключает ее в объятия; козочка Джали выживает — это уже неплохо.
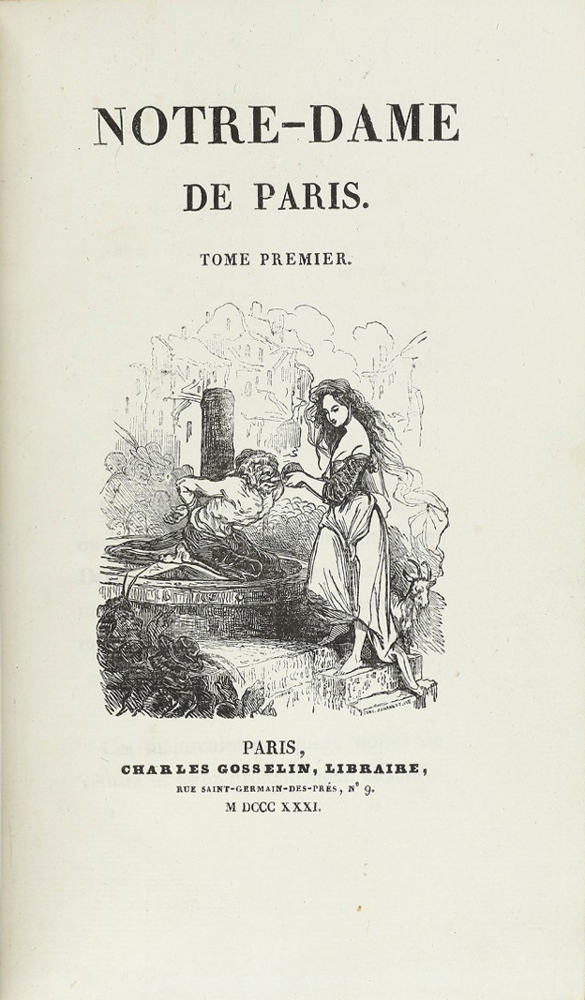
А если серьезно, роман Гюго написал на одном дыхании. Все остальное он писал очень долго, тратил на это большие отрезки жизни. Этот роман написан меньше чем за полгода. Ему, правда, помешали некоторые события, а именно Июльская революция 1830 года. Он взялся писать роман, сделал в библиотеках выписки, очень внимательно читал, а тут началась революция, и он эвакуировал свою семью подальше от Парижа, в укромное место. Тетрадку с выписками он потерял, поэтому вынужден был просить у издателя отсрочки, и не один раз. В 1831 году роман вышел в несколько сокращенном виде, и потом Гюго переиздавал его, дополнял и так далее. Роман произвел фурор.
Гюго открыл сразу очень много вещей. Во-первых, Гюго подарил нам, Парижу, Франции собор Парижской Богоматери в том виде, в котором он существовал до недавнего времени, а именно до 2019 года, когда чуть было не погиб в огне, но все-таки выстоял. Собор уже хотели сносить, переделывать, такие пожелания высказывались давно, но руки все не доходили — французы XVII, XVIII, да и начала XIX века считали это здание нелепым, безобразным, уродующим город, неподобающим великой стране, великой нации.
Наполеон с трудом перенес торжественную процедуру интронизации в соборе, казавшемся уродливым. Собор подкрасили, почистили, поставили новые двери, сделали в духе XVII–XVIII веков, но все равно это казалось уродливым.
После романа «Собор Парижской Богоматери» отношение поменялось кардинально и очень быстро. Уже в 1832 году открывается музей средневекового искусства Национальный музей Средневековья до сих пор работает, но сейчас временно закрыт на реставрацию до 2022 года. Коллекция музея охватывает промежуток от первых веков нашей эры до начала XVI века и считается одной из самых значительных коллекций предметов средневекового искусства и быта.. Семейство Сомерар выкупило помещение в современном аббатстве Клюни, и туда хлынули посетители — оказывается, это было прекрасно и интересно, хотя и не соответствовало классическим представлениям об архитектуре.
Собор — одно из главных действующих лиц в романе. Он живой, и Гюго подчеркивает это несколько раз. Его невозможно описать одним словом. Он меняется в зависимости от настроения героев, он меняется в зависимости от той задачи, которая стоит перед человеком, входящим в него. Для
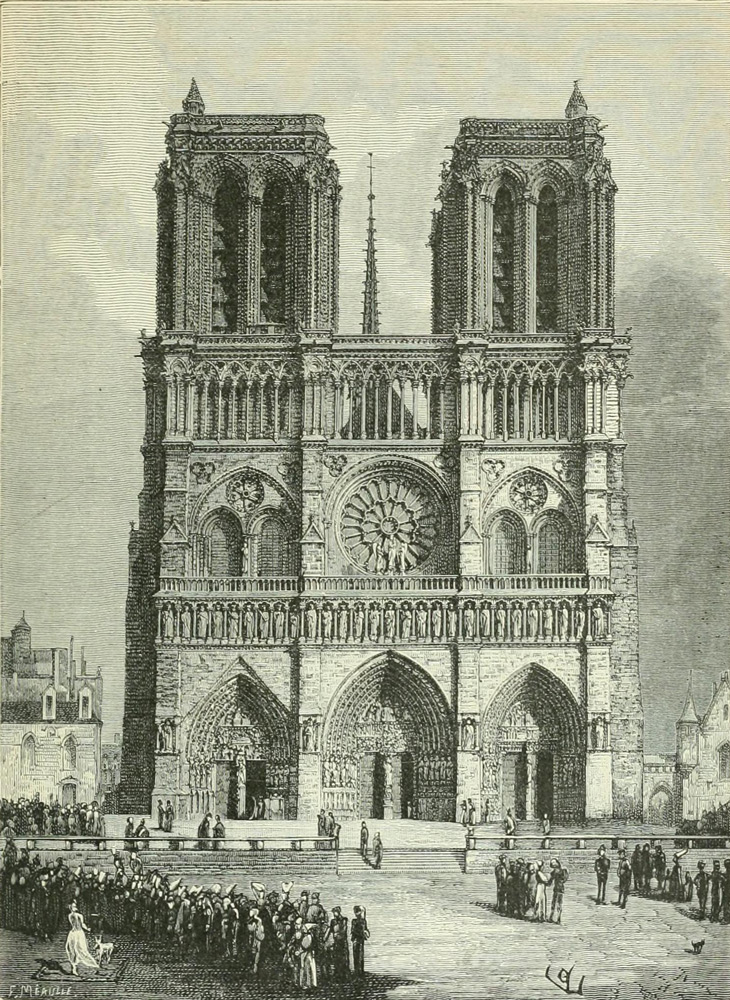
Это первое, и уже за одно это Гюго нужно сказать спасибо. И еще он сделал отступление, что на самом деле это не только о Париже, а о всей готической архитектуре, которая достойна изучения, достойна поклонения. Этому нашлись многочисленные сторонники, например великий архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк и другие, принявшиеся сохранять эту архитектуру — может быть, не очень умело, но от чистого сердца.
Второе — Гюго открыл Средние века, потому что Средние века долгое время понимались как мрачная эпоха, эпоха мракобесия. Кстати, и у него это отнюдь не светлая эпоха, но эпоха чрезвычайно плодородная, она способна породить истинные чувства и вызывает неподдельный интерес сама по себе, а не только в контексте борьбы с суевериями.
У Гюго были предшественники. Была довольно популярная традиция английского готического романа, но там обычно происходило нечто сверхъестественное, были
Гюго черпал из этого источника, но привнес и нечто другое. Он пробудил интерес к чувствам. Чувства гораздо важнее долга. Собственно, долг здесь никто не исполняет. В этом, кстати, разница между Вальтером Скоттом и Гюго: у Скотта герои верны своему долгу — рискуют, иногда гибнут, но они верны ему до конца. Здесь — какой долг? Здесь — любовь, здесь — страсть, здесь — ненависть. Это гораздо важнее, чем следование какому бы то ни было долгу.

И, конечно, здесь есть противостояние власти. Средние века для Виктора Гюго — это эпоха, как сказали бы в советское время, революционная. Здесь есть тираническая власть. Гюго вообще не очень любил власть. Есть народ, пусть даже очень экзотический, нищие, которые готовы бросить вызов этой власти. Поэтому, кстати, Гюго так любили в Советском Союзе.
Еще Гюго открыл женщин. Мир женщин, которые оправданы именно своей любовью, своей страстью, пусть даже неправильной, нелепой. Объект любви Эсмеральды, Феб, — человек, который ее предал. Он красив, он производит впечатление благородного человека, но на самом деле он не стоит ее. Тем не менее Эсмеральда делает свой выбор, и в этом ее величие, ее красота, и она достойна всякого поклонения.

Сейчас немного забегу вперед. Судьба этого произведения в России очень интересна. Русские читатели познакомились с ним рано: в журнале «Телескоп» появляются фрагменты перевода — кто его делал, правда, не знаю. Полностью издание вышло гораздо позже — в 1862 году в журнале «Время». Издатель пишет, что, конечно же, все читают
Кто это писал? Это был Федор Михайлович Достоевский, издатель этого журнала. Перевод сделан Юлией Померанцевой. Я, к сожалению, не смог найти дополнительные биографические сведения о ней. Дальше все сильные переводы тоже делались женщинами — и какими! Это были борцы за права женщин. И, конечно, самый известный перевод — это перевод Надежды Коган, урожденной Нолле. Прекрасный переводчик, последняя любовь Александра Блока. Есть несколько переводов, выпущенных мужчинами, но в основном в России этот перевод делали именно женщины, то есть это борьба за права женщин, за их эмансипацию — так совпало.
Гюго открыл исторический роман. Он практически первый человек во Франции, который пишет роман с опорой на исторические источники. В это время историки становятся очень популярны. Все зачитываются — и даже не столько зачитываются, сколько заслушиваются — лекциями Франсуа Гизо. Огюстен Тьерри — тоже властелин дум. Но это — историки. Гюго — писатель, но он понимает, что нужно работать с историческими источниками, и работает с ними, надо сказать, очень неплохо.

Я, в общем, разбираюсь в истории Парижа, и в романе не так много деталей, в которых я могу усомниться: Гюго великолепно знал Париж, знал историческую фактуру, фактических ошибок у него совсем мало. Есть некоторые смещения во времени: в той сцене, где Квазимодо приговаривается к позорному столбу и его наказывают кнутом, мучают, стоят кумушки, а с ними — мальчик. Мальчик хочет украсть маисовую лепешку — глава так и называется — «Маисовая лепешка» Полностью глава называется «Рассказ о маисовой лепешке» («Histoire d’une galette au levain de maïs»).). Заканчивается рассказ про маисовую лепешку тем, что мальчик все-таки ее съел. Но маисовой лепешки не могло быть в XV веке. Это кукуруза. Но таких деталей очень немного.
Что сочинил Гюго, где он внес некоторые существенные сдвиги? Я напомню: Пьер Гренгуар после провала своей пьесы идет за Эсмеральдой, вообще не знает, что делать, и случайно попадает на территорию, которая называется Двор чудес. Это место, где собираются нищие, преступники, грабители, воры, карманники и другая публика. Выясняется, что у них есть свой язык, свои законы, свое королевство. Ему, как нарушителю границы, дают испытание: он должен срезать кошелек так, чтобы колокольчик манекена не зазвонил. Испытание он проваливает. Гренгуара должны повесить, но Эсмеральда его выкупает, согласившись выйти за него замуж — как выяснилось, фиктивно.

Такие дворы существовали во многих мегаполисах, в том числе и в Москве, скажем,
Среди прочих открытий, которые сделал Виктор Гюго, — открытие мира арго. Арго — это королевство, жителей он называет арготинцы. Это особый язык городских низов, особый язык профессиональных нищих. Он соответствует нашей фене, который изначально был языком коробейников. Арго тоже был языком коробейников, на нем они должны были общаться между собой, чтобы клиент не понял, что ему продают. Этот язык был заимствован миром профессиональных нищих и срезателей кошельков. Историки пишут о том, что странным образом издают словари арго и открывают этот мир не полицейские агенты, структура которых была очень развита в Париже, но именно писатели, и первым был Виктор Гюго.
Что для Гюго Средние века? Это мир, противостоящий более позднему классицизму, противостоящий рациональному управлению, прямым проспектам, улицам. Неслучайно он будет негодовать, когда уже в

Этот немного утрированный интерес ко всему хтоническому, идущему

Дальше — мир школяров и студентов. Мир школяров и мир криминальный у Гюго постоянно пересекаются. У архидьякона Фролло есть брат Жан, или Жеан, как у нас переводят это имя, который все время клянчит у него деньги. Он не лишен образованности, он друг Феба, возлюбленного Эсмеральды, но при этом вхож в царство криминальных элементов и чувствует себя там как дома. В романе масса школяров:
Необузданный мир студентов, школяров и необузданный мир парижского чрева для Гюго переплетены между собой. Но это тоже не лишено исторической правды, потому что так оно и было: очень многие деклассированные элементы — бывшие студенты, которые не хотели больше работать, но пополняли мир любителей жить за чужой счет. Странным образом Гюго не ссылается на Франсуа Вийона, «проклятого поэта» Так Вийона называл другой французский поэт, Поль Верлен. Верлен написал шесть очерков «Проклятые поэты», посвященных мастерам, не признанным, по его мнению, критикой и читателями. В их числе, кроме Вийона, были Артюр Рембо, Стефан Малларме и сам Верлен.. Хотя есть некоторые намеки и даже прямые цитаты, отсылающие к школяру, у которого дядя тоже был дьяконом — и который жил на грани между миром высокой поэзии, был приговорен к смерти, участвовал в драках, убийствах, ограблениях церквей и так далее. Эта связь двух миров для Гюго тоже очень важна.
Что еще есть в романе? В романе город живет своей жизнью. Целая книга посвящена, с одной стороны, описанию собора, с другой — описанию Парижа, как если бы мы смотрели с вершины собора. Это огромная панорама, и она очень дотошно описана. Может быть, читателю она покажется
Интересен образ короля. Гюго здесь пытается интегрировать элементы большой истории, социальной истории по Франсуа Гизо По размышлениям Франсуа Гизо, дворянство и третье сословие, то есть буржуазия, рабочие, крестьяне, должны найти компромисс, прийти к классовому миру, чтобы избежать новой революции, оглядываясь на революцию Французскую. С 1840 года Гизо фактически руководил правительством при короле Луи Филиппе I, но революция 1848 года, после которой во Франции была провозглашена республика, и Июньское восстание рабочих стали крахом его исторической концепции борьбы завоевателей и завоеванных.. Я напомню, что когда Эсмеральду приводят в собор, она пользуется правом убежища. Но Двор чудес решает освободить Эсмеральду и идет на штурм того здания, где она находится. Когда об этом узнает король, он сначала выясняет, кого штурмуют. Это оказывается судья, должностное лицо, которому принадлежит эта территория, фьеф Феод, или фьеф, во Франции и лен в Германии — в средневековой Европе наследственное земельное владение, которое сеньор жаловал своему вассалу в обмен на обязанность нести военную службу., — не будем вмешиваться, наш парижский народ выполняет за нас важную работу, борется с феодализмом. Напрямую так не говорится, но это имеется в виду. И только когда выясняется, что затронуты непосредственные права короля, он посылает отряд конной стражи, которая в конце концов разбивает бандитов, пытавшихся освободить Эсмеральду.

Сите — это историческая колыбель Парижа, остров, который был поделен между епископом и королем, там было 24 ленных держания. Некоторые из них принадлежали непосредственно королю, некоторые — епископу, некоторые держания король передавал своим приближенным, должностным лицам, которые, в общем, не собирались их возвращать. Поэтому, когда он выясняет, что восстание распространяется и на королевские лены, король проявляет решительность и быстро кончает с этим безобразием.
Еще один сюжет, который важен для Виктора Гюго — это, конечно, сюжет цыган. Цыгане — это образ, буквально созданный для романтиков, для поэтов, в том числе для Александра Сергеевича Пушкина и для английских поэтов. Конечно же, Гюго не мог мимо него пройти. Я уже говорил, что у Вальтера Скотта в «Квентине Дорварде» есть цыган, но он там для того, чтобы показать контраст между рыцарем и вот этим самым цыганом, который служит за деньги, не верит в Бога — и ужасает нашего положительного героя.
Цыгане для Гюго — это

Цыгане появляются в Европе в
А потом, уже в XVI и XVII веках, начинается даже мода на цыган. Цыганские наряды часто использовались на карнавалах. То есть и здесь Гюго вполне историчен, и именно вокруг цыганки Эсмеральды возникает особый ореол: она, с одной стороны, прекрасна, а с другой — вызывает возмущение властей одновременно с вожделением отрицательных героев.
Словом, Гюго — это действительно писатель, который очень сильно повлиял на историков. Прежде всего, на Жюля Мишле. Это историк младшего поколения историков-романтиков, и он признавался, что хотел написать главу в своей истории Франции, посвященную собору Нотр-Дам, но это уже сделал Гюго, и ему просто нечего добавить здесь. Мишле полностью соглашался с тем, что Достоевский писал о французском народе, олицетворяемом Квазимодо, и развивал эту весьма важную для него идею.
Теперь о том, как принимали это произведение. Принимали
Вместе с тем были критики. Во-первых, критики со стороны традиционных ценностей и представления о прекрасном. Я видел карикатуру 1842 года, где изображена группа писателей и поэтов, во главе которой идет Виктор Гюго, еще вполне молодой человек. И все они очень уродливые. Это позже Гюго будет таким благородным старцем. У него на самом деле очень специфические черты лица: огромный выпуклый лоб, сравнительно маленькое лицо, непропорциональное этому лбу. Потом он будет носить бороду. И вот идет Гюго, за ним идет Альфонс де Ламартин и многие другие. И у них плакат: «Прекрасное — это уродливое». Это стирание граней между прекрасным и уродливым, эстетизация того, что сейчас называется ужасами Средневековья, «страдающим Средневековьем», многих шокировали.

Многих шокировало еще вот что. Да, были люди, которые к Средним векам уже относились достаточно хорошо. Но они были недовольны: для них Средневековье — это великая эпоха, здесь они согласны с Гюго, но Средневековье — великая эпоха потому, что там есть идея Бога, которая сейчас умерла. А где идея Бога, где истинная религиозность у героев Виктора Гюго? Ее нет. И это было шокирующим обстоятельством.
И, наконец, критика с точки зрения литературного вкуса. Оноре де Бальзак, прочитавший роман в 1831 году, написал:
«Вообще-то Гюго — хороший поэт, но роман ужасный! Это сплошная безвкусица, это нагромождение
каких-то нелепиц одна на другую, это сюжет, который скачет с одного предмета на другой. Мысль автора все время растекается. Композиция развалена. Это образец безвкусия, характерный, к сожалению, для нашей эпохи».
Действительно, в романе можно обнаружить достаточное количество этой безвкусицы.
Но главными противниками Гюго были Католическая церковь, которая в 1834 году включает роман в «Индекс запрещенных книг» (в XIX веке это не страшно, никто не взялся бы сжигать книги на костре), и королевская власть — то есть та власть, которая существовала. Гюго приветствовал Июльскую монархию. Роман вышел в 1831 году на волне революционного энтузиазма. А потом энтузиазм стал остывать, и режим Луи Филиппа уже очень настороженно смотрел на призывы к восстаниям. А то, что у Гюго всегда короли являются мерзавцами, было очень странно. Пьеса Гюго «Король забавляется» про Франциска I была запрещена Пьесу «Король забавляется» о короле Франциске I, правившем с 1515 по 1547 год, впервые поставили в 1832 году и запретили сразу же после первого представления: в ней усмотрели революционные настроения и безнравственность, а король представлялся бездушным сластолюбцем — это связано с тем, что надежды Гюго на Июльскую революцию и демократические изменения оказались обманчивыми.. В трагедии «Марион Делорм» главный мерзавец — Ришелье и покрывающий его Людовик XIII. В самой первой пьесе Гюго, вышедшей еще до революции, «Эрнани», король дон Карлос противостоит благородному герою. Все это вызывало возмущение не только по своим эстетическим соображениям, но и потому, что вмешивалась цензура. В России особых цензурных запретов на них не было: ругались французские короли и Католическая церковь — а здесь все было немножко иначе.
Является ли произведение Виктора Гюго романом «на все времена»? Да, является. Его можно читать в любом возрасте: в подростковом, в пенсионном, в постпенсионном, в зрелом — и всегда находить

К сожалению, большинство людей знакомы с романом либо по мюзиклу, либо по мультфильмам. Это неплохие образцы. Но самое главное — это текст. Гюго не может ничего высказать прямо. У него всегда есть отступления, есть довольно глубокие философские размышления, есть интерес к тому, что называлось тогда во Франции histoire pittoresque — забавная, пикантная, смешная сторона истории, которая жива и сейчас. Соединение этих качеств делает из этого романа чтение на все времена — и не обязательно для историков, но и вообще для всех интересующихся настоящей человеческой жизнью и великим городом Парижем.
Первая встреча с романом сложилась неудачно. Мне он не понравился. Я читал его совсем в нежном возрасте, когда, читая «Войну и мир», пропускаешь про мир и читаешь про войну. По сравнению с Дюма здесь было мало поединков, мало сражений и
Но потом, когда я занялся историей —
И потом я перечитывал Гюго — уже не только это произведение, а, скажем, «Отверженных», огромный, совершенно неподъемный текст. И рассуждения Гюго о парижских трубах, о парижской канализации оказывались безумно интересными, не менее интересными, чем перипетии судеб этих людей, этих характеров. Кстати, характеры Гюго прописывал не очень подробно. Но чувство исторической реальности у него развито не меньше, чем у Александра Дюма: художник чувствует немножко иначе, чем историк, и очень часто оказывается гораздо догадливее него, потому что понимает композицию жизни.
Роман Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфилд» на самом деле называется гораздо более сложным и длинным образом. На русском языке нам привычно название «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим». Однако если дословно перевести оригинальное название романа, получится
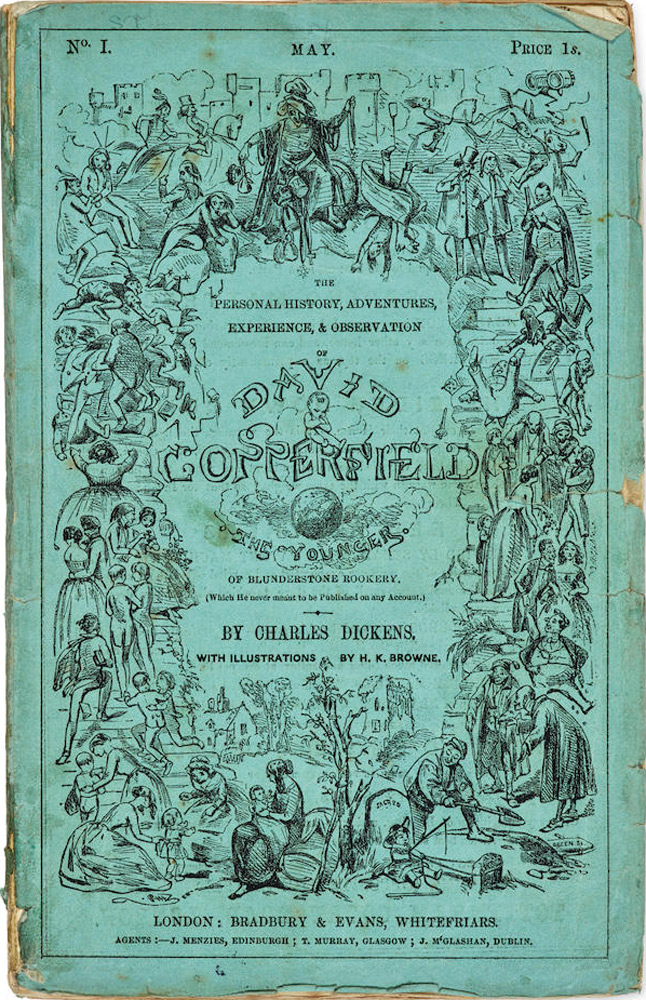
Диккенс сам очень любил это произведение, и в предисловии к первому изданию, когда роман вышел как целая книга в 1850 году — изначально, в
Почему же этот роман был так дорог писателю? Возможно, потому, что мы все очень любим читать про себя и писать — тоже про себя.
«Дэвид Копперфилд» — роман во многом автобиографический. Однако его автобиографические черты современники представляли себе во многом иначе, нежели мы, потомки, позднейшие читатели.
В действительности на реальных событиях из жизни самого писателя основаны те страницы романа, где описывается, как маленький Дэвид оказался рабочим на складе, где он мыл бутылки с вином и куда его отправил жестокий отчим. Впрочем, никакого отчима у писателя на самом деле не было, но об этом чуть позже.

В жизни Диккенса был такой момент, когда он работал на фабрике ваксы и оказался совсем не в той социальной среде, где он хотел бы себя видеть. То есть он всегда имел некоторые социальные амбиции, он мыслил себя человеком образованным, благородным, и для романа эта идея также очень важна. И то, что он оказался среди простых мальчишек, ему было очень обидно, он очень боялся, что таким навсегда и останется.
Современникам невозможно было поверить, что писатель действительно трудился в таких условиях, и они считали как раз этот эпизод вымышленным, одним из моментов в творчестве Диккенса, когда он обращается к жизни городских низов, бедноты, чтобы средний класс больше об этом узнал и
Почему современникам так сложно было представить себе это и в это поверить? Потому что молодой писатель Диккенс к моменту выхода романа «Дэвид Копперфилд» уже был очень хорошо известен. Он был знаменитостью европейского и, в общем, трансатлантического масштаба, о его биографии кое-что знали — в частности, что он достаточно скромного происхождения. Но представить себе, что он работал на фабрике и жил

В романе Дэвид Копперфилд — сирота. Его отец умирает до рождения мальчика, мать умирает, когда он еще ребенок. И впоследствии злоключения Дэвида Копперфилда, то, что он оказывается в ужасной школе, где его преимущественно бьют и всячески над ним издеваются, то, что он оказывается простым рабочим, — это козни жестокого отчима.
В действительности родители Диккенса были живы и здоровы не только когда он был маленьким мальчиком, но и на момент выхода романа «Дэвид Копперфилд». Правда, отношения с ними были достаточно сложными. Если в романе мать Дэвида — это совершенно ангельское существо, молодая, прекрасная, невероятно кроткая женщина, то мать самого писателя была, видимо, более сложным человеком, и отношения их складывались непросто. В частности, идея работы на фабрике ваксы не то чтобы исходила от матери, но мать нисколько ей не противилась — наоборот, оставила его там работать, когда острой финансовой необходимости в этом у семьи уже не было. И Диккенс был страшно на нее за это обижен — возможно, поэтому в романе он представляет себе своих родителей совершенно другими, и они очень рано исчезают со сцены.
Реальные родители Диккенса выведены в романе под именем мистера и миссис Микобер. Это достаточно эксцентричные персонажи, с которыми Дэвид Копперфилд знакомится в Лондоне, когда, собственно, его отчим отправляет его туда трудиться на винный склад. Мистер и миссис Микобер — это его квартирохозяева, то есть он у них поселяется. Однако, поскольку в этот момент Дэвид еще очень маленький мальчик, они фактически принимают его в свою семью. Это очень интересное семейство. Миссис Микобер имеет благородное происхождение, она все время вспоминает, как жила со своими мамой и папой, какая у них была прекрасная, элегантная жизнь и какие прекрасные гости у них собирались — и так далее и тому подобное. Ее семья, конечно, недовольна, что она вышла замуж за Уилкинса Микобера, поскольку это человек, который не умеет зарабатывать на жизнь, и на протяжении всего романа он берет в долг все больше и больше денег и не может их отдать. И какое-то время он вместе со своей семьей проводит в долговой тюрьме.

В
Таким образом, мистер Микобер все время попадает в
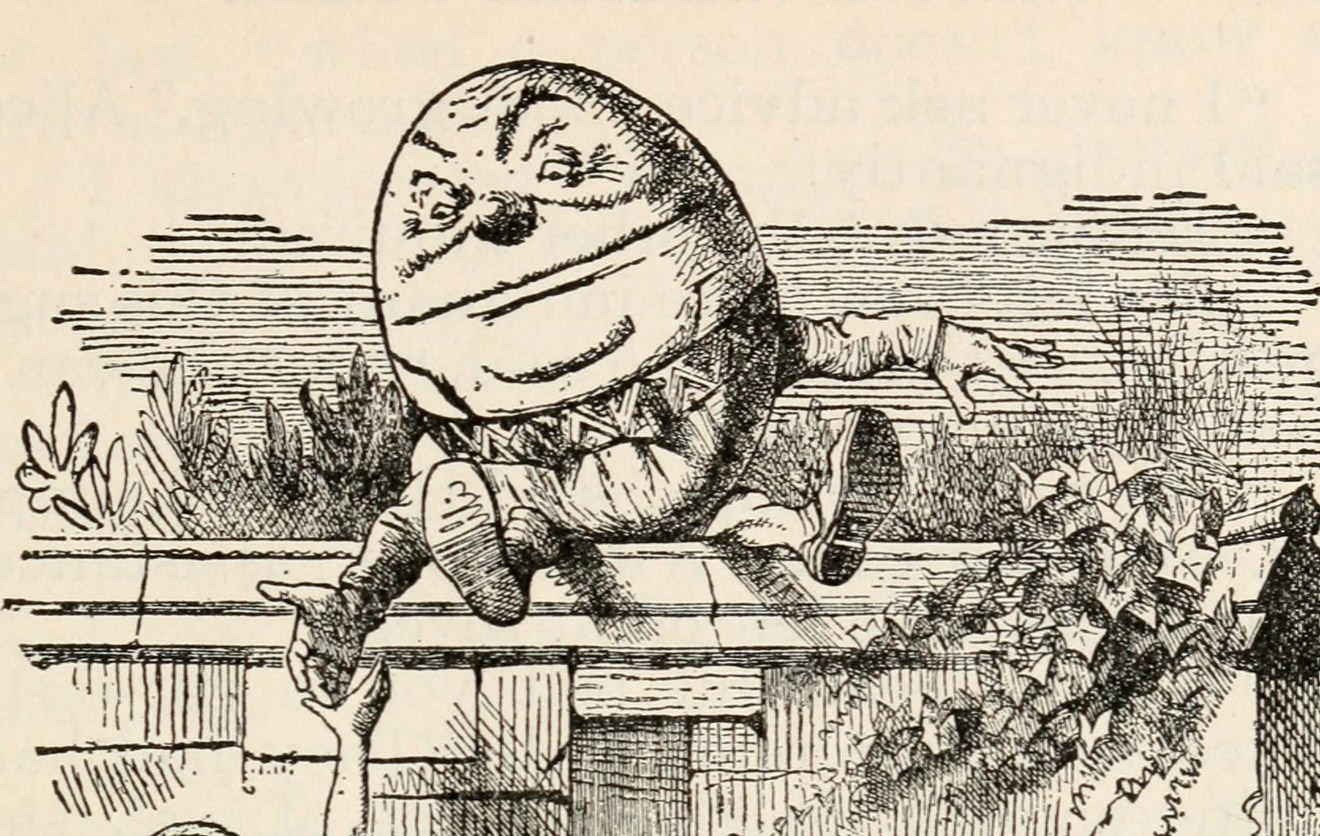
Кажется, что его образ также вдохновлялся таким известным английским фольклорным персонажем, как Шалтай-Болтай. Мало того что у мистера Микобера совершенно лысая, как яйцо, голова — изначально это был стишок-загадка, отгадкой к которой было яйцо, — кроме того, мистер Микобер все время находится в очень шатком, неустойчивом положении: с одной стороны, он весь в долгах, а с другой стороны, он очень любит покушать и выпить. Его семья все время поедает
Роман «Дэвид Копперфилд» написан от первого лица, что в тот момент было достаточно новым литературным приемом. В 1847 году, то есть за два года до начала публикации «Дэвида Копперфилда», вышел знаменитый, наделавший много шума роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», где она использует этот же прием, прослеживая жизнь героини с детства, с десятилетнего возраста, — ее становление, взросление и всевозможные жизненные перипетии.

Способность ребенка видеть мир свежим, незамыленным взглядом необыкновенно важна для писателя. То, что Диккенс делает в этом романе и в своем творчестве вообще, — это попытка показать мир так, чтобы мы увидели его как будто впервые. Советский критик, литературовед Виктор Шкловский ввел для такого особого художественного видения термин «остранение» — привычные нам вещи становятся вдруг странными, и мы можем увидеть их как будто впервые. Мне кажется важным, что у Диккенса речь идет не только о визуальном впечатлении, но и о звуках, запахах, тактильных ощущениях, то есть он представляет нам мир во всем его богатстве и освежает наше восприятие.
Когда маленький Дэвид Копперфилд путешествует по своему дому, это целая вселенная. Предметы огромные, все они необыкновенно интересные. Это мир, полный запахов: например, когда он проходит мимо чулана, оттуда доносится одновременно запах мыла, кофе, пряностей, и мы можем его ощутить, мы можем погрузиться в этот мир. Для него домашняя птица во дворе — огромные, страшные существа. И петух, который каждое утро взлетает на насест, кажется ему персональным врагом, и гуси, которые гуляют во дворе, наводят на него такой же ужас, какой на путешественника в экзотических странах могут навести горные львы.
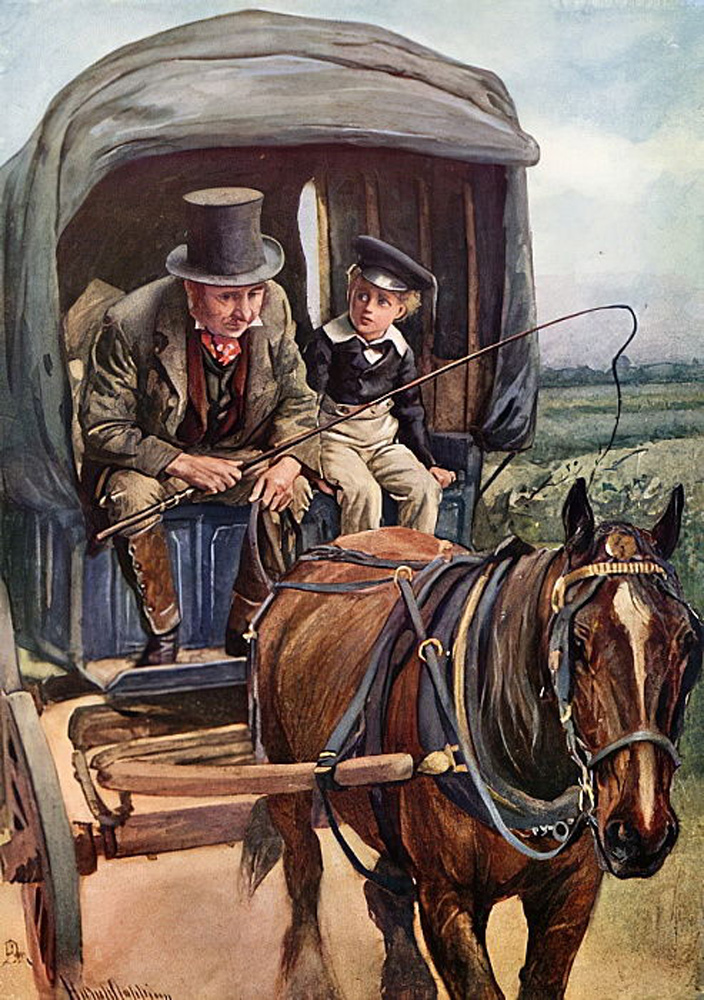
Мы видим этот мир глазами ребенка, который становится моделью для восприятия мира вообще. Гораздо позже, когда уже возмужавший герой поступает на службу в адвокатскую контору, он видит там персонажа, парик которого похож на имбирный пряник. Таким образом, все вещи могут превратиться в свою противоположность — это такое пространство воображения, фантазии, которая, в свою очередь, позволяет нам почувствовать реальный мир в его богатстве, в многообразии его красок и фактур.
И сама идея реальности здесь претерпевает некоторую трансформацию: реально не только то, что мы видим и ощущаем при помощи органов чувств. То, что происходит в нашем сознании, в той же степени реально, а может быть, даже в большей. Так, Дэвид Копперфилд пишет о том, что его давно умершая мать для него жива, и в его памяти ее лицо вырисовывается так же отчетливо, как и лица прохожих в толпе.
В самом начале романа писатель погружает нас в мир фольклорных представлений и суеверий, потому что главный герой, Дэвид Копперфилд, рождается в ночь на пятницу. И, конечно, соседи и самые разные люди начинают говорить, что это неспроста: его жизнь будет несчастливой, а также он должен обладать особым даром видеть привидений и духов. Рассказчик шутливо отмахивается от этого предсказания и говорит, что если в младенчестве он не пересмотрел всех духов, то, значит, еще все впереди.
Но на самом деле весь роман устроен таким образом, что это своего рода театр призраков. Мы видим события жизни Дэвида Копперфилда — младенца, потом ребенка, потом молодого человека глазами уже зрелого мужчины, сделавшего писательскую карьеру. И он все время — и чем дальше по ходу романа, тем чаще — включает свою современную перспективу и, будучи взрослым человеком, оглядывается назад, пытается вернуться в прошлое, реконструировать эти события из обломков своей памяти. В этом смысле он находится в поисках утраченного времени, и этот роман можно назвать первым шагом в том направлении автобиографических исследований, исследований памяти, которые осуществляет Марсель Пруст в своем знаменитом многочастном романе «В поисках утраченного времени» Роман «В поисках утраченного времени» — в новом переводе «В поисках потерянного времени» — состоит из семи книг, взаимосвязанных между собой персонажами и временными отрезками. О структуре текста в письме 1919 года к другому писателю, Франсуа Мориаку, Пруст писал: «…я так тщательно выстроил это здание, и эпизод из первого тома служит объяснением ревности моего юного героя в четвертом и пятом томах. Так что, разбив колонну, увенчанную непристойным капителем, я бы обрушил весь свод».
М. Пруст. Письма. М., 2002..

Эти обращения к прошлому происходят в своего рода кинематографическом режиме. Диккенс умер за четверть века до изобретения кинематографа, но совершенно точно возникает эффект пленки: то пленка убыстряется, мы видим события нескольких лет, стиснутые в очень небольшой промежуток. То как будто наезжает камера: мы рассматриваем героев, рассматриваем мир, который они населяют, в подробностях и немного в замедленном режиме. Диккенс, безусловно, опирался на визуальные технологии и
Диккенс всю жизнь мечтал о славе, и — особенно в молодости — он связывал эти мечты с театром. Он очень хотел стать актером, очень любил театр и даже записался на прослушивание в почтенный лондонский театр Друри-Лейн Королевский театр Друри-Лейн — один из главных лондонских драматических театров, появившийся в 1663 году, старейший из до сих пор существующих., но тяжело заболел и пропустил это прослушивание — и другой такой случай ему после этого не представился. Однако он всю жизнь ставил любительские спектакли. В 1857 году при постановке спектакля по пьесе его друга Уилки Коллинза «Ледяная бездна» Диккенс познакомился с молодой актрисой Эллен Тернан, которая стала его возлюбленной и из-за которой брак Диккенса, уже и без того давший трещину, распался В 1858 году Диккенс развелся со своей первой женой, писательницей и актрисой Кэтрин Диккенс..

И очень важным театральным способом самореализации для Диккенса, особенно в его поздние годы, стала читка произведений перед публикой. Он достаточно рано начал этим заниматься и в первую очередь делал это в благотворительных целях. С 1858 года он стал ездить с коммерческими турами по Великобритании, Америке, зарабатывал огромные деньги, и это приносило ему очень большое удовольствие и невероятную популярность. Он действительно был очень артистичен и замечательно читал свои произведения — они изначально были задуманы для того, чтобы их
В 1858 году, выступая с речью на благотворительном обеде, который давало Королевское общество поддержки пожилых актеров, Диккенс сказал, что каждый актер всегда играет для автора, а каждый писатель, даже когда он работает не в драматической форме, пишет, по сути, для сцены. И в произведениях Диккенса, в частности в «Дэвиде Копперфилде», это влияние театра и это театральное качество очень заметно, потому что большинство сцен романа очень тщательно простроены, как мизансцены, диалоги прописаны таким образом, что их можно поставить прямо сейчас. И, конечно, поведение героев очень театрально. Они заламывают руки, бросаются друг другу в объятия и очень активно задействуют жестовый код выражения эмоций, чувств, который был принят на сцене того времени.
Еще один интересный момент — в театре в XIX веке идея исторического костюма только начинала появляться и приживаться. Большинство пьес, даже посвященных
Особенно показательна в этом смысле фигура двоюродной бабушки главного героя, мисс Бетси Тротвуд, которая появляется в самом начале романа. Мисс Бетси ужасно разочарована тем, что рождается Дэвид, потому что она мечтала о крестнице, и она покидает дом, появляясь в романе вновь очень нескоро — а именно тогда, когда Дэвид Копперфилд сбегает со склада, где моет винные бутылки, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Поскольку ему совершенно некуда податься и он знает, что у него есть единственный живой родственник, двоюродная бабушка, он пешком отправляется из Лондона в Дувр, где она живет, то есть на побережье. Она его усыновляет, и дальше все хорошо.

Мисс Бетси сразу привлекает наше внимание тем, что она невероятно эксцентричная особа. Она совершенно пренебрегает правилами приличия, и, поскольку она дама, это особенно заметно. То есть она ведет себя
В действительности похожие тенденции начинают появляться в женской моде с середины XIX века, и они, конечно, привлекают очень большое внимание, критику и очевидным образом связываются с женским движением, которое в это время зарождается. Можно сказать, что в образе мисс Бетси Диккенс предвосхищает стереотип суфражистки — женщины, которая борется за избирательное право и за общественно-политические права для женщин в целом. Карикатуры на суфражисток конца XIX — начала XX века как будто бы списаны с описания мисс Бетси в романе «Дэвид Копперфилд», хотя, возможно, сам писатель ничего подобного в виду не имел — о политических взглядах мисс Бетси мы мало что узнаем.
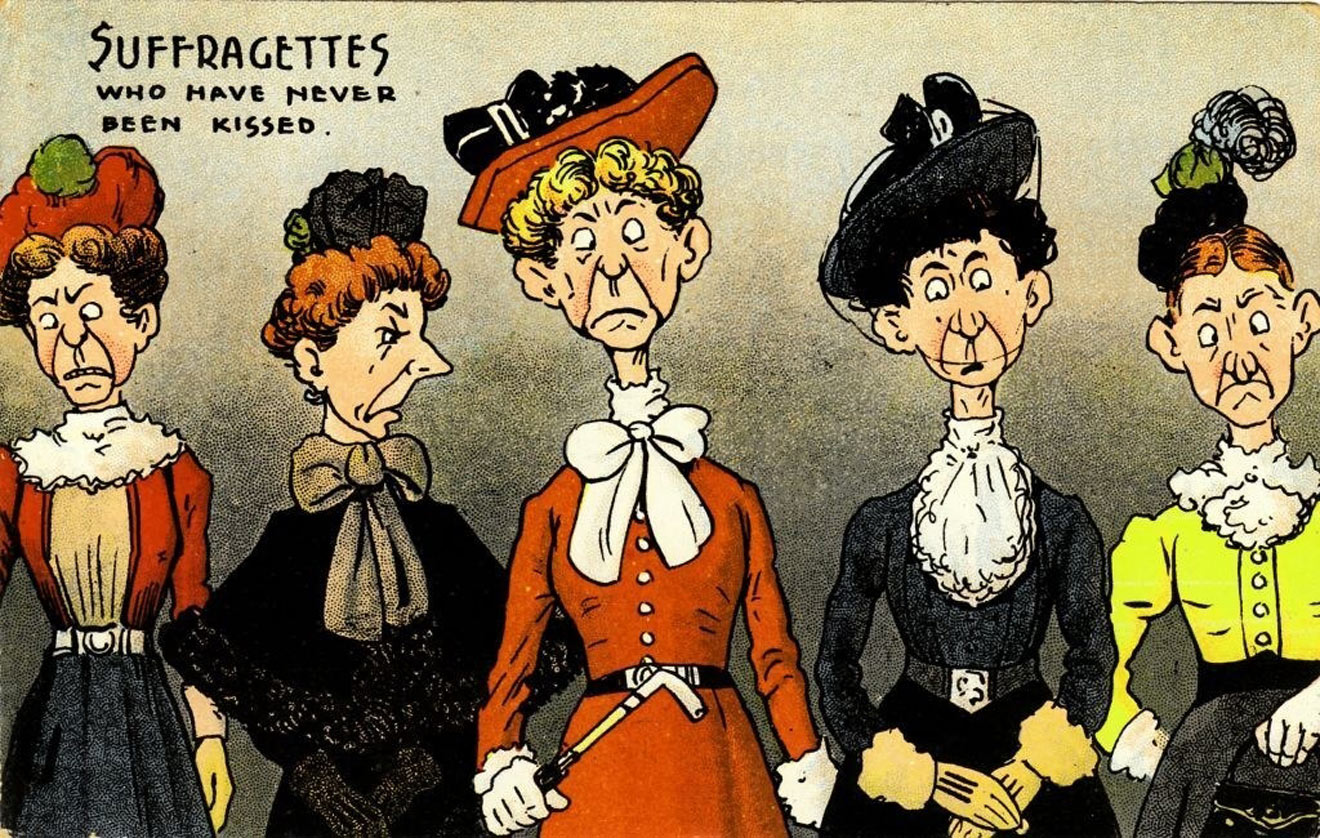
Другой персонаж, в чьем костюме присутствуют отсылки к моде середины XIX века, — это третьестепенный, можно сказать, комический персонаж, мать одной из героинь. Такая мамаша, которая все время сует нос не в свое дело. Ее суетливость подчеркивается тем, что на шляпке у нее искусственные бабочки на проволочках или на пружинках, которые все время качаются, как будто бы порхают над ее шляпкой и ужасно раздражают всех на свете. Подобные украшения становятся невероятно модными в середине XIX века, в
Можно также сказать, что Диккенс позволяет нам увидеть любое взаимодействие между людьми как своего рода театр. Это очень ярко проявляется в начале романа, когда маленький Дэвид, находясь в ужасной школе, где его бьют и ничему толком не учат, получает известие о смерти матери. Он, конечно, совершенно убит горем. Он гуляет в одиночестве по школьному двору, но в этот момент осознает, что из окон школы, скорее всего, на него смотрят другие ребята и что его горе придает ему особое достоинство в их глазах. И, думая об этом, он принимает еще более печальный вид и начинает идти еще медленнее.

Можно ли сказать, что от этого его скорбь уменьшается? Конечно, нет. Но Диккенс здесь подчеркивает, каким образом наши самые глубокие интимные переживания не могут быть полностью изолированы от внешнего мира, они ощущаются нами под взглядом другого, даже если этот взгляд воображаемый. И в этом смысле можно сказать, что роман «Дэвид Копперфилд» предвосхищает то, что в середине XX века будет писать о социальных взаимодействиях американский социолог Ирвинг Гофман, который сравнивает нашу жизнь с театром и показывает, что мы все время в нем и актеры, и зрители и что внутренняя правда неотделима от внешнего исполнения и игры, в которую мы все вовлечены.
Диккенс вдохновляется не только драматическим, но и кукольным театром. Так, один из персонажей, затянутый в свой костюм, застегнутый на все пуговицы, кланяется всем телом, точно Панч — кукла, используемая в площадных представлениях, своего рода английский аналог Петрушки. Конечно, самые яркие кукольные персонажи в романе — это его злодеи: отчим Дэвида, мистер Мердстон, напоминает мальчику восковую фигуру, а коварный Урия Хип, главный злодей романа, во многих сценах напоминает то огородное пугало, то куклу; лицо его описывается как маска, а его невероятно длинные конечности, странным образом двигающиеся и подергивающиеся, напоминают о движениях марионетки.

Урия Хип — это клерк, слуга мистера Уикфилда, который является адвокатом и финансовым поверенным мисс Бетси, двоюродной бабушки главного героя. Он занимает очень скромное положение и всячески это подчеркивает. Он все время говорит о том, какой он маленький, ничтожный, смиренный человек. Однако в то же время Урия Хип лелеет большие планы, подпаивая мистера Уикфильда, который имеет склонность к портвейну, он завладевает полным его расположением и доверием и начинает
Диккенс обращает особое внимание на то, каким образом Урия Хип манипулирует мистером Уикфилдом, полностью подчиняя его своей воле. Марионетка претендует на роль кукловода, и это воспринимается как
Таким образом, помимо того, что Урия Хип — это кукла, маска, пугало, он еще и не совсем человек в том смысле, что он все время сравнивается с различными животными. У него очень странная пластика, он все время извивается, как змея или угорь,

Чем же так ужасен Урия Хип? На самом деле можно сказать, что главный злодей романа — это человек, который, извиваясь ужом, пытается влезть, втиснуться туда, где ему не место. Урия Хип — выскочка, и это его главное преступление. Задолго до того, как мы узнаем, что он участвует в
Это очень характерно для Диккенса, у которого все хорошие — бедняки, те, кто находится на своих местах и никуда не движется. Но в то же время Урия Хип является темным двойником героя и самого автора, потому что они сами делают нечто подобное. Несчастный Дэвид Копперфилд, который работал на складе винных бутылок и потом пешком прошел путь от Лондона до Дувра, конечно, не

Может быть, все не так однозначно, потому что само имя этого героя отсылает нас к истории из Ветхого Завета, зная которую мы можем увидеть эту ситуацию в совершенно ином свете. Урия — это персонаж из Второй книги Царств, чья прекрасная жена привлекла внимание царя Давида. Он взял ее себе, а от Урии решил избавиться. Урия был одним из офицеров в его армии, и царь Давид повелел своим главнокомандующим поставить Урию в самую гущу битвы и отступить от него. Урия был убит, Давид получил еще одну жену, и все было бы хорошо, если бы Господь не покарал его за это дело, которое, как написано в Библии, было «злом в очах Господа».
И вот мы видим это соперничество Урии и Давида из-за женщины, которое переносится в роман, где у нас есть Давид — а в XIX веке
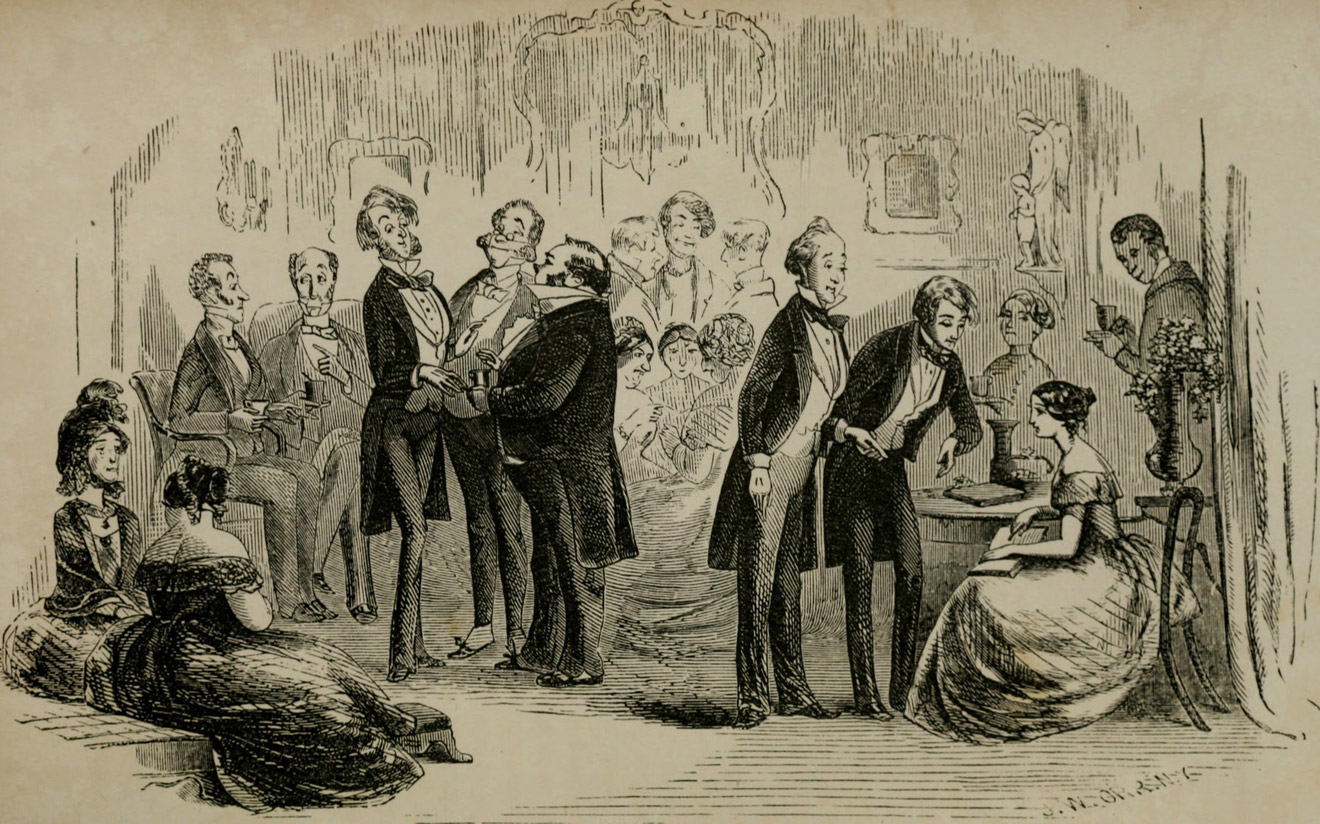
Этот библейский подтекст, который был совершенно очевиден читателям романа, потому что для них текст Библии был гораздо ближе, чем для нас сейчас, и они постоянно к нему обращались, привносит
Мы можем увидеть, что в произведениях Диккенса, и в частности в романе «Дэвид Копперфилд», очень много уровней смысла. Каждый может прочитать этот текст
В 2019 году вышел фильм режиссера Армандо Ианнуччи «История Дэвида Копперфилда», в котором главную роль сыграл актер индийского происхождения Дев Патель, и многие другие роли также играют актеры азиатского происхождения или чернокожие исполнители. Этот шаг, конечно, очень необычен и нарушает наше сложившееся представление о том, как могут выглядеть герои Диккенса. Интересно подумать о том, как бы отнесся к этому сам писатель.

Из современной перспективы многие взгляды Диккенса едва ли можно назвать иначе как расистскими. Ситуация обострилась в 1857 году, когда в Индии вспыхнуло восстание и ужасные вещи творились с обеих сторон В 1857 году против британских колониальных властей в городе Мируте поднялось Сипайское народное восстание, которое считается первой войной за независимость в Индии. Причиной стала колониальная политика: повышение налогов, разорение ремесленников из-за массового ввоза британских фабричных товаров, ограничение прав сипаев — колониальных войск, сформированных из местного населения. В 1859 году восстание было подавлено, однако изменений оно добилось — манифестом, вышедшим в 1858 году, королева Виктория уравнивала индийцев с британскими подданными в правах.. Но, конечно, Диккенс видел только одну сторону этого конфликта, и он буквально призывал уничтожить эту расу, стереть ее с лица земли. В первую очередь такие радикальные высказывания встречаются именно в публицистике писателя, тогда как в его романах эта тема едва намечена. Но мы можем найти следы подобных взглядов и в тексте «Дэвида Копперфилда».

В то же время в этом романе, как и в других своих произведениях, Диккенс очень активно расшатывает современные ему представления о норме. Например, в доме мисс Бетси живет мистер Дик — человек, которого все считают сумасшедшим, однако она считает его едва ли не гением, и Дик играет в романе очень важную положительную роль. Тем самым Диккенс ставит под сомнения наши сложившиеся представления о психической нормальности, о том, кто нормален, а кто безумен.

Другой очень важный в этом плане персонаж — это маленькая женщина мисс Моучер, которая оказывает косметические услуги самым разным людям и разносит сплетни. Когда герой видит ее впервые, она кажется ему невероятно вульгарной и

Таким образом, Диккенс в своем творчестве показывает читателям человечность, доброту и прекрасные качества самых разных людей, которых общество привыкло отвергать. Это и бедные, и даже преступники, это люди с
Я не читала Диккенса в детстве.
Я стала исправлять очень активно и стремительно и прочитала романов десять за очень небольшой промежуток времени. Все они немножко слиплись в голове, но меня совершенно поразил этот автор, потому что

Но в действительности все оказалось совершенно не так, и
Но, несмотря на этот языковой барьер, мне кажется, все равно важно и нужно читать Диккенса, и недавний успех романа Донны Тартт «Щегол», очень диккенсовского и по стилю, и по той морали, которую мы можем из него извлечь, показывает, что Диккенс парадоксальным образом вновь становится современным, актуальным писателем. Особенно в наш век высоких технологий, когда на кончиках пальцев нам доступен весь мир, доступен как очень яркая картинка в высочайшем разрешении, Диккенс, который открывает для нас не только визуальное, но тактильное и чувственное измерение мира, может быть особенно важным. И в эпоху пандемии, когда наши контакты ограничены и мы все стараемся держаться друг от друга подальше, особенно не хватает той тактильности, которую дает нам Диккенс, когда маленький Дэвид Копперфилд берет свою няню за указательный палец, и ее палец, бесконечно исколотый иголкой от шитья, похож на ощупь на маленькую карманную терочку для мускатных орехов.

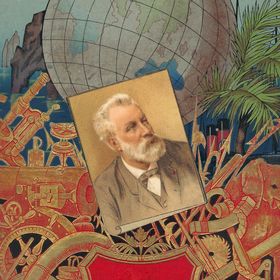














Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости