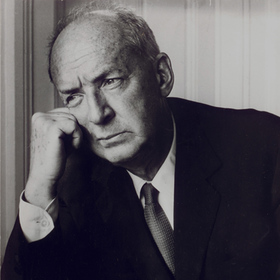Расшифровка
В этой лекции мы поговорим о «Приглашении на казнь» — романе, который сам Набоков считал своей единственной поэмой в прозе, над которым он работал с чудным восторгом и неутихающим вдохновением и который он написал очень быстро летом 1934 года, оставив работу над своим большим романом «Дар». По его собственному мнению и по мнению большинства критиков, это его самая сильная книга.
«Приглашение на казнь» по формальным признакам относится к жанру антиутопии, к романам-предупреждениям об опасностях тоталитаризма, действие в которых отнесено к отдаленному будущему. У Набокова действие также происходит через много сотен лет после ХХ века. Но если мы посмотрим на изображение будущего у Набокова и сравним его с футурологическими картинами, скажем, в «Мы» Замятина или «Прекрасном новом мире» Олдоса Хаксли (оба эти романа Набоков знал хорошо), то мы сразу увидим большое различие. Россия будущего в изображении Набокова — это отнюдь не всемогущее государство с развитой технологией, которое с помощью каких-то техник, манипуляций и институций подавляет индивидуальную свободу. В будущем у Набокова, как ни странно, нет ни городов с огромными зданиями из стекла и бетона, ни ракет, ни каких-то особых вертолетов, ни движущихся тротуаров, ни каких-то гигантских телеэкранов, ни инкубаторов, в которых выращивают детей, ни каких-то хитроумных автоматов или сложных систем для наблюдения и для пыток. То есть в этом мире нет ничего научно-фантастического — кроме каких-то безобидных заводных автомобильчиков, которые заводятся ключом, как игрушечные, и электрических вагонеток в виде лебедей и лодок, напоминающих скорее о луна-парке, чем о каких-то футурологических кошмарах.
Вот, например, картина этого мира, которую представляет себе главный герой романа, узник Цинциннат: «…электрические вагонетки, в которых сидишь, как в карусельной люльке; из мебельных складов выносят для проветривания диваны, кресла… на них присаживаются отдохнуть школьники, и маленький дежурный с тачкой, полной общих тетрадок и книг, утирает лоб, как взрослый артельщик; по освеженной, влажной мостовой стрекочут заводные двухместные „часики“, как зовут их тут в провинции (а ведь это выродившиеся потомки машин прошлого, тех великолепных лаковых раковин… почему я вспомнил? да — снимки в журнале)…», — он смотрит старые журналы, которые ему принесли из библиотеки. «…Марфинька Жена Цинцинната. выбирает фрукты; дряхлые, страшные лошади… развозят с фабрик товар по городским выдачам; уличные продавцы хлеба, с золотистыми лицами, в белых рубахах, орут, жонглируя булками, подбрасывая их высоко, ловя и снова крутя их… четверо веселых телеграфистов пьют, чокаются и поднимают бокалы за здоровье прохожих; знаменитый каламбурист, жадный хохлатый старик в красных шелковых панталонах, пожирает, обжигаясь, поджаренные хухрики в павильоне на Малых Прудах… под музыку духового оркестра… солнце бежит по пологим улицам… пахнет липой, карбурином, мокрой пылью; вечный фонтан у мавзолея капитана Сонного широко орошает, ниспадая, каменного капитана, барельеф у его слоновых ног и колышимые розы». Итак, картина будущего мира, в которой нет ничего необычного, кроме разве что заводных машинок или электрических вагонеток.
Но в этом описании есть два не вполне понятных слова. Во-первых, продают какие-то «хухрики». Что это такое? Долго исследователи искали ответ и не нашли — такого слова нет. Дело в том, что это хухрик не из будущего, это не некое несуществующее кушанье, которое Набоков придумал. Это слово из настоящего — из повести Куприна «Юнкера» 1932 года, на которую Набоков писал рецензию. В этой повести Хухрик — это прозвище одного из персонажей, и Куприн поясняет: «Никто… не мог объяснить, что означает это загадочное слово — Хухрик: маленького ехидного зверька, или мех, или какое-то колючее растение, или злотворный настой, или особую болезнь вроде чирья». То есть это слово существует, но значения у него нет. Поэтому его использует Набоков и, продолжая ряд, начатый Куприным, называет этим словом какое-то кушанье: может быть, пышки, или горячие собаки, или что-нибудь в этом роде.
«Карбурин» — слово тоже не из будущего, а из прошлого. Сейчас его найти трудно, но если мы посмотрим автомобильные журналы начала ХХ века, то мы увидим, что карбурином называли сначала скипидар, а потом лаковый бензин. Скорее всего, здесь имеется в виду запах растворителя, в котором используется карбурин. То есть, опять-таки, Набоков отсылает нас не в какое-то угрожающее воображаемое будущее, а скорее в будущее, ставшее прошлым. Неслучайно в этом описании упоминается мавзолей — как мавзолей Ленина, это единственная аналогия для 1930-х годов, мавзолея Мао Цзэдуна тогда еще не существовало (капитан Сонный, которого поместили в мавзолей, это герой-основатель государства будущего). То есть общество, в котором черт догадал родиться Цинцинната Ц., единственного человека с умом и талантом, единственного поэта в этом непоэтическом мире, — это мир, который утрачивает свою духовную энергию и погружается в спячку.
В финале романа Замятина «Мы» (который, повторяю, Набоков знал хорошо) единое тоталитарное государство, чтобы искоренить свободолюбие и открыть своим гражданам путь к стопроцентному счастью, заставляет их подвергнуться хирургической операции — им прижигают некий узелок, особый центр воображения, фантазии, без которой человек превращается в совершенный механизм. У сограждан Цинцинната — всех жителей этого не имеющего имени государства — такой узелок уже атрофирован, его нет, и поэтому, по Набокову, они органически не способны ни создать что-нибудь новое, ни даже сохранить и употребить в дело технику прошлых веков. Так, в старом журнале Цинциннат Ц. находит фотографию правнучки последнего изобретателя — то есть в этом мире уже никто никогда ничего не изобретает. На заросшем аэродроме ржавеет последний самолет, на котором никто не летает. Как мы с вами видели, товар развозят «дряхлые, страшные лошади». Это такая выродившаяся, деградировавшая, повернувшая вспять цивилизация, которая больше похожа на странный гибрид гоголевского Миргорода, щедринского Глупова и какого-нибудь уютного немецкого городка, а вовсе не на какие-то антиутопии или антиутопические пророчества.
То есть Набоков не уделяет никакого внимания устройству общества, в котором живет или, вернее, доживает последние дни своей жизни приговоренный к смертной казни через отсечение головы герой. Мы не знаем, как воспитываются дети в этом государстве, его не интересует, как устроена государственная система, — то есть какие-то определенные правила там имеются, но они не так жестко регламентированы. Ведь Цинцинната Ц. на казнь отправляет не какая-то жестокая диктатура, пытающая своих жертв, а очень благодушное общество. В застенке его не пытают, не морят голодом, не мучают, а наоборот, угощают какими-то директорскими харчами, разрешают свидание с женой и вообще обращаются с ним как с непослушным ребенком. Проявляется внешняя человечность — но как раз она и подчеркивает внутреннюю устрашающую бесчеловечность.
Именно в этом «дружелюбном» подтрунивании убийц над Цинциннатом (а они пытаются убедить его, что, вообще-то говоря, его казнят ради его собственного блага — ну и ради всеобщего, конечно), в омерзительно пошлом стиле поведения и речи тюремщиков и палача с парикмахерским именем м-сье Пьер и выявляется сходство этого выдуманного гротескного общества с тоталитарными режимами всех сортов, современником которых оказался Набоков. Американский друг Набокова, очень известный тогда критик и писатель Эдмунд Уилсон, однажды прислал ему свою книгу о русской революции, в которой с некоторым сочувствием отозвался о Владимире Ильиче Ульянове-Ленине, о его гуманности — повторяя биографические мифы о Ленине, которые к тому времени уже вполне освоила советская пропаганда. И Набоков написал ему, что именно это наигранное добродушие Ленина, эти глаза с прищуринкой, этот мальчишеский смех и создают особенно невыносимую атмосферу для него. Как он сформулировал, это «ведро, наполненное молоком человеколюбия, но с дохлой крысой на дне».
«Вас „приглашают“ на казнь из лучших побуждений, все пройдет так мило и приятно, если только вы не станете волноваться и капризничать (как говорит палач своему „пациенту“)»: задолго до Ханны Арендт, которой процесс Адольфа Эйхмана открыл глаза на то, что она назвала банальностью зла, banality of evil Ханна Арендт присутствовала на процессе в качестве корреспондента журнала The New Yorker и по его итогам написала книгу «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме»., Набоков совершил демифологизацию зла, творимого палачами всех мастей и политических убеждений, распознав в нем одуряющий дух, метафорическую нестерпимую вонь, которая исходит в «Приглашении на казнь» от палача м-сье Пьера — вонь торжествующей пошлости.
Здесь, наверное, надо сказать о том, что сама категория пошлости была для Набокова очень важна, и потом, когда он уже приедет в Америку, он много раз будет пытаться объяснить американским студентам и американским читателям, что такое пошлость — понятие, у которого нет аналогов в английском языке. Он объяснял, что само понятие пошлости есть одновременно эстетическое и моральное. Ведущим фактором в определении пошлости будет эстетика. Оценивая некое явление с эстетической точки зрения, мы тем самым переходим и к его моральной оценке. Пошлое есть плохое и эстетически, и морально — они взаимосвязаны между собой. Пошлятина, пошлое — это не только откровенно дрянное, это главным образом псевдозначительное, псевдокрасивое, псевдоумное, псевдопривлекательное. Вот эта неподлинность, поддельность и есть определяющее свойство общества, которое Набоков изображает. И ему противопоставляется только одно сознание — индивидуальное сознание жертвы, Цинцинната Ц., единственного живого, непрозрачного человека среди взаимозаменяемых, прозрачных друг для друга автоматов, которые говорят, видят, чувствуют, понимают только с помощью клише.
В этом обществе все извращено: язык потерял смысл, правосудие подменяется издевательским ритуалом, любовь — это красивое и полезное физическое упражнение, дом — это мебель, творчество — это грубый фотографический суррогат. Надо сказать, что Набоков не только, как известно, придумал смайлик, которым мы все пользуемся, — он, кажется, угадал селфи, потому что в «Приглашении на казнь» палач с мерзким именем м-ье Пьер показывает директору тюрьмы и Цинциннату фотографии — «толстую стопочку… снимков самого мелкого размера». «На всех этих снимках был м-сье Пьер, м-сье Пьер в разнообразнейших положениях, — то в саду, с премированным томатищем в руках, то подсевший одной ягодицей на какие-то перила (профиль, трубка во рту), то за чтением в качалке, а рядом стакан с соломинкой…» Вот эстетический идеал: все эти селфи — это есть искусство будущего, искусство этого общества радостных и счастливых дегенератов.
Здесь не сжигают книги, а разучаются их читать и писать; не запрещают классиков, а превращают их в мягкие куклы для школьниц; не взрывают музеи, а тупо пялятся на собранные в них редкие вещи, восхищаясь каким-нибудь пикантным торсом из бронзы или мрамора. Это мир неподлинный, фальшивый, и, подчеркивая это, Набоков на протяжении всего романа отождествляет его с цирком, с луна-парком (как мы уже видели), с кукольным театром, с дешевым театральным представлением, где актеры носят какие-то грубо намалеванные маски, парики, накладные бороды. Даже паук, который сидит в углу камеры Цинцинната, официальный друг заключенных, — это бутафория, это механическая игрушка.
Все изощренные издевательства, которым подвергают приглашенного на казнь тюремщики, — это тоже некие жуткие карнавальные действа, притворство, цирк, трюки: меняются костюмы, девочка Эммочка танцует, как Саломея, которая выпрашивает голову Иоанна Крестителя; адвокат и директор тюрьмы забавляют друг друга репризами — все есть бутафория, все есть обман, все есть театр. И герой — единственный, кто распознает это, кто понимает, что он оказывается в каком-то представлении, что он окружен не людьми, а убогими призраками — они его терзают, как терзают дурные сны. Все ему кажется поддельным, и только одно не принадлежит этому миру — его внутреннее «я», его преступное пламя, как он говорит, его тайная жизнь, которую никто отнять у него не может.
Собственно, его и арестовывают и казнят именно за то, что у него есть это внутреннее «я» — как он говорит, «неделимая, твердая, сияющая точка». И если у его соплеменников полностью отсутствует фантазия, «узелок воображения», то Цинциннат наделен ею. Когда Цинцинат Ц., еще не зная, что м‑сье Пьер — это тот самый человек, который отрубит ему голову в финале книги, жалуется ему на свою судьбу и все-таки надеется на то, что его кто-то сможет спасти, м‑сье Пьер удивленно спрашивает: что же тебя спасет? И на это он отвечает одним словом: «Воображение». Спасительное воображение — это воображение художника. Потому что в своих творческих снах внутренний Цинциннат выходит из-под власти своих тюремщиков. Он свободно передвигается в пространстве и времени, выходит из тюрьмы, снимает с себя свое тело, погружается в трепет другой стихии.
Только воображение могло бы его спасти — но вся штука в том, что воображение Цинцинната почти до самого конца романа несвободно. Оно сковано привычными представлениями, клише, банальными сюжетами, и поэтому оно не может его спасти. Любовь к Марфиньке заставляет его ностальгически вспоминать об их прогулках в каких-то романтических Тамариных садах — в этом названии и игра с «там» — отсылка к потусторонности, и, с другой стороны, намек на лермонтовскую Тамару, которая губит своих любовников. Цинциннат верит в то, что кто-нибудь пробьет подземный ход, тоннель и поможет ему выбраться из его камеры — как в «Графе Монте-Кристо», например. Он думает, что дочка тюремщика Эммочка, как в стихотворении Лермонтова «Соседка» и в десятках авантюрных романов, выведет его на волю.
За 19 дней, которые проходят в романе между вынесением ему приговора и казнью, все его иллюзии рушатся одна за другой. Он мечтает о свидании с женой — жена приводит на свидание всю свою семью, своих любовников, своих детей и заодно всю мебель из дома. Добрый ласковый сосед оказывается палачом. Тайный ход, тоннель — это очередная жестокая шутка тюремщиков. Предательница Эммочка приводит его вовсе не на свободу, а на безумное чаепитие вместе с палачом и тюремщиками. В тех самых романтических Тамариных садах, оказывается, скрывается резиденция отцов города, где устраивается прием по случаю экзекуции. То есть воображаемые Цинциннатом маршруты побега всякий раз приводят его обратно в крепость. И только в конце романа он начинает понимать, что спастись он может, только если полностью отвергнет этот поддельный мир. Он наконец преодолевает эти преграды и выходит вовне поддельного существования, в котором он находился все это время.
Многие критики говорят о том, что в «Приглашении на казнь» сильны мотивы гностические. Это связано с тем, что Набоков в английском переводе романа заменил прилагательное в определении того преступления, за которое карают Цинцинната. По-русски оно называется «гносеологическая гнусность», а по-английски — gnostic turpitude. Это гнусность уже не гносеологическая (связанная с познанием), а гностическая (связанная с гностицизмом —концепцией тайного знания, которое, согласно учению гностиков, отделяет немногих избранных людей от большинства). В этом сопоставлении есть, конечно, доля истины. Согласно учениям гностиков, мир, в котором мы живем, — это всегда некое подобие тюрьмы, это неподлинный мир, который когда-то был украден у истинного Творца демоном-демиургом, и связь с истинным Отцом этого мира, Богом, потеряна почти для всех, за исключением немногих людей, обладающих тайным знанием, которые и называются гностиками. Когда Цинциннат говорит: «я кое-что знаю», когда он мечтает о каком-то другом мире, который находится «там» — не просто за стенками тюрьмы, а вообще за пределами всего сущего, — то в этом есть прямые переклички с учениями гностиков. Но потусторонность, которую он предощущает, — это не некое царство света, антитеза сотворенному демиургом материальному миру, а это лишенный зла и уродства одухотворенный прообраз тутошнего мира. «Там — неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют умученные тут чудаки; там время складывается по желанию, как узорчатый ковер… Там, там — оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались; там все поражает своей чарующей очевидностью, простотой совершенного блага; там все потешает душу, там все проникнуто той забавностью, которую знают дети; там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик…» То есть это видение потустороннего мира, благого мира, оно скорее напоминает идеи платонизма или неоплатонизма, чем идеи гностиков.
Но в тутошнем мире спасения для истинного человека, истинного творца нет. Этот мир испакощен, хотя он таит в себе и нечто иное. Как всегда у Набокова, тайна скрыта в сущем. И Цинциннату, кстати, посылаются знаки, которые он понять не может. Сам повествователь тоже начинает с ним говорить, предостерегать его, подсказывать ему, он вмешивается в свое повествование так, что в этом всеобщем фарсе начинает просвечивать другой узор — узор «Божественной комедии».
Цинциннат почти до самого конца романа не понимает, что за поверхностью кукольного, циркового, театрального, фальшивого мира есть нечто еще — он только мечтает об этом, но не видит, что же скрывается за всем этим гнусным спектаклем. И в общем виде сюжет романа сводится к борьбе, диалогу двух Цинциннатов или двух точек зрения на мир. Один Цинциннат — маленький, слабый, беспомощный — видит в мире тут единственную реальность и боится потерять жизнь, боится смерти. Другой вроде как бы осознает, что темная тюрьма, в которой заключен его ужас, — это неподлинное, это лишь поверхность, это лицевая сторона бытия, но он долгое время не может найти путь из нее — и только в финале романа постепенно главный, внутренний, свободный Цинциннат начинает брать верх.
На это указывается появлением огромной бабочки в предфинальной сцене романа — это традиционный символ бессмертной души, освобожденной из кокона плоти. Ее приносит в камеру тюремщик Родион, а ночная бабочка внезапно пробуждается ото сна и наводит на тюремщика жуткий страх. Потом она пропадает, становится неуязвимой для преследователя, и только Цинциннат отлично видит, куда она села. И тут как раз и происходит то, о чем мечтал Цинциннат: преодоление страха смерти.
На последнем листе герой пишет последнее слово — «смерть» и тут же немедленно его вычеркивает, прикасается к бабочке, — и тут в набоковской рукописи, вычеркнут один абзац, который я сейчас приведу. Цинциннат вдруг чувствует нечто такое, что дает ему радость открытия, — это некая эпифания, как бы богоявление. Он думает: «Да, наконец-то, наконец-то я, кажется, знаю, я нечто знаю, я знаю! Как я раньше не сообразил. Как же можно было так просто. Да-да, конечно, как просто». Это Набоков вычеркнул, видимо, потому, что если бы действительно прозрение Цинцинната свершилось в данной сцене, то последующая сцена казни уже бы не имела никакого значения — Цинцинат уже здесь и сейчас освободился бы от своих страхов и приобрел бы некое истинное, глубинное понимание происходящего.
В финальном тексте романа это прозрение наступает несколько позже, когда Цинциннат уже лежит на плахе, когда над ним занесен топор палача и когда он начинает считать: «Один Цинциннат считал, а другой Цинциннат уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счета — и с неиспытанной дотоле ясностью, сперва даже болезненной по внезапности своего наплыва, но потом преисполнившей веселием все его естество, — подумал: зачем я тут? отчего так лежу? — и задав себе этот простой вопрос, он отвечал тем, что привстал и осмотрелся».
Что же происходит? Казнен или не казнен Цинциннат? Ответ, наверное, может быть таким, который предложил Ходасевич: «И не казнен, и не не казнен». Само описание декапитации дается у Набокова глазами привставшего Цинцинната, и оно содержит противоречивые подробности. С одной стороны, он видит и вращающегося палача, то есть палач еще не нанес удар, с другой — библиотекаря, который блюет на трибуне среди зрителей (библиотекарь — единственный нечеловек среди персонажей романа, кроме Цинцинната Ц. и, может быть, его матери Цецилии, в котором есть нечто человеческое), — он явно реагирует на кровавое зрелище.
Но, опять-таки, противоречие это можно разрешить, если вспомнить о двух Цинциннатах. Один Цинциннат прощается уже с ненужной своей смертной ипостасью, а другой Цинциннат, духовный, внутренний Цинциннат, выходит из времени и пространства этого мира. То есть казнь первого Цинцинната происходит, но оказывается мнимой, как и весь балаган неподлинной жизни, а казнь главного, бессмертного Цинцинната оборачивается не его уничтожением, а казнью и уничтожением пошлого мира, а Цинциннат отправляется навстречу «существам, подобным ему». В каком-то смысле можно сказать, что казнь первого Цинцинната происходит, но оказывается мнимой, как и весь балаган неподлинной жизни, а казнь главного Цинцинната, Цинцинната-поэта, невозможна по определению, поскольку второй Цинциннат бессмертен.
После того как Цинциннат выходит из пошлого мира, этот мир рушится. Люди изменяются в размерах, палач уподобляется личинке, деревья падают, все расползается, «и Цинциннат пошел среди пыли и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему». Очень важно, что критерием, по которому определяется подобие Цинцинната этим существам, является голос. В рукописи Набоков написал «судя по голосу и смеху», но потом слово «смех» вычеркнул, оставил только один «голос». Голос — это атрибут поэта, творца, и Набоков уже много лет спустя, в Америке, подчеркивал, что в Цинциннате нужно видеть именно последнего поэта в неподлинном и непоэтическом мире. Когда последний поэт уходит из этого мира, то гибнет не поэзия — гибнет неподлинный мир. Мир существует только постольку, поскольку в нем существуют поэты; нет поэта — нет мира.