Что скрывают архивы
- 5 лекций
- 20 материалов
Тайная любовь императрицы, загадка дела Бродского и другие архивные находки


Тайная любовь императрицы, загадка дела Бродского и другие архивные находки
«Большая старая библиотека всегда предоставляет исследователю массу возможностей проявить свои таланты и заняться каким-нибудь изысканием. Обломки больших частных собраний, отдельные экземпляры книг с дарственными надписями и уникальными свидетельствами жизни их авторов или владельцев заставляют отправляться на поиски, в результате которых из незначительного факта может вырасти любопытная история, которую многие годы никто не вспоминал или вообще не слышал».
В старом здании библиотеки Московского университета на Моховой улице в специальной комнате есть одна небольшая рукописная книжечка. По формату она немногим меньше школьной тетради и, наверное, чуть толще дневника. В ней 58 листов хорошей голландской бумаги, исписанных очень мелким, но довольно легко читаемым почерком. На последнем листе можно прочесть, что рукопись была сделана 6 октября 1757 года в Санкт-Петербурге.
Первые 44 страницы рукописи занимает любовно-приключенческий роман «Селим и Дамасина» французской писательницы первой половины XVIII века Ле Живр де Ришбург, за ним следует выписка о бразильских алмазах, далее идет басня немецкого писателя Готлиба Вильгельма Рабенера, а затем — текст, который привлек мое внимание: он озаглавлен «Забавные часы господина Людвига и вици ардина». Это перевод произведения итальянского писателя XVI века Лодовико Гвиччардини (название следовало перевести как «Часы отдохновения») — сборника анекдотов, который был впервые издан в 1580-х годах, а затем неоднократно издавался в Европе на итальянском, немецком и французском языках. Жанр подобного рода исторических анекдотов был чрезвычайно популярен всегда, а в России XVIII века играл совершенно особенную роль.
Ни одно произведение Лодовико Гвиччардини никогда не издавалось по‑русски. Известны еще две рукописи с его анекдотами в переводе на русский язык. Но рукопись Московского университета самая ранняя из них, и в ней содержится указание, что текст Гвиччардини был переведен в Санкт‑Петербурге Василием Гриньковым в 1745 году. Этого имени не знает ни один из существующих справочников.
«А значит, предстояли поиски человека, который взял на себя труд познакомить российского читателя с образцом увеселительной европейской словесности тогда, когда переводы художественной литературы с европейских языков вообще были весьма малочисленными».
А вот о владельце и переписчике рукописи из Московского университета кое‑что известно, потому что на одном из форзацев книги он написал «Книжка прапорщика Семена Кублицкого 1757 году».
Скорее всего, тот, кто переписал текст, и тот, кто его перевел, должны были принадлежать к одному кругу. В таком случае можно было надеяться, что в архивах сохранились какие-нибудь сведения о присвоении прапорщику Кублицкому следующих офицерских чинов, что могло бы помочь отыскать Василия Гринькова.
Действительно, в Военно-историческом архиве в Москве удалось обнаружить, что чин прапорщика, в котором Семен Кублицкий переписывает нашу рукопись, он получил в июне 1757 года, перейдя в армию из гвардии. 25 апреля 1761 года он переведен в чин подпоручика Азовского драгунского полка. В документах Азовского драгунского полка Василия Гринькова обнаружено не было. Следовало проверить, не могли ли Гриньков и Кублицкий пересекаться до того, в гвардии. Всего в середине XVIII века гвардейских полков было четыре — Семеновский, Преображенский, Измайловский и лейб‑гвардии Конный полк. Семен Кублицкий обнаружился в Преображенском. Поступил он туда в 1752 году — и в это время Василий Гриньков там не числился.
К счастью, некий Василий Гриньков обнаружился в неполной картотеке Военно-исторического архива: в 1748 году он был секунд-майором в Воронежском мушкетерском полку, а в 1750-м был отправлен для рекреации домой и из полка выключен. Оставалось проверить, не числился ли он в Преображенском полку до 1748 года. И он действительно обнаружился в списках обер-офицеров, которые желали выйти в армейские полки.
Через некоторое время удалось проследить всю его военную карьеру. Он был дворянин, владетель ста крепостных душ в Белозерском и в Переславском уездах. Поступил на службу в солдаты лейб-гвардии Преображенского полка в 1728 году — а значит, родился между 1711 и 1715 годом. В чине подпоручика он перевел сочинение Гвиччардини. А потом перешел в штаб-офицеры армейского Воронежского полка, оставил службу — и след его затерялся.
Но, к счастью, не потерялся его перевод.
«Весьма вероятно, что среди офицеров, солдат и унтер-офицеров из дворян переведенные Гриньковым анекдоты переписывали, а имя переводчика сохранялось в памяти преображенцев и, таким образом, оказалось записанным в рукописи из Московского университета спустя 12 лет после перевода, когда, вероятно, сам переводчик уже тихо скончался в своем переславском или белозерском имении».
В послужном списке Гринькова ничто не свидетельствует о его доблестях, подвигах или каких-то исключительных талантах. Он ничем не примечательный русский дворянин второй четверти XVIII века. А значит, уже в первые годы царствования Елизаветы Петровны было довольно много молодых дворян, готовых переводить с европейских языков и переписывать переведенные тексты, не заботясь об ином вознаграждении, кроме благодарности читателей.
В 1744 году будущий император, а тогда великий князь и объявленный наследник Петр Федорович распорядился об учреждении в гвардейских полках школ для младших чинов, в которых учителя-иностранцы должны были обучать немецкому и французскому языку. По полкам было объявлено, что за успехи в учебе можно получить следующий чин вне очереди, а ленивые ученики, наоборот, могут расстаться с мечтами о продвижении по службе.
И вскоре — еще в отсутствие напечатанных романов — появляется множество самодеятельных переводов европейской беллетристики, которые расходятся в бесчисленном количестве списков. И уже вслед за ними появляются печатные романы, которые становятся обыкновенной частью российского культурного быта.
В мае 2014 года художественная группа «Длина волны» провела акцию, в результате которой на многих домах в Петербурге стали появляться фанерные доски, окрашенные золотой краской, с таким примерно текстом:
«В этом доме в 2009 году жила Ксения Димина. Она часто просыпала работу, потому что любила читать интернет-форумы по ночам, и в 2013 году она переехала на Гражданку, поближе к офису».
Акция получила довольно большой резонанс. Художники ставили вопрос о том, кто заслуживает мемориальной доски, о ком мы можем говорить как об исторической личности, а о ком не можем.
«Для историка литературы вопросы о том, какой человек заслуживает упоминания и памяти, очень важный, потому что история литературы складывается не только из больших и важных писателей, но и из того огромного фона, на котором они существуют. Для историка литературы часто бывает важнее узнать, кем был какой-нибудь студент, который напечатал одно стихотворение в журнале, чем крупный писатель, у которого в этом же журнале на соседних страницах располагается его важное произведение».
И поэтому очень часто историкам литературы приходится заниматься биографиями мелких писателей — и, в частности, писать о них в биографические словари. Слава богу, сейчас в России завершаются очень крупные проекты — это Словарь русских писателей XVIII века и словарь «Русские писатели. 1800–1917», в которых мне удалось поучаствовать.
Готовя статьи для этих словарей, я убедился, что иногда рассказывать о жизни писателя бывает значительно интереснее, чем читать его книги. Одним из самых ярких примеров тому является Николай Иванович Страхов. Скорее всего, это имя вам незнакомо, хотя ему посвящена отдельная статья в десятитомной истории русской литературы.
Николай Иванович Страхов родился примерно в 1768 году, скорее всего, в Москве. Мы ничего не знаем о его родителях и можем только предполагать, что он был дворянином по рождению, потому что в возрасте десяти лет его записали в Преображенский полк унтер-офицером. После этого, как водилось, он проходил службу, не являясь в полк, и впоследствии был выпущен уже сержантом из Измайловского полка.
Учился он в Московском университете и стал знаменит благодаря тому, что в конце 1780-х — начале 1790-х годов издал несколько сатирических журналов, которые пользовались огромным спросом: «Переписка моды», «Карманная книжка для приезжающих на зиму в Москву старичков и старушек» и «Сатирический вестник».
Вдруг в 1796 году, в двадцать восемь лет, он приезжает в Петербург и поступает на службу в финансовое ведомство, а через два года внезапно определяется директором шелковой мануфактуры на реке Ахтубе — это в районе Царицына (современный Волгоград). Потом он возвращается оттуда и так же внезапно становится приставом над калмыками (чиновник, присматривавший за калмыками от Российской империи, — довольно важный пост). Потом он со скандалом этот пост теряет, и после этого следы его вообще теряются.
Кто же такой вообще этот Страхов? Почему такой успех произведений — и потом внезапный отказ от писательства и какая-то очень странная служба?
«Разобраться в том, что собой представляла его жизнь, помогли архивные поиски. Первое, что я сделал, — это обратился к прекрасно сохранившемуся архиву Мануфактур-коллегии, к которой относился шелковый завод и которая должна была его туда определить. В архиве древних актов эти материалы сохранились. И просматривая их, я понял, что же с ним произошло, и вообще стало понятно, что собой представляла его карьера».
В 1796 году к власти приходит Павел I. Он решает отказаться от импорта и заместить его собственным производством, в том числе развивать шелководство. Тут же вспоминают, что где-то на Ахтубе были государственные шелковые заводы, решают, что нужно их возобновить, и начинают искать директора. Директор долго не находится — и тут в Мануфактур-коллегию приходит тетрадочка, переплетенная розовой ленточкой, где подробно рассказывается, как нужно ухаживать за шелковыми червями и делать из них шелк.
Большей частью этот текст представлял собой перевод из французской энциклопедии, Всеобщего толкового словаря естественной истории, а в конце этого произведения приводилось следующее соображение:
«Для начала над сими заведениями нужно выбрать человека опытного в сем искусстве и прочих науках. Основательный рассудок, примерная честность и бескорыстие, склонность к уединению, сельской жизни ручаются за успех, ибо для сего потребно не одно умение садить деревья и воспитывать червей, но собственная склонность, бескорыстие, напоследок честность и усердие, которые более вразумляют искусство, нежели ученость».
Мануфактур-коллегия оказалась впечатлена этим текстом, автором которого был Николай Страхов, его назначили директором и отправили на Ахтубу.
Но вместо того, чтобы заниматься шелководством, Страхов начал распоряжаться землями, принадлежащими заводу, и рассорился со всеми, кто его окружал. При этом с точки зрения шелководства служба его абсолютно не удалась: он продал шелка примерно на 200 рублей и насадил примерно десять тысяч черенков шелка, которые так и не взошли.
Он был уволен. Но при этом сумел отчитаться так, что его абсолютный административный провал превратился в достижение, — в его послужном списке мы читаем следующее:
«Быв директором шелководства на Ахтубе, обнаружил бесполезность оного под смотрением казенным и сим уберег правительству до 60000 р., ибо в случае утверждения казенных разведений шелковиц предполагаемо было построить казенный завод, стоящий 20000, и уволить приписанных к оному 6000 душ крестьян от разных податей и повинностей, простиравшихся до 37000 р. До времени же уничтожения казенного шелководства успел он преобразовать и усовершенствовать оное».
Дальше на протяжении многих лет его служба представляла собой аналогичные восхитительные заявки и блистательные отчеты. При этом через потора года после того, как он стал приставом над калмыками, против него было возбуждено уголовное дело: там брались взятки и были притеснения —и никаких особых улучшений ему добиться не удалось.
Потом он попал в другое ведомство, отвечал за архив внешней торговли, где тоже вместо того, чтобы заниматься разбором документов, писал всевозможные представления о том, как нужно развивать торговлю, захватывать Бухару и Хиву, и, конечно, о том, что этим должен заниматься такой замечательный человек, который знает, как все нужно делать.
В какой-то момент он опять подал прошение о том, чтобы его назначили в какое-то очередное предприятие, и написал, что если вы не согласны — можете меня уволить. И его уволили. На этом его карьера закончилась.
Он продолжал писать свои сочинения, характеризуя их как что-то, что должно принести счастье его родине, но отзывы на них получал примерно такие:
«Усердие г. Страхова к общей пользе достойно всякой похвалы; но время, употребленное для составления сего сочинения, можно считать безвозвратно потерянным, а самый труд его неблагодарным. Сочинение г. Страхова о холере, наполненное несообразными гипотетическими предположениями, ничем не доказанными, и наставлениями, вредными для народного здравия, по мнению Медицинского совета, не заслуживает внимания».
Последнее, что мы знаем о Страхове, — это что в 1845 году ему перестали платить пенсию как кавалеру ордена Святой Анны, потому что в течение двух лет никто за ней не обращался. Это означает, что он умер в одиночестве, без наследников, и никто не знает, чем он закончил.
Слухи о романе императрицы Елизаветы Алексеевны, жены императора Александра I, с кавалергардским офицером Охотниковым появились только в конце XIX века, когда об этом стал писать историк, великий князь Николай Михайлович Романов. В книге «Сборник биографий кавалергардов», которую он курировал, в связи с биографией Охотникова там сообщалось, что Охотников был влюблен в очень высокопоставленную даму. И деверь этой дамы, чтобы пресечь роман, подослал к Охотникову убийцу, который ударил его кинжалом при выходе из театра. Имена главных персонажей названы не были, но все догадывались, о ком идет речь. Позже Николай Михайлович написал целую книгу про Елизавету Алексеевну, но главу о романе с Охотниковым Николай II публиковать запретил.
«Тут вот что странно. До того, как Николай Михайлович начал об этом писать, никто из современников об этой истории не рассказывал. То, что они не рассказывали про роман императрицы, — неудивительно. Можно считать, что было очень мало посвященных в эту историю. Но мне, историку, давно занимающемуся этой эпохой, неизвестно ни одного случая, чтобы на офицера и аристократа кто-то напал на улице. Если бы такое случилось, даже ничего не знающие о подоплеке этой истории люди подняли бы страшный шум — просто потому, что это невероятное ЧП: на дворянина и офицера на улице не нападают и уж тем более не убивают его. Мы бы имели множество рассказов современников и обсуждений такой невероятной, чрезвычайной, жуткой истории. Но здесь — полная тишина, никто ничего об убийстве Охотникова не написал».
О самом романе до недавнего времени было известно всего три кратких свидетельства современников.
Во-первых, императрица Мария Федоровна, мать Александра I, уже сильно позже, задним числом, разоткровенничалась и сказала своему секретарю Вилламову, что у Елизаветы был роман, что этот молодой человек умер, Елизавета очень переживала и вторая дочь, рожденная Елизаветой, была не от Александра, а от этого любовника.
Во-вторых, когда Елизавета умерла — а умерла она 4 мая 1826 года в Белеве, по пути в Петербург из Таганрога, где умер Александр I, — в ее кабинете нашли спрятанную шкатулку, в которой были письма Охотникова, его портрет и кое‑какие реликвии, связанные с их с Охотниковым дочерью — например, локон волос. Николай I, который прежде ничего об этой истории не знал, посоветовавшись с матерью, решил все эти бумаги сжечь. Но предварительно показал письма Охотникова своей жене Александре Федоровне, которая написала об этом в своем дневнике, выписав несколько очень откровенных цитат.
Наконец, в-третьих, пушкинист Петр Бартенев тоже много лет спустя записал, что якобы на одном балу Елизавета Алексеевна приревновала Охотникова к молоденькой Наталье Загряжской.
Елизавета Алексеевна — урожденная принцесса Баденская — и Александр поженились почти детьми. Первые годы их брака были достаточно радужными, но дальше отношения постепенно расстроились. У Александра появилась Мария Нарышкина, с которой он поддерживал отношения полтора десятилетия. Елизавета оказалась практически оставленной мужем, детей у нее не было. Ее положение при дворе было странным: большинство церемониальных функций, которые должна выполнять царствующая императрица, осталось за императрицей-матерью. В значительной мере это соответствовало характеру Елизаветы: она была человеком скромным и замкнутым, вела уединенную жизнь, много читала, занималась музыкой. У нее был очень узкий круг приближенных людей, которые были к ней вхожи. И в этой тихой жизни ей было одиноко.
Мы не знаем точно, когда появился кавалергард. Но в Государственном архиве Российской Федерации нашелся маленький отрывок из дневника Елизаветы, освещающий период с начала 1803 года до начала 1804-го. Это несколько крохотных, очень плотно исписанных листочков. Может показаться, что это обычный дамский дневник, где она пишет, что была на прогулке, на балу или еще где-то. В действительности же она описывала там все ситуации, в которых имела возможность увидеть своего кавалергарда. Она отправляется на прогулку и издали видит его на улице. Он старается всюду попадаться ей на глаза. И в этом осторожном обмене взглядами и происходит все развитие отношений. Елизавета с очень большим целомудрием записывала все, что между ними происходило, очень точно и кратко фиксируя свои чувства.
В какой-то момент записи начинают приобретать трагический оттенок: с одной стороны, она понимает, что это чувство нужно пресекать, но ей трудно остаться в полной пустоте. С другой стороны, с зимы 1804 года она все реже видит Охотникова, до нее доходит известие, что он болеет.
В полковом архиве есть документы, свидетельствующие, что у Охотникова была чахотка. Уже летом 1805 года он просился на несколько месяцев в отпуск: у него были горловые кровотечения. И рядом с его могилой есть могила его старшего брата, который тоже умер примерно в том же возрасте, в 25 лет (в то время чахотка косила людей семьями). То есть никто Охотникова не убивал. Он умер от чахотки.
Их роман был очень коротким. Дневник обрывается еще на стадии обмена взглядами, так что мы не знаем точно, как он развивался. Но цитаты, которые выписала Александра Федоровна, не оставляют сомнения в том, что Охотников был любовником Елизаветы. Из них становится понятно, что он нашел способ залезать к ней в окно Каменноостровского дворца.
Елизавета родила второго ребенка в ноябре 1806 года. Это, видимо, была дочь Охотникова. А 30 января 1807 года он умер. Елизавета страшно переживала, совсем замкнулась и отстранилась от мира. Есть косвенные свидетельства, что, поняв, что она беременна не от мужа, Елизавета хотела уйти, но Александр ее отговорил. Он признал дочку и сделал вид, что все в порядке. Девочка прожила полтора года и тоже умерла.
В конце жизни у них с Александром возродились отношения. Именно из-за ее болезни он поехал в Таганрог: врачи сказали, что петербургскую зиму она не переживет.
«Чем особенно этот дневник увлекателен? Из той эпохи, первых лет XIX века, мы не знаем ни одного женского дневника, который бы так точно и с таким... да и вообще хоть как бы то ни было фиксировал развитие чувства. Эта история, записанная день за днем, у нас единственная. И поэтому она с очень многих точек зрения чрезвычайно увлекательна».
Весной 1964 года поэта Иосифа Бродского выслали из Ленинграда как тунеядца. О Бродском хлопотали его защитники, литераторы и родственники. В самиздате ходила составленная Фридой Вигдоровой стенограмма судебного заседания. В целом, характер этого дела понятен: советская власть расправилась с неугодным поэтом, использовав принятый тогда указ о тунеядцах как один из способов борьбы с инакомыслящими. Впоследствии этот способ больше не использовался — судя по всему, попытка была сочтена не совсем успешной.
До недавнего времени практически все, что мы знали об этом громком деле, — это были рассказы защитников и друзей Бродского и стенограмма Вигдоровой. Ни одной официальной бумаги, написанной в связи с этим делом, до сих пор известно не было. Их и не должно было быть: дело по тунеядству — мелкое административное дело. Оно не предполагает предварительного следствия, прокурорского надзора, дело ведется районным судом. И постоянному хранению в архиве такие дела не подлежат — его должны были хранить в архиве районного суда лет пятнадцать, после чего сдать в макулатуру.
«Но нам удалось обнаружить дело о Бродском в том месте, где его быть не должно: в архивном фонде отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности, или, в просторечии, отдела по спецделам прокуратуры СССР. То есть в высшей прокуратуре союзного уровня».
Это очень странно: дела о тунеядцах — вообще не компетенция КГБ и союзной прокуратуры. Оно рассматривалось районным судом Ленинграда — то есть соответствующее надзорное дело должно было быть в районной или максимум городской Ленинградской прокуратуре.
Первый документ в этом деле — это письмо из ЦК КПСС, подписанное Николаем Романовичем Мироновым, заведующим отделом административных органов ЦК, который курировал все силовые и правовые структуры.
29 февраля 1964 года, еще до вынесения приговора по делу Бродского, Миронов пишет Генеральному прокурору Руденко:
«Направляю вам письма авторитетных товарищей, которые ответственно утверждают о беззаконии, допущенном в Ленинграде в отношении 22-летнего поэта и переводчика Бродского. Просим вас это дело проверить, принять необходимые меры и информировать авторов писем и отдел ЦК КПСС».
Вроде бы все понятно: защитники Бродского дошли до Миронова. Миронов формально распорядился разобраться и спустил это дело в прокуратуру. Тогда союзная прокуратура затребовала материалы по делу Бродского и получила из Ленинграда кое-какие официальные бумаги — в том числе справку из Ленинградского Союза писателей, направленную против Бродского, справку из Управления КГБ по Ленинграду и письмо в защиту Бродского. Для проверки в Ленинград был командирован сотрудник прокуратуры РСФСР.
В результате 12 марта прокуратура отчиталась Миронову, что с делом Бродского все в порядке, Бродский правильно привлечен к ответственности как тунеядец, и 13 марта районный суд города Ленинграда выносит приговор: выселить Бродского из Ленинграда сроком на пять лет. Тут вроде бы все совершенно понятно и предсказуемо.
Но через полгода в деле вдруг наступает перелом. Николай Романович Миронов, которого полгода назад вполне удовлетворила отписка из прокуратуры, 3 октября подает в ЦК КПСС докладную записку, что ленинградская писательница Грудинина просит пересмотреть дело Иосифа Бродского. Она утверждает, что материалы этого дела сфальсифицированы, а приговор народного суда о выселении Бродского как тунеядца является грубым нарушением законности. Несколько ранее с заявлениями о необоснованном привлечении Бродского к ответственности обращались в ЦК КПСС и другие писатели.
С этого момента тональность всех резолюций как Миронова, так и высших чинов прокуратуры резко меняется. Первый заместитель Генерального прокурора СССР Михаил Маляров 10 октября запрашивает у помощника Генерального прокурора Леонида Седова материалы по делу Бродского. Седов на полях записки пишет, что материалов по этому делу у них нет. Они спешно запрашивают материалы, даже отправляют запрос в Архангельскую область. То есть все неожиданно забегали. Что-то должно было случиться.
Что же, собственно, произошло, почему заведующий отделом административных органов ЦК вдруг вернулся к этому вопросу?
«Грудинина рассказывала, что она где-то в этих числах до Миронова дозвонилась и сумела его пронять каким-то ехидным замечанием. Но как-то трудно поверить, что этого было достаточно, чтобы такой крупный чиновник вдруг обеспокоился судьбой молодого дарования. И тем более в первых числах октября 1964 года. Потому что в середине этого месяца Пленумом ЦК КПСС Хрущев был снят с должности. А координировал заговор против Хрущева как раз Николай Романович Миронов. То есть в первых числах октября он был вообще-то очень занят и теоретически ему должно было быть не до Бродского. Я полагаю, что стремление пересмотреть дело Бродского каким-то образом было связано с подготовкой Пленума ЦК КПСС, на котором должны были снять Хрущева. Видимо, это был способ заставить нервничать ленинградское партийное руководство, способ давления на них, чтобы они на Пленуме проголосовали правильно».
Через несколько дней после Пленума Николай Романович Миронов погиб в авиакатастрофе, а дело, будучи запущенным, дальше по законам бюрократического жанра раскручивалось уже само.
Для пересмотра любого дела существует предусмотренный законом порядок: прокуратура подает апелляцию в суд следующей инстанции, то есть в данном случае в Ленинградский городской суд, дальше, если нужно, в следующую инстанцию. Начав действовать через ЦК КПСС, они этот нормальный порядок нарушили. Вместо нормального прокурорского пересмотра ради дела Бродского была создана Межведомственная комиссия, в которую вошли три очень высоких чина: от Верховного суда, Прокуратуры и КГБ, и все союзного, а не республиканского уровня. Эта комиссия отправилась в Ленинград и провела там серию бесед со всеми причастными к делу Бродского. Вся ленинградская партийная верхушка — руководство КГБ, городское начальство — уперлись намертво, утверждая, что Бродский был осужден правильно.
«Я хочу сказать, что я просматривала тысячи дел прокуратуры СССР. И вот это дело — единственное с такими аномальными отклонениями от обычной процедуры течения делопроизводственного процесса».
Это надзорное дело вел старший советник юстиции Шарутин, сотрудник отдела по спецделам прокуратуры СССР. В своем заключении он написал, что суд был скорый, тенденциозный и необъективный, ряд вопросов, имеющих большое значение для принятия решения, остались невыясненными, и «по делу должен быть принесен протест на предмет отмены постановления нарсуда по делу Бродского».
Параллельно члены комиссии, работавшей в Ленинграде, составили свое заключение, сходное с теми выводами, к которым пришел Шарутин. 7 декабря они подали докладную записку руководителям всех трех ведомств — Генпрокуратуры, КГБ СССР и Верховного суда. А затем на основании этой справки, за подписью уже начальников ведомств, была написана докладная в ЦК.
«Документ, надо сказать, совершенно поразительный, потому что мы как исследователи никогда не сможем составить настолько исчерпывающего, детального, аргументированного изложения того, почему Бродский был осужден неправомерно и сколько советских законов было при этом нарушено».
Уже знакомый нам Шарутин из Генеральной прокуратуры написал с пометкой «Срочно» прокурору города Ленинграда Соловьеву письмо с просьбой поддержать протест в судебном заседании. 16 января 1965 года прокурор Соловьев действительно присутствовал на заседании суда, но гордый и независимый Ленинградский городской суд отклонил протест Генеральной прокуратуры и заявил, что Бродский осужден обоснованно и приговор должен остаться в силе.
15 февраля Маляров, который должен был прийти в ярость, теперь уже за своей подписью подает протест в Верховный суд РСФСР. Дальше решался вопрос о том, отменить ли приговор вообще или снизить срок до уже реально отбытого — то есть дать ли ленинградской власти возможность сохранить лицо или прямо объявить дело неправомерным.
Наконец 4 сентября 1965 года суд удовлетворил протест прокуратуры по делу Бродского, а срок его высылки сократил до одного года и пяти месяцев, то есть до фактического. Бродский вышел на свободу — и, наверное, так никогда и не узнал, какая битва бюрократических гигантов разыгрывалась на фоне его дела.
«На самом деле для нас это все тоже странно и удивительно, потому что мы очень плохо представляем себе эти закулисные процессы, которые происходили внутри советской власти. На самом деле все было не так просто. Из Москвы не могут цыкнуть и сказать ленинградскому партийному руководству: „Прекратите это безобразие“. Они ищут сложных обходных путей, интригуют, пользуются этим делом, видимо, для решения каких-то своих бюрократических и внутривластных нужд, потому что совершенно ясно, что сам по себе Бродский никого из этих людей не волновал — их волновали вопросы перераспределения власти.
Дело Бродского нам приоткрывает то, что мы знаем очень плохо. И то, что, в принципе, наверное, составляет дальнейшие задачи исторической науки».

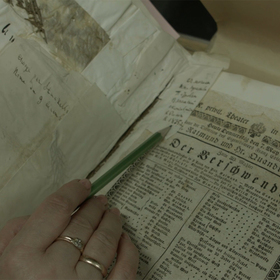
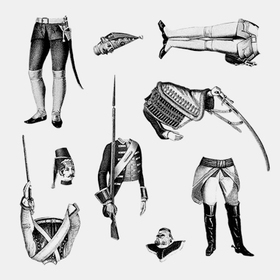











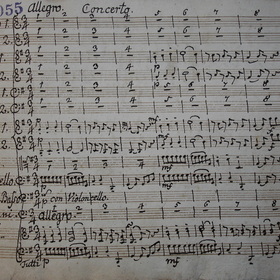
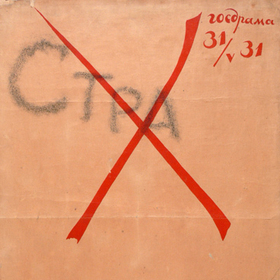




Василий Гриньков переводит «Забавные часы» Лодовико Гвиччардини
На престол восходит Петр III; спустя полгода его свергает его жена, императрица Екатерина II
На престол восходит Павел I
Николай Иванович Страхов уволен с поста директора Ахтубинского шелковичного завода
Павел I убит, на престоле — его сын Александр I
Императрица Елизавета Алексеевна ведет дневник, в котором описывает свои чувства к кавалергарду Алексею Охотникову
Александр I умирает в Таганроге
Генрих Ягода арестован.
Александр Афиногенов, ожидая своего ареста, пишет диалог «Я» и «Следователь» — свой самодопрос
Заведующий отделом административных органов ЦК Николай Миронов инициирует проверку по делу Бродского.
Никита Хрущев освобожден от всех постов

Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости