Социология как наука о здравом смысле
- 7 лекций
- 10 материалов
Секс, наркотики и
Секс, наркотики и
Знаменитый французский социолог Пьер Бурдьё любил говорить, что социология — это боевое искусство, которое помогает защищаться от несвободы, от несправедливости. В мире, где мы живем сегодня, основным источником несвободы для нас является не
Мифы о социологии — это хорошо знакомые нам представления. Если выйти на улицу и спросить людей о том, что такое социология, то, скорее всего, девять из десяти ответят, что социология — это наука об обществе, а социолог — это человек, который ходит с анкетой, придумывает вопросы и задает их людям. Но если социология — это наука об обществе, то почему мы ищем это самое общество в разговорах с отдельными людьми?
Карл Маркс
Дюркгейм полагал, что именно таким образом можно обосновать необходимость социологии как самостоятельной дисциплины. В начале XX века, когда он пытался это сделать, социология все еще находилась под сильным влиянием и в тени психологии, которая занималась индивидуальными сознаниями и внутренней жизнью отдельного человека. Дюркгейму было принципиально показать, что социология не может быть редуцирована до жизни отдельных людей, что общество — это самостоятельная реальность. Это можно было показать, продемонстрировав, что общество обладает собственной принудительной силой, оно может заставить отдельных индивидов делать
Дюркгейм выбрал довольно будоражащий пример. Впрочем, этот пример был в то время на слуху у многих. Он взял за основу статистику самоубийств и попытался показать, что самоубийство вызвано исключительно социальными причинами. Последовательно разбирая все возможные факторы (климатические, географические, психологические), Дюркгейм пришел к тому, что самоубийство — это поведение человека, которое обусловлено состоянием общества. Он выделил разные типы самоубийств и показал, что в зависимости от состояния общества большее распространение имеет тот или иной тип. Для Дюркгейма это было доказательством того, что социология имеет дело с реальностью, которая может причинять самостоятельное воздействие и действует независимо от нашего желания.
Мы привыкли думать, что общество существует вне нас, что это
Именно таким является решение о самоубийстве. Одновременно это самое важное решение, которое человек принимает в своей жизни, — решение от этой жизни избавиться. Показав, что самое важное решение в жизни человека находится под влиянием социальных факторов, Дюркгейм тем самым продемонстрировал, что у социологии есть свой собственный предмет и этот предмет не сводится к отдельным индивидам. Иными словами, общество нельзя свести к отдельным индивидам и оно не является их суммой, хотя и показывается нам через этих индивидов.
Другой классический теоретик социологии, человек, который сделал очень много для ее становления в Германии, Георг Зиммель говорил, что в обществе индивиды одновременно частично обобществлены и частично не обобществлены. Обобществленная часть никогда не является исчерпывающей: в индивиде всегда есть что-то еще, не попадающее в общество и остающееся вне его границ. Но общество — это та часть индивида, которая обобществлена, которая вовлекается во взаимодействие.
Если мы подумаем о том, как работают наши вопросы к людям на улице, то никогда не сможем сказать, к кому мы обращаемся. Мы обращаемся к той части, которая обобществлена, — или мы обращаемся к той части, которая остается вне общества? Иными словами, доступ к обществу не может быть таким простым, как кажется. И вопрос, который здесь возникает, — как мы, собственно говоря, можем фиксировать социальность человека? Через что она может быть нам явлена, как мы можем ее наблюдать? В чем проявляется социальная природа человека?
Например, еще один классик социологии Макс Вебер говорил о том, что предметом социологии является смысл социального действия. Что это значит? Ведь любые науки о человеке так или иначе занимаются поведением людей. Но далеко не всякое поведение человека — это поведение осмысленное. Классический пример: вы сидите у невропатолога, он бьет молоточком вам по коленке и в ответ получает от вас некоторое поведение. Это поведение не является действием: вы не вносили в него никакого смысла, никакого содержания. В то же время поведение, с которым вы связываете смысл, — это действие. Но далеко не все действия являются социальными, а только те из них, которые по своему смыслу ориентированы на другого человека. И задача социологии, с точки зрения Вебера, состоит в том, чтобы понять содержание, которое стоит за такими социальными действиями.
Конечно, опрос как метод социологического исследования вполне распространен. И сама по себе идея общаться с людьми, задавать им вопросы — это неотъемлемая особенность социологии: социология не может существовать, если ей не интересны другие люди. Но полагать, что, задавая
Так получилось, что социологию обыденным образом связывают с опросами общественного мнения. Не то чтобы это было совсем неверно, но если мы посмотрим на то, как возникали опросы общественного мнения, то увидим, во-первых, что они возникли несколько позже, чем социология (по крайней мере в том виде, в котором мы их знаем сегодня), а во-вторых, что отношения между опросами общественного мнения и социологией всегда оставались довольно напряженными.
Причина в том, что сама идея общественного мнения таит в себе известные противоречия. Мы уже говорили о том, что понятие общества можно определять
Один из основателей социологии Фердинанд Тённис именно эту ситуацию и называет термином «общество», считая, что общество как способ ассоциации людей появляется относительно поздно, что общество не существовало всегда. Тённис называет обществом некоторый особый способ взаимодействия людей, при котором они остаются совершенно независимыми друг от друга и вступают в контакт только по мере необходимости, если им нужно заключить друг с другом
Теперь вернемся к общественному мнению. По словам Тённиса, мы можем говорить об общественном мнении, с одной стороны, как о наборе индивидуальных высказываний, а с другой стороны — как о согласованном мнении всего общества. Но может ли иметь единое мнение все общество, понятое именно как просто случайное собрание отдельных индивидов, не связанных друг с другом? Это похоже на ситуацию в парламенте, когда есть либо разноголосица мнений, либо единая согласованная позиция всего парламента. Для Тённиса было большим вопросом, возможно ли второе.
В начале 1920-х годов Тённис и американский теоретик Уолтер Липпман одновременно, не сговариваясь, написали книги об общественном мнении. В своих книгах они примерно с одинаковых позиций критиковали идею общественного мнения — идею о том, что не связанные друг с другом, потерявшие что-либо общее друг с другом индивиды могут, собираясь вместе, иметь
Однако идея общественного мнения и опросы общественного мнения вошли в политическую жизнь западного мира прочно и надолго — и, в общем, без особого участия самих социологов. Еще в XIX веке в Америке существовала практика опросов, которые проводились крупными газетами. Газеты рассылали своим читателям анкеты и получали от них реакцию, которую потом публиковали в следующих номерах. Эта практика носила название «соломенных опросов», особенно в тех случаях, когда с помощью нее пытались предсказывать
Журнал The Literary Digest снискал себе славу наиболее успешного в деле таких «соломенных опросов». Он действительно был необыкновенно удачлив в предсказании результатов президентских выборов в начале XX века. Журнал был очень популярным, отправлял своим читателям анкеты, получал большое количество ответов и с их помощью мог предсказывать результаты выборов. К 1920-м годам количество отосланных анкет превышало уже несколько миллионов.
Все шло хорошо до 1936 года, пока предсказание The Literary Digest, основанное на их методе «соломенного опроса», не провалилось. Это были важные выборы — первые выборы, на которых пытался переизбраться Франклин Делано Рузвельт. The Literary Digest предсказывал Рузвельту поражение: считалось, что гонку с большим отрывом выиграет Альфред Лэндон.
На этих выборах у The Literary Digest появился конкурент. Им был человек по имени Джордж Гэллап, который представил совершенно другую методику предсказания результатов выборов. Гэллап предложил построить модель избирателей Америки и, изучив эту модель, предсказать результат. Используя техники, которые существовали вне социологии, но были хорошо известны в статистике, Гэллап создал фактически первую — или, по крайней мере, первую знаменитую — репрезентативную социологическую выборку. Репрезентативную в том смысле, что она представляла все население США. Это была модель, которая хорошо отражала моделируемый ею объект. Идея состояла в том, что если мы случайным образом будем выбирать из совокупности всех избирателей людей, которые могут нам ответить, то мы тем самым получим идеальную модель, в которой, как в капле воды, отразятся предпочтения американских избирателей.
Эта система сработала, Гэллапу удалось предсказать результат выборов — Рузвельт выиграл с большим отрывом. Для опросов это означало настоящую революцию: стало понятно, что репрезентация всего населения практически не зависит от числа отправленных анкет. В сравнении с миллионами анкет The Literary Digest, Гэллап обходился выборкой в 50 тысяч человек. Поэтому сегодня, когда мы слышим, что тот или иной опрос был проведен по огромной выборке, это еще ничего не говорит о том, насколько хорошо он представляет ту совокупность, которая при этом изучается.
Гэллап был либерал-демократом по своим убеждениям и полагал, что опросы, которые теперь стало проводить невероятно легко и которые проводятся по этой случайной, репрезентирующей все население выборке, — это отличный механизм для того, чтобы постоянно сообщать политикам о мнении народа и в то же время давать им возможность постоянно следить за народом.
Эта технология работала и работает достаточно неплохо, но возражения, которые имели по отношению к ней социологи, никуда не делись. С возражениями, которые существовали по поводу самого понятия общественного мнения, ничего не произошло: они остаются верными, по крайней мере осмысленными.
Сегодня значимость этих возражений можно легко распознать в том факте, что доля людей, которые готовы отвечать на опросы общественного мнения, неуклонно снижается практически во всех странах. Для разных видов опросов она разная, но для телефонных опросов она может не превышать 20–30% от всех, кому мы пытаемся дозвониться, — как в Америке, так и в России.
Вспомним предупреждение Тённиса или Липпмана: это означает, что мы на самом деле имеем некоторый случайный набор
Порой мы задумываемся о том, откуда вообще берется общество, зачем люди начинают взаимодействовать друг с другом. Наиболее очевидной кажется мысль, что человек в одиночку не может справиться с обслуживанием своих потребностей, которые к тому же имеют обыкновение беспредельно увеличиваться. Если бы каждый из нас мог справиться со своими потребностями в одиночку, мог прожить один, мог самостоятельно брать от природы все, что ему нужно, то у него, должно быть, не было бы никакой потребности взаимодействовать с другими. Должно быть, он справился бы и без них. И если он и приходит к другим, то, как правило, чтобы удовлетворить свои потребности, с которыми он не может справиться в одиночку, и, соответственно, предложить в обмен то же самое — свои услуги в удовлетворении их потребностей.
Таким образом было принято смотреть на происхождение человека довольно долгое время среди определенных частей европейского общества — скажем, в XIX веке. Считалось, что если мы найдем
Такая модель человека, которой оперировали и во многом оперируют до сих пор главным образом экономисты, была долгое время господствующей в социальной мысли. Эта модель предполагала определенный взгляд на то, как человек был устроен с самого начала, на то, как устроен, если угодно, дикарь. Именно с этим был связан интерес, который проявился к дикарям в начале XX века. Исследования «первобытных обществ», как это тогда называлось, начались в первые десятилетия XX века. И когда эти исследования были реализованы по новой антропологической методологии, они дали довольно интересные результаты.
Основателем современной антропологии как дисциплины считается британский ученый Бронислав Малиновский, который провел в общей сложности несколько лет с жителями Тробрианских островов в Меланезии. Когда он приехал в Меланезию и начал проверять модель, которую я изложил выше, то обнаружил совершенно удивительные вещи.
Малиновский обнаружил, что среди жителей Тробрианских островов процветала странная система обмена предметами. Острова, на которые он попал, можно было схематично изобразить в виде кольца. И по этому кольцу в одну сторону перемещались браслеты, а в другую сторону — ожерелья. Причем браслеты могли обмениваться только на ожерелья, чему Малиновский был несколько удивлен. Поначалу он подумал, что это украшения, но позже понял, что часто их бывает неудобно носить и как украшения эти предметы используются крайне редко, только на
Дальше он заметил еще более удивительные вещи. Давайте подумаем, как мы относимся к украшениям: нам тоже часто хочется получить украшение, и если мы получаем его, то дорожим им и, в самом деле, будем надевать на
Но это было еще не все. Через некоторое время Малиновский обнаружил, что принципы, по которым передаются эти браслеты и ожерелья, совершенно не напоминают те принципы, по которым мы привыкли передавать друг другу предметы. Например, выяснилось, что ни один из этих предметов не имеет непосредственной цены, измеренной в других предметах. Каждый из них всегда передается дальше безвозмездно. Но при этом тот, кто его передает, ожидает ответного действия через некоторое время.
Все это напоминает модель дарообмена, ту модель, по которой мы сегодня дарим друг другу подарки. В самом деле, когда мы приходим друг к другу на день рождения, мы дарим
Итак, Малиновский обнаружил, что система обмена браслетов и ожерелий функционирует по правилам дарообмена. Это не означает, что вообще весь обмен между жителями Тробрианских островов устроен таким образом. Не совсем. Жители одних островов могут везти на другие острова предметы, которых на этих островах нет, — иными словами, люди могут давать соседу то, чего у него нет, в обмен на то, что есть у соседа, но чего нет у тебя. Это так называемый утилитарный, бартерный обмен. Малиновский, однако, заметил и то, что бартерный обмен оказывается по своему смыслу полностью подчинен тому большому дарообмену, о котором я говорил выше, и осуществляется только в связи с ним.
Вся жизнь жителей Тробрианских островов так или иначе подчинена этому большому дарообмену и структурируется под его воздействием. Они перемещаются с острова на остров в ходе специально подготовленных экспедиций, которые планируются несколько месяцев. Они готовят лодки, собирают урожай, произносят определенные заклинания. Каждый из них думает о том, какие предметы он хотел бы получить в подарок от того, кого он будет одаривать. У всех этих предметов, как правило, есть своя собственная история, и одни из них ценятся гораздо больше других.
Что же касается утилитарного обмена, то он происходит параллельно с этим дарообменом, но, конечно, занимает гораздо меньшее место в жизни тробрианцев. Более того, тот, кто является моим партнером по дарообмену, не должен быть моим партнером по утилитарному обмену. И в самом деле, если мы посмотрим на то, как устроена наша жизнь, то увидим, что мы редко входим в коммерческие отношения с тем, с кем мы обмениваемся дарами. Если человек является нам
Это открытие позволило поставить под сомнение модель человека экономического, человека эгоистичного и руководствующегося соображениями собственной выгоды. Выяснилось, что человек устроен гораздо более сложно и более социально. Малиновский писал, что человек не является ни эгоистом, ни альтруистом. Не стоит думать, будто первобытные люди, дикари, пытаются отдать все другому, вовсе не думая о себе. Ничего подобного. Каждый из них вполне себе думает о собственных интересах, но эти собственные интересы связаны с принципами щедрости, дарения, с обязательством отдавать как можно больше и за счет этого поднимать свой собственный статус. Недаром вожди (или бигмены, если говорить более точно, то есть наиболее статусные люди в этих сообществах) — это как раз те, кто больше всего дарит. У них больше всего имущества, но они и наиболее свободно с ним расстаются. Они готовы раздарить все что угодно, и именно поэтому у них такое большое количество партнеров по дарообмену, и именно поэтому к ним приходит такое большое количество ценностей.
Другой ключевой персонаж для антропологии и социологии, французский ученый Марсель Мосс хотя и не осуществлял сбора материалов в первобытных обществах самостоятельно, но написал важное произведение, которое подводило итог череде исследований первобытных обществ. Мосс написал так называемый «Очерк о даре», в котором сформулировал основные принципы экономики дарообмена. Первый принцип — ты обязан дарить. Второй принцип — ты обязан принимать. И третий принцип — ты обязан отдаривать. Эти три принципа образуют систему правил, за счет которых люди оказываются связаны друг с другом. И именно эти принципы, принципы дарения являются основополагающими для экономических отношений, а вовсе не принципы максимизации собственной выгоды.
В результате мы получаем модель человека, который вовлекается в отношения с людьми в связи с тем, что ему совершенно необходимы другие, чтобы быть партнерами по этому дарообмену, а также быть теми, кто сможет признать его статус, увидеть его щедрость, эту щедрость оценить и адекватно вознаградить. Что же касается тех потребностей, которыми обладают люди, то они являются вторичными по отношению к этой системе дарообмена.
Мосс показал это на институте потлача, который антропологи фиксировали преимущественно у индейцев, однако эквивалент этого института можно было наблюдать в разных частях мира. Потлач — это обряд, в ходе которого происходит взаимное одаривание между двумя кланами, которые тесно связанны или родственны друг другу, но в то же время находятся в отношении соперничества. К этому регулярно случающемуся обряду приурочены празднества, пиры и прочие церемонии, и в ходе потлача стороны как будто бы состязаются друг с другом в объеме благ, которые они готовы подарить.
Это состязание доходит до такой стадии, в которой они готовы не просто одаривать друг друга предметами, но и уничтожать их, показывая тем самым, что предметы им вовсе не дороги и они вполне способны обходиться и без них. Потлач имеет обыкновение заканчиваться церемонией истребления благ, в ходе которой каждый клан пытается показать другому, что он более независим от тех вещей, которыми обладает, и готов отдать все что угодно.
Потлач служит для Мосса примером того, что человек не стремится накапливать блага, использовать их себе на пользу, что любое благо, любая вещь обретает свой смысл исключительно в контексте взаимоотношений между одним человеком и другим, между одним кланом и другим.
У науки — и у социологии в частности — довольно сложные отношения с религией. Люди часто думают, что наука противостоит и враждебна религии — и социология в том числе. С одной стороны, часто предполагается, что религия — это
Пожалуй, наиболее очевидный случай такого напряжения в последнее время — это споры между дарвинистами и креационистами, возобновившиеся с новой силой в разных странах, в том числе и в России. Оба лагеря настроены по отношению друг к другу совершенно непримиримо, а на кону стоит то, чему мы должны учить детей, то, как должна выглядеть программа образования, например в школах.
Предполагается, что социология как наука выступает в этой борьбе на стороне ученых и в этом смысле противопоставлена религии. Интересно, что в период, когда социология возникала, у нее было довольно много пересечений с религией, хотя отношения всегда были непростыми.
Основатель социологии, человек, который придумал само слово «социология», французский философ и общественный деятель Огюст Конт поначалу был настроен к религии весьма скептически. Будучи основателем социологии, Конт в то же время является основоположником весьма влиятельной философской доктрины, которая называется позитивизм. Позитивизм — это доктрина, которая защищает науку против предрассудков, которая пытается отграничить область науки от всего, что нельзя узнать, проверить, понять и объяснить научными методами. В этом смысле позитивизм исходно был противопоставлен религии.
Но интересным образом к концу своей жизни Конт пришел к тому, что позитивизм может лечь в основу новой религии, которую Конт называл религией человечества. Поначалу наука выглядела для него агентом освобождения, силой, которая освобождает человека от пут традиций и предрассудков. Но через некоторое время он понял, что, хотя все это так, необходимо некоторое основание, которое, в принципе, можно считать религиозным, для того чтобы люди поверили в науку, в прогресс от религии к науке. И Конт создал свою «религию человечества». Она была не то чтобы очень популярной, хотя в Англии некоторое время у нее было довольно много последователей. Тем не менее сама попытка показательна.
Пожалуй, наиболее влиятельной эта религия оказалась в Бразилии. Бразилия — страна, которая, может быть, испытала наибольшее влияние Конта. Если вы посмотрите на флаг Бразилии, то увидите на нем слова «Порядок и прогресс» — это кусок из знаменитого изречения Конта: «Любовь как принцип, порядок как основа, прогресс как цель». В Бразилии долгое время существовала и до сих пор существует позитивистская церковь, задуманная исходно Контом, хотя сегодня она не столь преуспевает.
Таким образом, социология со своей верой в силу науки и со своим пониманием общества как важнейшего объекта исследования — пониманием, заложенным как раз Контом, — всегда имела некоторое религиозное основание. А для Конта социология была царицей наук, которая изучает самый сложный предмет и поэтому хронологически возникает последней.
Обычно предполагается (по крайней мере на протяжении XIX века предполагалось), что религия и наука — это два разных способа познания окружающего мира, просто наука является более прогрессивным. Но на самом деле в этом разделении религии и науки есть довольно спорные элементы.
Если обобщать множество теорий, которые пытались объяснить прогресс в познании мира, то, как правило, мы получаем следующую схему. На начальном этапе познания, когда человек начинает интересоваться тем, что его окружает, начинает интересоваться, почему мир устроен так, а не иначе и как ему с этим миром обращаться, то он пытается мыслить «магически». За всеми объектами, которые его окружают, он пытается видеть самостоятельные начала, которые
Религия в этой схеме возникает позже, чем «магия», благодаря тому, что человек учится создавать некоторые абстракции. Теперь у него вместо отдельных духов — духа дерева, духа дождя, духа урожая — за устройством мира стоят некие абстрактные силы. И обычно считается, что их число со временем должно уменьшаться. Поначалу это политеизм, множественность абстрактных сил, а потом потихонечку возникает движение в сторону монотеизма, одной движущей силы. И с этой силой уже не так легко договориться. Хотя, в принципе, если мы можем найти к ней доступ, то все же можем повлиять на свою судьбу — путем некоторых переговоров с этой силой, послушания ей или ублажения ее.
А наука в этой схеме является заключительным этапом развития наших познавательных способностей, и она знаменует собой этап, когда мы переходим к пониманию мира, лишенного какого-либо источника, с которым можно было бы
В этой схеме, которой руководствовался в том числе и Конт, наука и религия противопоставлены друг другу именно по этому познавательному основанию. Но разве религия — это только способ познания мира? Ведь если мы посмотрим на людей верующих, то увидим, что для них характерно многое другое: совместные молитвы, ритуалы, разные виды регулярного поведения, особые эмоции, которые они испытывают в особых случаях, причем испытывают вместе. Для них характерна также сложная символика, сложный набор символов и знаков, с помощью которых они размечают для себя мир. Как быть с этими элементами религиозного опыта, если мы концентрируемся только на познавательной стороне религии? И, наоборот, если мы не хотим концентрироваться только на познавательной стороне, то как нам определить религию последовательным образом?
Одну из наиболее интересных и влиятельных идей по этому поводу высказал французский социолог Эмиль Дюркгейм в начале XX века. С точки зрения Дюркгейма, самое главное, что мы можем сказать про все элементы религии, состоит в том, что религия упорядочивает нашу жизнь, она вносит в нее некоторую стройность. Это верно как в отношении символического элемента, так и в отношении эмоционального, и в отношении познавательного элемента тоже. Раз она вносит стройность и порядок, то этот порядок противостоит некоторому хаосу.
Иными словами, с точки зрения Дюркгейма, сама суть религии состоит в том, что если бы она не вносила порядок в нашу жизнь, нас окружал бы сплошной хаос, мы не могли бы отличать хорошие вещи от плохих, достойное от недостойного, у нас вообще не было бы никакого способа
Если посмотреть на любую религию, то она в своем основании действительно имеет выделение некоторых сакральных вещей. И самое важное, что мы обязаны постоянно придерживаться этого разделения, мы не можем смешивать вещи сакральные с вещами профанными и все время должны помнить о том, что между ними есть граница. Совершенно очевидно, что мы не можем просто так прикасаться к святыням, переходить ряд границ в священных местах или границ священных объектов. Мы не можем просто так употреблять в разговоре слова, которые являются священными, даже переходить к темам, которые являются священными.
Если подумать об этом определении религии и попытаться развить его, то выяснится, что разделение на сакральные и профанные вещи, это базовое религиозное разделение, актуально не только для тех обществ или тех людей, которых мы привыкли называть религиозными. На самом деле это разделение характерно абсолютно для всех нас. И мы все принимаем в нем некоторое участие, независимо от того, считаем мы себя людьми религиозными или нет. Например, есть ряд вещей, которые мы никогда не будем есть, хотя знаем, что они, в принципе, могли бы быть съедобными, и на свете существуют люди, которые готовы их есть. Мы так или иначе имеем
Наконец, самый очевидный опыт — мы все участвуем в праздниках. Праздник — это не что иное, как ситуация, в которой для некоторого сообщества актуализируется и воспроизводится сакральное, в которой все члены этого сообщества чувствуют себя причастными к чему-то сакральному, чувствуют, что переходят границу между профанным и сакральным. Праздники противопоставлены некоей обыденной, профанной жизни, для них характерно почитание определенных символов, коллективные действа, способы поведения, которые в обычной жизни были бы неприемлемыми, карнавальность, избыток. Например, в праздники мы привыкли позволять себе лишнего или устраивать пир на весь мир. Праздники обозначают воспроизводство сакрального в нашей жизни. И поскольку все мы так или иначе участвуем в тех или иных празднествах, причастны к тем или иным ритуальным празднованиям, то границы между сакральным и профанным воспроизводятся всеми нами совместно.
Казалось бы, социология ничего не может сказать о происхождении нашего знания. Социология способна объяснять, откуда берется наше мнение, наше представление, почему люди верят в те, а не другие вещи, — но разве может социология
Давайте подумаем, как устроена такая модель знания. Во-первых, она является кумулятивной, то есть знание понемногу накапливается.
Долгое время казалось, что социология не имеет никакого отношения к знаниям и ей здесь нет места. На вопрос, каким образом устроено это познание, всегда отвечала философия науки. И самое главное, что случилось в философии науки в середине XX века, — это переход от верификационистской парадигмы к фальсификационистской. Верификационизм — это теория познания, которая предполагает, что мы высказываем наши гипотезы относительно того, как устроен мир вокруг, а дальше ставим эксперимент и верифицируем эти гипотезы, иначе говоря, проверяем. Мы всегда можем найти в опыте некоторое указание на то, является наша гипотеза верной или неверной. Долгое время считалось, что наше познание устроено именно как процесс постоянной верификации наших гипотез.
Важной поворотной точкой в середине XX века стала идея австрийского философа Карла Поппера о том, что верификационизм — это очень неудачная модель объяснения того, каким образом мы познаем, и на самом деле через верификацию невозможно ничего познать. Подумаем, как устроен принцип верификации. Допустим, мы говорим: «Все лебеди белые». Дальше мы идем и встречаем белого лебедя. Если мы придерживаемся верификационистской модели, то это наблюдение поддерживает нашу теорию и мы можем считать, что она верна. Но то, что мы встретили белого лебедя, на самом деле ничего не говорит нам о том, бывают ли еще
Идея Поппера состояла в том, что мы познаем не путем выдвижения некоторых предположений, которые потом проверяем, а путем выдвижения некоторых предположений, которые содержат в себе правила проверки их ложности, или, как говорит Поппер, фальсификации. Мы говорим, что все лебеди белые, но при этом мы ищем как раз не белых лебедей, каждый из которых очевидным образом будет подтверждать нашу теорию. Мы ищем небелых лебедей — потому что если мы найдем небелого лебедя, мы фальсифицируем эту теорию.
Несмотря на все их различия, верификационистская и фальсификационистская модели
Первым человеком, который задал социологические вопросы по отношению к этому знанию, был американский социолог Роберт Мёртон. Мёртон спросил, что должно происходить в обществе для того, чтобы работали эти принципы — будь то верификационизм или фальсификационизм. Он задал этот вопрос в 1930-е годы, которые в Америке были довольно интересным временем: она переживала последствия большого экономического кризиса, Великой депрессии. Одновременно американцы видели, как процветает и стремительно растет экономика Советского Союза. В это время в Америке были распространены предположения о том, что нужно перейти на другой режим функционирования науки, что наукой нужно управлять и нельзя отдавать ученым максимальную свободу в определении того, чем они занимаются. Дискуссия, которая возникла вокруг этого, спровоцировала Мёртона на то, чтобы изложить принципы, в соответствии с которыми функционирует научное сообщество. С его точки зрения, благодаря этим принципам научное сообщество и позволяет порождать все новые и новые знания без внешнего давления.
Мёртон сказал, что у ученых есть определенная этика и у этой этики есть четыре основные составляющие. Эти правила он назвал универсализмом, незаинтересованностью, организованным скептицизмом и, как он написал в кавычках, «коммунизмом». Универсализм значит, что все утверждения, которые делаются внутри научного сообщества, универсальны вне зависимости от того, кто их делает и к кому он обращается. У них есть универсальный безличный источник и универсальный безличный адресат. Что касается незаинтересованности, то у ученого не может быть никаких корыстных интересов, кроме желания приумножить знания, он не может работать на личное благо. Принцип организованного скептицизма — это принцип, который указывает на то, что любое высказывание, сделанное в рамках науки, должно подвергаться сомнению, ничто нельзя просто так принимать на веру. И, наконец, принцип «коммунизма» говорит, что знание принадлежит всем, у него нет никакого хозяина.
Благодаря Мёртону в социологии науки возникла программа исследования того, в какой степени те или иные реально существующие научные институты соответствуют или не соответствуют этим принципам. Это позволяло Мёртону объяснять, почему, например, в фашистской Германии удалось создать такую науку, которая реально не работала на приумножение знания. С его точки зрения, это было обусловлено как раз тем, что существовавшая там наука не соответствовала этим принципам. Иными словами, Мёртон дал социологическое объяснил тому, что познание не происходило, что объем знаний не увеличивался. Однако, несмотря на всю влиятельность идеи Мёртона, этот подход
Этот подход сменился другим благодаря работе, которую написал философ науки Томас Кун. Она называлась «Структура научных революций» и изначально вовсе не была социологической. Именно Кун был первым философом науки, который всерьез поставил под сомнение кумулятивную модель происхождения знания. С его точки зрения, знание не накапливается, его не становится больше и больше, знание устроено совсем другим образом. По Куну, существует так называемая нормальная наука — та наука, которой занимаются ученые в своей обычной жизни. Она держится на некотором наборе аксиом, невысказанных или высказанных предположений, вокруг которых формируется научная дискуссия и программа научного исследования.
Такой революционный подход к научному познанию означает, что уже не существует некоторого внутреннего закона приумножения знаний, по которому развивается наука. И объектом нашего непосредственного интереса является то, каким образом происходят эти революции, что делают те люди, которые являются инициаторами этих революций и которые являются пионерами новых парадигм.
За эту мысль зацепились многие социологи. И благодаря Куну возникла совершенно новая программа исследований в социологии науки. В рамках этой программы развернулся так называемый тезис о симметрии. Напомню, что в программе Мёртона предполагалось, что мы можем изучать происхождение знания с точки зрения того, соответствует данное научное сообщество этическим принципам или не соответствует. В новой программе предполагалось изучать не только искажения, которые вносит в процесс познания несоответствие научным принципам, но и, собственно, то знание, которое мы привыкли считать истинным (может быть, до
Важная трансформация, которая произошла в этот момент, — это пересмотр взгляда на историю науки. Прежде считалось, что история науки представляет собой череду непрерывных побед. Часть из них была одержана с большим трудом, а часть — с запозданием: вспомним, например, судьбу открытий Коперника, Джордано Бруно или Галилея. Часто их непосредственный результат был оценен только спустя много лет, но мы привыкли смотреть на них как на героев науки, которые в конце концов, с течением лет или даже веков восторжествовали. В рамках нового взгляда наука перестает выглядеть как череда побед и достижений. Она начинает выглядеть скорее как череда столкновений, череда сменяющих друг друга принципиально разных взглядов на то, чем должна заниматься наука. Может быть, даже как череда ошибок.
Именно в рамках этой волны исследований возникли так называемые полевые исследования науки. Вместо того, чтобы изучать, насколько общая структура общества соответствует или не соответствует тем принципам, которые выделил Мёртон, социологи просто начали ходить в лаборатории. Проводя там по полгода, по году или по два, они выясняли, как реально производится наука, как она возникает из множества ошибок, непониманий и несогласованностей и как эта ткань обычной, «нормальной науки» возникает под руками обычных, нормальных ученых, а вовсе не героев.
Часто думают, что место социолога в обществе — быть человеком, который подсказывает власть имущим, какие решения будут правильными. Даже если он не может знать, какое устройство общества будет правильным, то уж по крайней мере всегда может подсказать, что следует делать, если государственные чиновники ставят себе определенные задачи, хотят добиться тех или иных определенных целей.
В этом варианте предполагается, что социолог обслуживает лиц, принимающих решения, поскольку они, в свою очередь, выражают волю всего общества. Иными словами, у нас есть некоторое единое общество, которое делегировало лицам, принимающим решения, власть управлять государством, власть вести его
Однако эта достаточно распространенная точка зрения предполагает одну интересную предпосылку. Это предпосылка о том, что общество действительно едино: если уж оно делегировало власть тем, кто принимает решения, то они теперь действительно могут действовать от лица всего общества. Но это довольно сильное предположение. В самом деле, разве мы не видим, что вокруг нас происходят довольно серьезные конфликты? У одних ресурсы есть, а у других нет. Для одних закон действует, а для других не действует. Контроль за возможностью достижения тех или иных социальных позиций тоже находится у определенных групп населения.
В этих условиях утверждение, что если уж
Для марксистской концепции идеология — это система идей и бессознательных представлений, которая обосновывает существующий порядок, существующее распределение экономических ресурсов, а если говорить более точно, то распределение собственности на средства производства. Для того чтобы контролировать собственность на средства производства, правящий класс транслирует свое понимание мира и делает так, что эксплуатируемый класс начинает разделять это понимание мира и верить в него. Иными словами, он начинает верить в то, что его подчиненное положение — это на самом деле вещь естественная, справедливая и никак иначе быть и не может. Поэтому акцент на анализе идеологии традиционно был марксистским инструментом борьбы за более справедливое устройство общества — такое, в котором эксплуатация будет устранена.
В социологию понятие идеологии попало не сразу, однако когда попало — наделало там очень много шума. Человеком, который стал активно использовать его в социологии, был немецкий ученый венгерского происхождения Карл Мангейм. Мангейм начал с того, что указал на то, что идеология бывает двух типов — частичная и тотальная.
Частичная идеология — это когда тот, кто производит некоторое идеологическое высказывание, в
Более интересная вещь — тотальная идеология. Тотальная идеология — это целое стройное мировоззрение, в рамках которого его носитель не отдает себе отчета в том, что его слова и убеждения являются продуктом идеологии. Выражаясь марксистским языком, это сознание является «ложным сознанием», оно
Понятие тотальной идеологии интересно тем, что из него следуют серьезные угрозы для возможности объективного познания вообще. В самом деле, если мы хотим достичь объективного познания, то должны отказаться от любых оценочных суждений, от постулирования наших представлений о должном. Но как мы можем это сделать, если мы являемся носителями тотальной идеологии? Если сами не понимаем, что в настоящее время транслируем идеологию, если просто не понимаем, как может быть по-другому, и не видим границ собственного взгляда на мир? Это ставит под угрозу возможность любого объективного познания.
Именно с этой проблемой столкнулся Карл Мангейм. Он предложил два решения, которые отчасти совместимы, а отчасти противоречат друг другу. Одно из них состоит в том, что раз каждый из противоборствующих социальных классов является носителем определенной идеологии, то понять, какова же реальность, мы сможем, только если воссоздадим мировоззрение всех этих классов, иными словами, если мы сможем скомбинировать все существующие перспективы. Каждый класс смотрит на личную реальность со своей точки зрения, и каждый обладает своим ограниченным взглядом. Если мы сможем реконструировать все эти взгляды и
Второе решение, которое предложил Мангейм, даже более известно. Оно основывается на идее о том, что не все люди в обществе на самом деле участвуют в классовой борьбе. Есть категория людей, которая не вовлечена в классовую борьбу, потому что у нее нет особого интереса в этой борьбе, она никак не выиграет и не проиграет от любого исхода. Это прослойка, которая исторически выходит из мелкой буржуазии, живет преимущественно на ренту и, стало быть, имеет возможность не заботиться о собственном пропитании. На нее не давит жизненная необходимость, и она способна тратить время на самообразование, у нее разнообразный досуг. Эта прослойка называется русским словом «интеллигенция». И используя терминологию Альфреда Вебера, Карл Мангейм называет ее свободно парящей интеллигенцией. «Свободно парящая» она именно потому, что не привязана ни к какой классовой позиции и может парить над всеми ними, как бы взмывать в небо и обозревать поле классовой борьбы сверху — незаинтересованным взглядом.
С точки зрения Мангейма, именно такая интеллигенция способна синтезировать все наличествующее в обществе знание о его устройстве и добиться в некотором смысле объективного понимания того, что происходит в обществе. Именно интеллигенция и есть тот самый агент, который может рассказать обществу, что на самом деле в нем происходит, потому что она в наименьшей степени заинтересована в конкретном исходе борьбы в обществе. Заинтересована она, пожалуй, только в том, чтобы общество сохранялось, воспроизводилось. И в этом смысле она имеет наибольший интерес в благе этого общества — интерес, который не ограничен никакой классовой позицией.
Эта теория стала очень популярной. Сегодня мы нередко можем слышать, как интеллигенцию упрекают в том, что она недостаточно ясно, недостаточно сильно, недостаточно эмоционально выражает чаяния той или иной категории людей или даже чаяния всего народа в целом. Но в некотором смысле в этом и есть функция интеллигенции. Ее функция состоит в том, чтобы не поддаваться каким-то сиюминутным интересам (поскольку у нее этих интересов на самом деле нет), а смотреть на ситуацию сверху, отстраненно, и констатировать, что происходит на самом деле. Способна ли интеллигенция это сделать — вопрос очень сложный, потому что ее невовлеченность, ее отрешенность от реальных конфликтов, в которые включены люди в этом обществе, конечно, обусловливает то, что она может не понимать чаяния людей и может быть от них слишком дистанцированной. Но сама функция интеллигенции предполагает как раз готовность к несогласию с доминирующими позициями, готовность оказаться выше конфликта и сиюминутных страстей.
Далеко не все теории познания в социологии разделяют эту точку зрения, в которой реальным субъектом познания является интеллигенция. Скажем, более прямые последователи Маркса, как правило, с ней не согласны. Немецкий марксист Макс Хоркхаймер, один из оппонентов Карла Мангейма, утверждал, что тот попросту искажает Марксово понятие идеологии, понятие «ложного сознания». С точки зрения Мангейма, любой класс обладает в некотором смысле «ложным сознанием», в то время как, по мнению Хоркхаймера, истинно марксистская позиция состоит в том, что есть только один прогрессивный класс, который является носителем в некотором смысле «правильного сознания». Точнее, этот класс будет носителем «правильного сознания», когда он станет подлинным субъектом социальных преобразований, подлинным субъектом революции, после того как мы проведем его деидеологизацию, покажем, как устроено общество на самом деле, и покажем, что он находится в угнетаемом состоянии без всяких на то оснований. Поэтому, по мнению Хоркхаймера, идея о том, что есть
Хоркхаймер и вслед за ним большая часть марксистов в целом исходят из того, что любое знание всегда является пристрастным, частичным, возникающим в ходе существующего в обществе конфликта. Никакое знание не может быть объективным в том смысле, что оно не вовлечено ни в какие социальные отношения. То знание, которое полагает себя объективным, не вовлеченным ни в какие социальные отношения, — это, как правило, как раз знание, которое оправдывает существующий порядок вещей, принимает его как должное, естественное и самоочевидное. И поэтому задача подлинно критической теории, родоначальником которой является Хоркхаймер, состоит в том, чтобы выражать точки зрения тех слоев, которые сегодня являются угнетаемыми и несут в себе ростки будущего более справедливого общества. С точки зрения критической теории в этом состоит подлинная задача социальной науки.
Часто приходится слышать, что задача социологии состоит в том, чтобы помогать обществу развиваться. В самом деле, социологи — это, по идее, люди, знающие законы, по которым устроено и развивается общество. Стало быть, мы вполне можем ожидать, что они будут рассказывать, каким образом общество должно развиваться, что они будут давать советы и рекомендации тем, кто взял на себя ответственность за управление обществом.
Чтобы подумать о том, насколько это верно, нам придется сначала разложить этот миф на несколько элементов. Первый элемент — это убежденность в том, что общества развиваются. Идея о том, что существует некоторая социальная эволюция, что общества проходят некоторый путь развития, существовала длительное время в разных формах, но всерьез укоренилась в европейском сознании, пожалуй, только к XIX веку. Родоначальник социологии Огюст Конт говорил, что два главных элемента, на которых покоится общество и которые следует изучать социологии, — это порядок и прогресс. Но для возникновения идеи о том, что общество проходит через определенные стадии прогресса, людям — социологам, антропологам, в целом тем, кто интересовался социальной наукой, — потребовалось начать сравнивать себя с
Этот процесс был достаточно длинным. В Европе он довольно интенсивно проходил, по крайней мере с эпохи Великих географических открытий, и к XIX веку более или менее оформился в доктрины эволюционизма. Именно XIX век характерен появлением множества различных концепций, указывающих, каким образом развивается общество, какие этапы оно проходит во время своего развития. Предполагалось, что те общества, которые европейский наблюдатель встречает, когда имеет дело, например, с колониями, — это общества, которые находятся на предыдущем этапе развития, которые еще не доросли. Как правило, это связано с их религиозным характером, с тем, что в них господствует политеизм (в отличие от монотеизма европейских обществ), или с тем, что им неизвестна наука, неизвестен научный способ познания мира; во многом это связано и с тем, что им не знакомы некоторые материальные блага, которые известны европейской цивилизации.
Критика эволюционистов в полной мере развернулась в начале XX века. Именно в это время некоторые антропологи начали приезжать в другие общества не на короткий срок — с миссионерскими целями или с целями оказать
Такие антропологи поняли, что общество нужно рассматривать как нечто целостное, что все его элементы можно понять, только если понимать их как составляющие некоторой единой системы. Их не следует сразу пытаться расположить на
Очень легко убрать те ритуалы, которые кажутся наиболее раздражающими, дурацкими или отсталыми. Но можно не заметить, как исчезновение этих ритуалов вызовет, например, падение авторитета определенных групп — скажем, старших возрастных групп или группы жрецов; как их исчезновение, подобно эффекту домино, дальше вызовет разрушение властных иерархий, крах всех других институтов, неспособность людей договариваться по элементарным вопросам совместного выживания — и приведет к упадку в данном обществе.
Таким образом, идея о том, что все общества движется по пути прогресса, долго и небезосновательно оспаривается в социальной науке. В знакомом нам виде эта идея фигурирует в так называемой теории модернизации, которая говорит, что все общества не просто движутся по пути прогресса, а что все они на самом деле идут по одному и тому же пути; что те общества, которые ушли по этому пути дальше, не просто прошли все предыдущие стадии, но и знают, как их проходить. Тем самым они должны помогать отстающим обществам, экспортируя в них те способы действия и учреждая те институты, которые являются более прогрессивными.
Теория модернизации основывается на идее о том, что традиционное общество понемногу выходит из своего закостеневшего состояния и проходит некоторый революционный этап преобразований во время индустриальной революции. Индустриальная революция сначала высвобождает определенные экономические потенциалы, а потом начинает затрагивать все новые и новые сферы жизни общества — и вот происходит прорыв. Результаты этого прорыва закрепляются, и благодаря ему открывается перспектива общества, в котором у людей будут гораздо более обширные возможности и гораздо более высокие шансы в жизни, чем у людей в традиционном обществе. Один из основных теоретиков модернизации Уолт Ростоу считал финальной стадией модернизации наступление эпохи массового потребления, в которой множество своих потребностей смогут удовлетворять не только представители элиты, но и самые широкие массы.
Теория модернизации важна не только с теоретической точки зрения — но еще и потому, что ею руководствовались и продолжают руководствоваться многие политики в разных странах мира. Она оказала очень большое влияние на выстраивание международных отношений, на создание системы, в которой существует современное государство, на выстраивание оппозиции между развитыми странами и развивающимися. В рамках этой системы предполагалось, что развитые страны должны финансово помогать развивающимся и обучать их тому, каким образом следует продвигаться по этой лестнице прогресса, лестнице модернизации. А когда эти страны продвинутся, то, достигнув процветания, они, конечно, без труда вернут то, что взяли в долг.
Критики теории модернизации стали появляться в 1960–70-е годы в рамках так называемых теорий зависимости. Во-первых, многие из них были родом из Латинской Америки, то есть из зоны, которая первой почувствовала на себе влияние доктрины модернизации. Во-вторых, они часто были бывшими чиновниками или собственно ответственными лицами. В рамках теорий зависимости они указывали на то, что идея деления обществ на развитые и «догоняющие», которые следуют их примеру, на самом деле оборачивается тем, что этот разрыв между развитыми и развивающимися обществами все время воспроизводится. Развитые общества подсаживают общества развивающиеся на долговую иглу, взамен забирают контроль над ресурсами этих обществ, получают новые рынки сбыта и дешевую рабочую силу. А кредиты, которые они предоставляют развивающимся обществам, идут на покупку элиты, которой дается возможность беспрепятственно их разворовывать. И сам по себе разрыв между развитыми и развивающимися обществами никуда не девается.
Итак, теория модернизации также много и часто критиковалась. Что же касается идеи о том, социология могла бы
Одно из этих возражений связано с концепцией Карла Маркса. С точки зрения Маркса, идея о том, что развитие общества обязательно означает развитие всего общества в целом и что его бенефициарами являются все члены общества, пытается замаскировать наиболее очевидное в общественных отношениях — а именно существование непреодолимого в рамках данного общества конфликта между теми, кто обладает собственностью на средства производства, и теми, кого эти обладатели собственности эксплуатируют. Развитие общества выгодно, конечно, тем, кто обладает собственностью на средства производства, кто господствует в этом обществе. И поэтому все усилия по развитию общества на самом деле являются усилиями по обогащению или усилению позиций тех, кто в нем господствует. Из этого ведь вовсе не следует, что они будут
Второй же аргумент против участия социологии в развитии общества связан с тем, что если эта эволюция общества действительно существует, то, может быть, это вовсе не прогресс, а как раз регресс. И в рамках работ ранних социологов, особенно немецких, эта тема является одной из ключевых. Их идея в том, что в современном обществе люди объединены не традицией, не кровнородственными отношениями, не общим опытом или устремлениями, а лишь как партнеры в рамках товарного обмена. Если судьба общества действительно состоит в том, чтобы перейти к такому рыночному способу объединения, то это, вероятно, не самое позитивное явление — и не факт, что следует его поощрять и в нем участвовать. Таким образом, против идеи о том, что социологи должны способствовать прогрессу общества, можно выдвинуть целый ряд самых разных возражений.
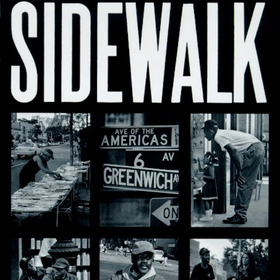









Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости