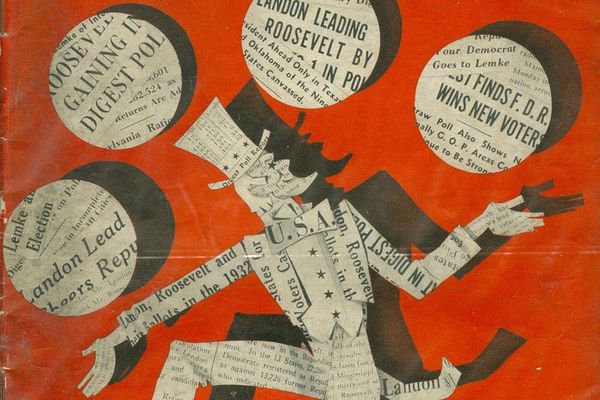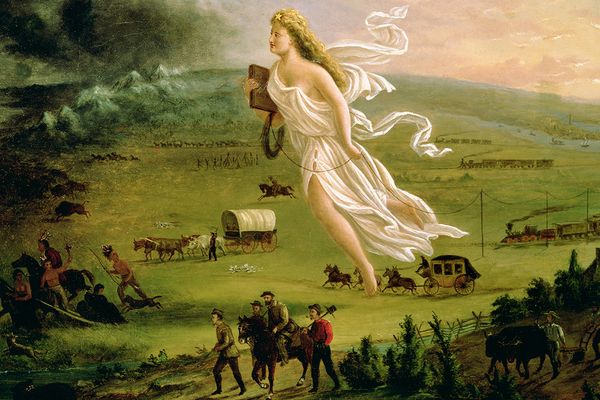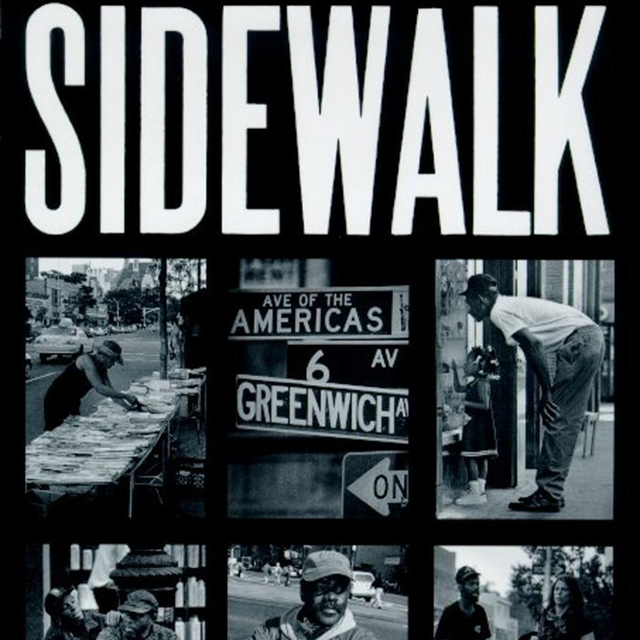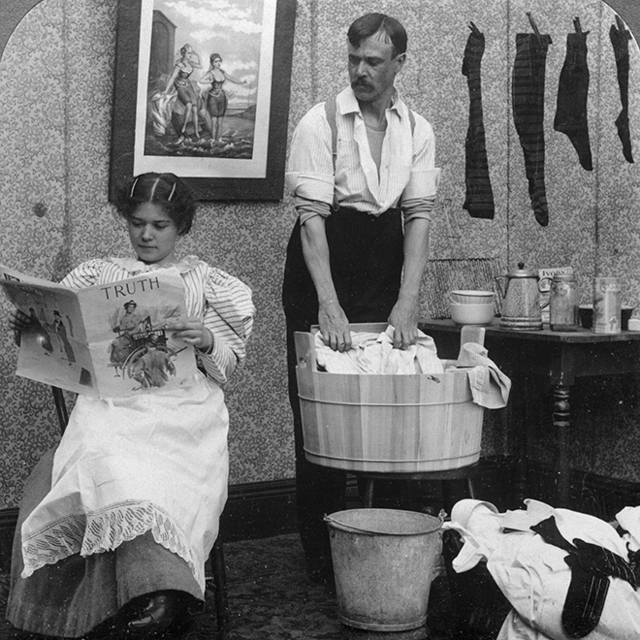Поликлиника: взгляд социолога
Андрей Корбут — о том, как врачи и пациенты реагируют на новые технологии

Андрей Корбут — кандидат социологических наук, научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук.
— С чего начиналось ваше исследование? Почему вы решили заниматься поликлиниками?
— Эта тема меня интересовала давно, но теоретически. Я был знаком с несколькими исследователями, которые занимались схожей проблематикой: в частности, у меня есть несколько коллег из США, которые исследуют, как конкретные информационные системы внедряются в больницах, поликлиниках и медицинских центрах в Америке. И я хотел в первую очередь сравнить, как это происходит у них, с тем, как это происходит у нас.
Но поскольку в широком смысле я занимаюсь исследованием разного рода повседневных практик, то и в этом вопросе меня прежде всего интересовало, как работают врачи, как их повседневная рутинная практика меняется под влиянием технологий.
— В чем основное различие между нашей и западной ситуацией с информатизацией здравоохранения?
— В Америке чуть ли не каждая больница имеет свою особую, специально заказанную систему. В Москве же — а она для меня является главным предметом интереса — была разработана так называемая Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС). Ее разработку курировал Департамент информационных технологий Москвы. Наняли специальную фирму, которая построила всю систему с нуля, и теперь она внедряется в московских поликлиниках. Так что в Москве абсолютно централизованный подход. Врачи выступают пассивными реципиентами, мнение которых учитывается достаточно ограниченно — в отличие от Запада, где при разработке такого рода систем мнение врача является определяющим.
— С чего вы начали исследование и в чем оно заключается практически?
— ЕМИАС состоит из нескольких блоков. Два из них уже внедрены повсеместно: это электронная запись на прием и электронные рецепты. Сейчас в поликлиники внедряется третья часть, которая меня, собственно, интересует: электронная медицинская карта. В результате разных переговоров, посещения конференций, разговоров с представителями Департамента информационных технологий я выяснил, что сейчас в одной московской поликлинике проходит тестирование электронной карты. Меня представили главврачу, а он представил меня врачам. После этого я стал приходить к ним на рабочее место и расспрашивать, как они пользуются этой системой, с какими проблемами сталкиваются, в чем, наоборот, эта система им помогает… Поскольку мне интересно, как под влиянием этих информационных технологий меняется повседневная рутинная практика, мне, конечно, хотелось бы посмотреть, как врачи пользуются компьютером во время приема — многие особенности этой работы они сами могут не замечать. Но, как вы понимаете, чтобы меня допустили на прием, нужно согласие пациента, врача, главврача, возможно, каких-то еще инстанций, поэтому пока я обхожусь тем, что во время разговора прошу врачей показать, как они работают в этой системе. Плюс я говорю с экспертами, с людьми, которые разрабатывают ГОСТы по электронным медицинским картам, с инициаторами этого процесса, с разработчиками… Кроме того, у Департамента информационных технологий есть такая интересная фигура — «внедренец»: этот человек сидит в поликлинике и помогает врачам разобраться с системой, решает какие-то технические проблемы. Вот с таким внедренцем я тоже разговаривал.
— Для того чтобы зафиксировать изменения, нужно описать и те рутинные практики, которые существовали до внедрения инноваций?
— Да, меня интересует в том числе, как работают врачи без этих информационных систем, в частности каким образом до сих пор используются бумажные медицинские карты. На самом деле они продолжают использоваться даже в этой поликлинике, потому что до сих пор не отрегулирован юридический вопрос о статусе электронной подписи. Поэтому все то, что они вносят в эту систему, они потом распечатывают и вклеивают в обычные карты.
— По каким параметрам происходит сравнение того, что было, с тем, что стало?
— Я в том числе спрашиваю врачей, сколько времени они тратят на те или иные обязанности, на заполнение тех или иных документов, на прием в целом, как организован их обычный рабочий день — с чего он начинается, как течет и чем заканчивается. Это все составляет, собственно, рутинную деятельность врача.
Например, сейчас по нормативам время, которое должно тратиться на одного пациента, — 12 минут. В новой системе это время подсчитывается с точностью до секунды, поскольку все операции, которые делает врач, фиксируются в компьютере. Раньше этого не было — как вы понимаете, никто не мог посекундно контролировать врача. Это новая реальность, с которой врачам приходится иметь дело, и очень многие этим недовольны. Проблемы возникают не только из-за того, что иногда врачу нужно больше двенадцати минут, но и из-за того, что иногда нужно меньше. И что тогда делать с оставшимися минутами? Сидеть просто так или запускать следующего пациента? Конечно, возникают разные способы приспособления к этой ситуации.
Такой параметр, как время, — наиболее объективен, поэтому временные затраты просто сравнивать. Например, в процессе тестирования люди от департамента сначала секундомером замеряли, сколько врач тратит на заполнение электронной медицинской карты, потом организовывали обучение врачей, а потом еще раз мерили, сколько времени уйдет на заполнение карты. Есть вещи, которые объективировать сложнее. Например, как организован прием: что врач делает сначала, что потом и чем все заканчивается.
Я приведу один пример, где очень четко видно расхождение между логикой системы и логикой врача. В электронной карте врач должен пройти несколько этапов, каждый из которых требует обязательного заполнения некоторых граф: только заполнив эти графы, врач может нажать кнопку «Сохранить» и перейти к следующему этапу. Чтобы вернуться на один из предыдущих шагов, нужно начать все сначала. У приема, даже очень короткого, тоже есть своя логика. Несомненно, люди, которые разрабатывали информационную систему, об этом знали — и постарались сделать так, чтобы реальный сценарий приема совпадал с тем, который они заложили в систему. Но на самом деле прием устроен сложнее, чем простая последовательность шагов, каждый из которых основан на предыдущем: врач, действительно, записывает жалобы, сведения анамнеза, результаты осмотра, диагноз, назначения, но эти этапы могут чередоваться в разном порядке; они не всегда жестко следуют друг за другом. В данном случае нельзя говорить, что вся система была построена без учета того, как работают врачи, но какие-то аспекты повседневной практики она определенно не учитывает.
В то же время в каких-то отношениях она, наоборот, позволяет врачу действовать более эффективно или точно. Например, снимается проблема почерка. Мое исследование во многом посвящено тому, чтобы прослеживать эти схождения и расхождения практики с системой.

— Часто ли вам удается заметить проблемы, которые не видят сами врачи?
— Я думаю, что гораздо больше такого рода вещей я мог бы выявить, если бы начал наблюдать за тем, как врачи работают непосредственно на приемах. Например, в Великобритании людям, которые занимались проблемой внедрения электронных медицинских карт, разрешили даже делать видеозаписи. Это позволяло им детально анализировать все, что происходит на приеме, — и они выявляли очень много вещей, которые сами врачи не замечали, поскольку во время приема все происходит очень быстро, а задача врача — поставить диагноз и предложить лечение, а не следить за тем, что и как он делает; это знание находится у него в теле, в руках, в документах, в инструментах, которые он использует. Если социолог может сесть и подумать об этом более внимательно, с опорой на разного рода данные, он такие вещи замечает.
Поскольку я работаю с описаниями практики, но не наблюдаю ее как таковую, у меня таких вещей меньше. Но тем не менее, сопоставляя рассказы врачей и внедренцев, я иногда вижу какие-то проблемы иначе, чем те и другие. Например, в рамках этой информационной системы вводится различие между направлением к врачу и записью на прием: врач направляет пациента к другому специалисту — буквально выбирает из списка фамилию нужного врача, а потом ему отдельно нужно сделать запись на прием. Врачи очень часто этого не понимают: они полагают, что, направив к врачу, они уже сделали запись, и ограничиваются первым шагом. И внедренец, рассказывая про это, говорит: в системе это совершенно логично, вот первый шаг, вот второй, все четко прописано — а врачи ведут себя нелогично. Он объясняет это тем, что у врачей в голове шаблоны, с которыми они не хотят расставаться. То есть он видит проблемы, но нагружает их оценкой и считает, что способ исправить эти проблемы — поменять шаблоны в головах врачей. Когда смотришь на это глазами врача, то понимаешь, что проблема не в шаблонах, а в том, как организована сама практика. А организована она именно таким образом не по прихоти врача, а в силу определенных особенностей его работы. Для врача направление и запись — это одно действие, а система предлагает их разделять, поскольку записаться к врачу, к которому его направили, пациент может сам. В каком-то смысле можно сказать, что такого рода проблемы не очень явны для тех, кто их проговаривает, потому что они скрыты за оболочкой оценок. И пробиться сквозь эту оболочку к проблеме бывает сложно, но интересно.
— То есть ваша задача — представить ситуацию безоценочно? Найти проблемам иное объяснение, чем «плохие врачи» или «дурацкая система»?
— В каком-то смысле. Но оценку нельзя просто изъять из уравнения; неверно полагать, что мнения участников процесса (удобно что-то или неудобно, правильно или неправильно) — это просто шелуха, отбросив которую мы доберемся до какой-то реальности. Нет, их оценки — тоже часть реальности. А другая часть, — с моей точки зрения, гораздо более широкая — это те действия, которые люди (в том числе врачи с пациентами или врачи с врачами) совершают, придавая смысл тому, что они делают, и в том числе информационной системе. Эта часть во многом остается неотрефлексированной, но ее можно изучать. И только сопоставив эту часть с оценками разных участников взаимодействия, мы получим сложную картину, учитывая которую сможем сделать инновацию успешной.
Недостаточно стремиться к тому, чтобы врачи сказали, что все отлично. И не только потому, что они могут это говорить по разным причинам (например, на их ответ может влиять, кто спрашивает), но и потому, что, когда мы стремимся сделать систему, которая всем понравится, мы часто делаем то, что не нравится никому, — просто потому, что перестаем обращать внимание на реальную повседневную практику людей, которые будут дальше с этой системой жить. Нам нужно учитывать и то, как эта рутинная практика организована и как с помощью технологии мы можем ее менять, если мы почему-то считаем это необходимым.
Нельзя сказать, что эта информационная система оказалась полностью неудачной, очень многие вещи в ней получились — как раз те аспекты, в которых разработчики сначала оценивали, как работают врачи. Перед тем как внедрять эту систему, Департамент информационных технологий, например, замерял, сколько времени врачи тратят на заполнение разного рода бумаг. Выяснилось, что врачи вынуждены заполнять десятки, если не сотни разного рода документов. Соответственно, заказчики этой системы полагали, что для того, чтобы ввести какие-то новые информационные услуги или сервисы (электронная запись на прием, электронная выписка рецептов, электронная медицинская карта), нужно снять с врачей часть бумажной нагрузки — или перевести ее в электронную форму. Например, уйму времени занимала выписка рецептов — и практически все врачи, с которыми я говорил, сказали, что электронная выписка рецептов экономит кучу времени. Вот в той мере, в какой разработчики эту предварительную работу делали, эта информационная система и оказалась успешной. И в этих случаях оценка врачей и их повседневная практика меняются достаточно согласованно.
— Собираетесь ли вы в конце предлагать какие-то решения тех проблем, которые вы увидите и опишете?
— Пока я не предлагаю никаких решений, но, наверное, в конце концов, исходя из тех выводов, которые я смогу сделать, можно будет предложить какие-то организационные и технические решения.
Вообще, это вечный вопрос, который всегда ставится в такого рода исследованиях: можно ли использовать полученные данные для того, чтобы создать идеальную систему — или хотя бы такую, которой будет довольно большее число врачей, а также разработчики и заказчики; которая будет дешевой, не будет подвисать и так далее. Боюсь, этот идеал вообще недостижим. Какие‑то аспекты определенно можно изменить, в каких-то отношениях ее определенно можно сделать более удобной, лучше соответствующей практике врачей. Но ведь приходится учитывать массу разных вещей — например, сколько денег можно сэкономить на внедрении, — и иногда экономическая логика перевешивает все остальные. Моя задача в том, чтобы в это уравнение внесли еще одну переменную, которую необходимо учитывать всегда, — реальную повседневную практику того человека, который будет в конце концов работать с этой системой. Если это удастся, будет уже неплохо.
— Есть ли какая-то вариативность в оценках, которые дают системе врачи?
— Да, вариативность, конечно, присутствует. Во-первых, конечно, у врачей, которые не умеют пользоваться компьютером, возникают проблемы — и это вызывает жалобы, негативные оценки и так далее. Какая-то часть людей недовольна этой системой по определению — потому что они в принципе недовольны всем тем, что заставляет их что-то менять, тем более чему-то учиться.
Конечно, есть люди, которые понимают, что без информатизации в дальнейшем их профессиональная практика будет становиться все более ущербной. Я сталкивался с врачами, которые говорили, что без компьютера они уже не могут работать, в том числе потому, что внутри вот этой информационной системы есть некоторые справочники, а многие просто себе на компьютер скачивают энциклопедии, монографии, статьи и дальше уже работают с этой информацией. Конечно, для людей, которые думают о том, как их профессия будет в дальнейшем развиваться и какое место они будут в ней занимать, информатизация очень важна. Плюс с помощью подобных технологий накапливается огромный объем медицинской информации — и чем больше ее будет попадать в такую систему, тем более доступной она будет становиться и тем эффективнее можно с ней работать. Так что оценка системы очень сильно зависит от профессиональных интересов врача, от того, как он себе представляет развитие профессии, и конечно, — мы никуда не можем от этого уйти — от его экономического положения и от многих других факторов.
— Как вам удается справляться с личным отношением к этим людям? Не возникает ли у вас желания, когда вы видите заведомо не очень хорошего врача, вообще не учитывать его мнение?
— С исследовательской и методологической точки зрения важно не обращать внимания на оценки, которые эти врачи получают, например, со стороны других врачей, руководства или пациентов. Скажем, главврач говорил мне, что есть какая-то когорта людей, их условно можно назвать людьми в возрасте, которым не нравится все новое, они не хотят учиться, у них низкая компьютерная грамотность и так далее — а есть группа более молодых людей, у которых с компьютером проблем нет и система им нравится, потому что она напоминает их смартфоны, компьютеры и планшеты. Эта оценка должна учитываться как один из элементов ситуации, но ни в коем случае не влиять на то, какие врачи выбираются для интервью. Соблюдать абсолютную объективность и бесстрастность невозможно, но я стараюсь представлять максимально разнообразные точки зрения. Чем больше этих точек зрения будет, тем точнее я смогу представить себе, как на самом деле врачи воспринимают свой опыт работы с этой системой; поэтому даже один человек, который имеет свой уникальный взгляд на эту систему, ценен.
— Как вы думаете, может ли информатизация повлиять не только на повседневные практики, но и на что-то большее?
— Да, это влияет не только на повседневные рутинные практики врачей, но и, возможно, на устройство и функционирование поликлиник. Пока это не очень явно, в том числе потому, что внедрение такого рода информационных технологий еще на начальных шагах. Но врачи высказывали опасения, связанные с тем, что их работа становится более контролируемой и это может быть каким-то образом использовано — в том числе им во вред. Пока нет никакой информации о том, что главврач, или Департамент здравоохранения, или Министерство здравоохранения, или кто-либо еще будет использовать эти данные для оргвыводов — например, для выделения премий или урезания зарплат, — но это вполне возможно.
Еще один интересный аспект — возможные опасения пациентов: вся эта информация попадает на централизованные серверы. Вроде бы в ЕМИАС сделана многоуровневая система защиты — но это огромный массив очень интимной информации о людях, и если она где-то хранится, значит, к ней можно получить доступ. Пока, по словам врачей, пациенты этим вопросом не задаются, но рано или поздно начнут. И это уже юридический вопрос, связанный с функционированием медицинских учреждений вообще, который тоже необходимо будет каким-то образом регулировать.
В каком-то смысле меняются отношения между рядовыми врачами, потому что теперь информация, собранная одним из них, очень быстро и легко оказывается доступной другому. Меняются отношения между пациентом и врачом — появляются новые возможности, но и новые опасности.
— Как вы думаете, то, что у вас нет медицинского образования, скорее вам помогает или мешает?
— В отношении этнографических исследований тут есть два подхода. Одни говорят, что не нужно предварительного опыта и профессиональных знаний, потому что из-за них исследователь начинает какие-то вещи считать самоочевидными и поэтому многого не замечает. Например, какие-то высказывания врача он может автоматически оценивать как правильные или неправильные — и из-за этого пропустить что-то еще, важное с точки зрения социологии. По мнению сторонников другого подхода, занимаясь любыми профессиональными практиками, мы должны хотя бы в какой-то мере владеть этой профессией. Такой подход гораздо более требовательный, но он обещает больше результатов. Для меня, по крайней мере в случае с данным исследованием, это уже невозможно — но в идеале, конечно, было бы хорошо иметь врача если не в качестве исследователя, то в качестве члена команды, который сможет многие вещи объяснить социологу.
— Встречаете ли вы в процессе работы противодействие со стороны врачей?
— Мой, как говорят этнографы, «вход в поле» был входом сверху, поэтому врачи меня в каком-то смысле идентифицируют с руководством. Так что прямого противодействия я не встречаю, но мне всегда приходится предварительно проговаривать, что я независимый исследователь, что я не выполняю задание руководства поликлиники или каких-либо департаментов и министерств; меня просто интересует, что делают врачи. Тем не менее поначалу, конечно, люди не очень понимают, как эта информация будет использоваться, и пытаются красиво говорить правильные вещи. Но по мере разговора они понимают, что именно меня интересует, и становятся свободнее; даже очень настороженное отношение со временем переходит в более доверительное.
— Разговариваете ли вы с пациентами?
— Пока нет, но планирую. Я спрашиваю врачей, например, реагируют ли пациенты на то, что теперь на столе стоит компьютер и часто врач сразу утыкается в монитор и начинают что-то набирать. Чаще всего врачи говорят, что пациенты не обращают на это внимания — но, конечно, с самими пациентами было бы тоже интересно поговорить. Так что я собираюсь ловить их на выходе из кабинета и спрашивать, хотя бы в общих чертах, что они думают по поводу компьютера, который теперь уже становится третьим участником взаимодействия между врачом и пациентом, замечают ли они его вообще, интересует ли их, что в нем происходит… Но это пока в планах.
— Проводились ли другие исследования, посвященные разным аспектам жизни поликлиник?
— Социология давно интересуется поликлиниками. В основном это исследования опросного типа: делается куча докладов и статей, например о степени удовлетворенности пациентов медицинскими услугами. Исследований такого, скорее этнографического, характера, предполагающих наблюдение за врачами и анализ того, как организована их повседневная рутинная практика, не очень много. Они стали появляться где-то в начале 1980-х годов, но до сих пор не очень развиты, в том числе потому, что очень сложно получить доступ в поле.
— Должны ли, с вашей точки зрения, все инновации, которые проводятся сверху, сопровождаться социологическими исследованиями?
— Да. И не только те инновации, которые инициированы какими-то государственными или крупными частными структурами, но и те, которые проникают в повседневную жизнь незаметно, на низовом уровне. Скажем, мобильные телефоны никто не внедрял по приказу, они сами внедрились в нашу жизнь — но это тоже может быть интересным предметом исследования. В любом случае столкновение повседневной жизни, которая не знала некой новой технологии, с этой технологией — всегда интересный вопрос, независимо от того, кто инициировал ее возникновение и распространение. В случае, когда инициатива идет сверху, это особенно интересно: часто такого рода решения возникают не в результате компромисса между конечным потребителем и разработчиком — но обусловлены экономическими, политическими или какими-то еще мотивами.
И да, я уверен, что функционирование в повседневной жизни любых технологий — но в первую очередь тех, которые влияют на ключевые области социальной жизни, вроде здравоохранения и образования, — обязательно должны сопровождаться социологическими исследованиями, основанными не только на массовых опросах, но и на наблюдении за повседневными практиками самых разных участников.