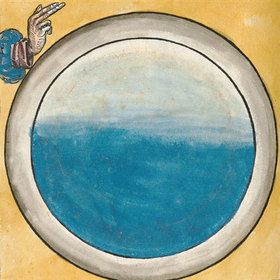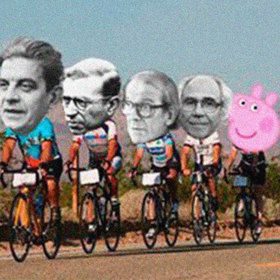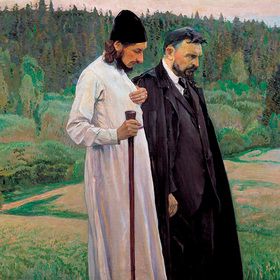Курс
Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?
- 4 лекции
- 3 материала
Лекции Артемия Магуна — от идеи Бога через мысль о том, что его нет, к вопросу о том, что может быть на его месте, а также объяснение сложных философских мемов и тест «Какой бог это сделал?»
Курс был опубликован 3 октября 2019 года
Этот курс доступен по подпискеПодписка — это доступ ко всем нашим курсам, подкастам и множеству других аудио об истории и культуре. Она стоит 399 ₽ в месяц или 2999 ₽ в год
Если у вас уже есть подписка, нажмите