Как читать русскую литературу
- 4 лекции
- 5 материалов
Инструкции по написанию «Евгения Онегина», романов Достоевского и рассказов Чехова, а также лекции Игоря Пильщикова о том, почему мы не понимаем классиков


Инструкции по написанию «Евгения Онегина», романов Достоевского и рассказов Чехова, а также лекции Игоря Пильщикова о том, почему мы не понимаем классиков
Самое начало «Евгения Онегина». Онегин выходит в свет:
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде;
Как dandy лондонский одет…
Остановимся здесь: что значит dandy? И что значит «как dandy»? Что значит «острижен по последней моде» — и важно ли это для понимания романа? Или мы можем представлять себе любую стрижку и любую — модную или не модную — одежду? Попробуем ответить на эти вопросы.
Слово «денди» кажется нам знакомым, хотя это слово заимствованное и достаточно редкое. Ну подумайте, часто ли вы в жизни говорите «денди», а особенно с английским произношением? Такие слова нередко бывают активны в течение только одного исторического периода — как правило, в момент заимствования. Затем по разным причинам они устаревают. И мы уже не точно знаем, что́ эти слова значили 100–150 лет назад, и еще меньше знаем и понимаем, что эти слова значили для конкретного автора, их употреблявшего.
Для Пушкина это слово новое, новомодное, только что заимствованное, и поэтому он дает его в иноязычном, английском написании. Почему мы знаем, что в английском, а не французском — ведь французский язык был Пушкину гораздо ближе? Дело в том, что французский вариант этого слова, заимствованный также из английского, был «данди́», что явно не подходит по стихотворному размеру.
Первое время это слово, придя в русский язык, так и пишется латиницей. Написание кириллицей закрепляется только в середине 1830-х годов в «Практической русской грамматике» Николая Ивановича Греча. А в первом издании этой грамматики в 1827 году этого слова еще не было. В академический словарь 1847 года это слово не попало. Зато благодаря Пушкину иностранное слово «денди» все-таки приобрело популярность, и такую, что Владимир Иванович Даль, в общем чуждавшийся европеизмов, все же включил слово в «Толковый словарь живого великорусского языка».
Удобным справочником по пушкинским словам является «Словарь языка Пушкина». Но слово dandy мы в этом словаре не найдем, потому что в него вообще не включены слова, написанные латиницей. Но те же лингвисты, которые составляли «Словарь языка Пушкина», составляли и тома толкового словаря Ушакова. А в словаре Ушакова написано:
«Де́нди [дэ], нескл., м. (англ. dandy). В буржуазно-дворянском обществе (первоначально в Англии) — изысканный светский человек, законодатель моды. Как денди лондонский одет. Пушкин».
Насколько важно, что это слово английское? Очень важно, потому что с точки зрения поэтики бытового поведения денди — это английская модель поведения. Англомания во времена Пушкина — новомодное явление, и она была противопоставлена более укрепившимся французским моделям поведения.
С одной стороны, денди у Пушкина противопоставлен щеголю, которого в этот период и чуть раньше называли либо французским словом «петиметр», либо французским словом «фешенебль» (заимствованным из английского).
Почему денди — это не просто щеголь? Потому что денди создает моду, а щеголь рабски следует моде. Таким образом, в определении Онегина «как dandy лондонский» кроется некое противоречие. Быть «как dandy» — это ведь уже значит не быть денди, а казаться им.
С другой стороны, новая английская модель дендистского поведения противопоставлена старой французской модели либертенского (или либертинского) поведения. Либертен следует внешним нормам публичного поведения при полной внутренней эмансипации. Он может и даже должен быть нерелигиозен, аморален, но внешний декорум соблюдается всегда.
Денди, наоборот, практикует эпатажное поведение, которым прославился основоположник дендизма Джордж Браммел, он же
В «Евгении Онегине» есть прямая характеристика французского либертинажа — и отрицательная характеристика! — когда в начале четвертой главы Пушкин говорит про «хладнокровный разврат»: это забава, которая, по мнению автора, достойна лишь «старых обезьян хваленых дедовских времян»:
Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времян…
Эти строки Пушкин перенес в свой роман в стихах из собственного письма к брату Льву, в котором он вполне серьезно учит того жизни:
«Замечу только, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею. Однако забава эта достойна старой обезьяны XVIII столетия».
Онегин начинает как либертен, а затем становится денди. Именно поэтому он денди, а не либертен: в сельской глуши он не воспользовался сердечной слабостью Татьяны, как это не раздумывая сделал бы, скажем, виконт де Вальмон — герой «Опасных связей» Шодерло де Лакло (это была одна из любимых книг Пушкина).
Вот на все эти детали и намекает то, что Онегин пострижен по последней моде. По справедливому комментарию Юрия Лотмана, Онегин, выйдя в свет, меняет длинную французскую стрижку а-ля Титюс Стрижка, названная в честь римского императора Тита, вошла в моду в период Французской революции. на короткую английскую — дендистскую. И с другой стороны, в том же романе короткая английская стрижка противопоставлена романтической немецкой стрижке а-ля Шиллер. Такая прическа была у Ленского — «и кудри черные до плеч» (эту деталь впервые прокомментировал филолог Михаил Федорович Мурьянов).
Таким образом, то, что было понятно широкому кругу современников писателя, а не только избранным, теперь становится понятным только избранным, то есть филологам. Остальные понимают текст по своему разумению, приспосабливают его к своим нуждам, ко злобе дня — в общем, переосмысливают, а не стремятся реконструировать авторское задание. И если язык «Слова о полку Игореве» очевидно непонятен современному читателю (а то же можно сказать и о языке поэтов XVIII века — от Кантемира до Ломоносова и даже, наверное, до Державина), то язык Пушкина и других писателей его времени отличается кажущейся понятностью.
Эту проблему четко сформулировал Александр Борисович Пеньковский, замечательный лингвист, который последние годы своей жизни занимался языком Пушкина. В своей книге «Загадки пушкинского текста и словаря» он писал:
«…общепринятое определение хронологических границ современного русского литературного языка, по формуле „от Пушкина до наших дней“… на самом деле глубоко ошибочно. В действительности тот язык, на котором думал, говорил, писал и творил Пушкин, — это язык, во многом близкий к современному, очень на него похожий, но в то же время глубоко от него отличный».
Мы не всегда понимаем Пушкина в том числе и потому, что плохо знаем его язык. Пеньковский продолжает:
«Здесь имеет место явление, близкое тому, что принято называть „ложными друзьями переводчика“, но только действующее в сознании читателей, уверенных в том, что они читают текст на своем языке, тогда как на самом деле они переводят его с другого (пусть близкого, но другого!) — если не языка, то состояния языка, и переводят, как выясняется, с более или менее серьезными ошибками».
Возьмем для примера слово «педант». Оно заимствовано из итальянского pedante и сперва означало школьного учителя. В этом значении оно встречается в «Евгении Онегине», только не в окончательном тексте, а в черновике лирического отступления о лицейских годах, в начале восьмой главы романа:
Когда французом называли
Меня задорные друзья,
Когда педанты предрекали,
Что ввек повесой буду я…
Здесь слово «педант» употребляется не в современном нам, близком нам значении, а в исходном значении «учитель». Учителя предрекали Пушкину, что ничего хорошего из него не получится, а хорошее получится из князя Горчакова, будущего канцлера.
С другой стороны, педантом Пушкин в самом начале романа называет самого Онегина:
Ученый малый, но педант,
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре…
Здесь «педант» означает совсем другое, а именно «светский человек, любящий демонстрировать свою ученость». Это значение развилось у слова «педант» во французском языке, и вслед за французскими контекстами появляется похожий русский контекст его употребления. И первая глава «Евгения Онегина» — это как раз самый известный, но не всегда правильно понимаемый случай употребления слова «педант» в этом значении.
Кроме того, в том же «Евгении Онегине» про Зарецкого, который организует дуэль между Ленским и Онегиным, сказано, что он «в дуэлях классик и педант», то есть формалист. Это значение нам привычно, и этот контекст мы понимаем лучше, чем первые два.
И наконец, про Онегина второй раз говорится, что он педант. Мы помним, что он был денди (или «как денди»), и поэтому неудивительно, что Онегин
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Так вот, Онегин в одежде педант — это то же самое, что Зарецкий в дуэлях педант, но не то же самое, что Онегин — педант, который касался «до всего слегка» (а знал все, может быть, и не очень хорошо).
В современном языке слово «педант» активно только в значении «формалист». Поэтому остальные контексты для нынешнего читателя смазываются, остаются приблизительно понятными или непонятыми вовсе.
Зачастую нам неизвестно даже буквальное значение слов, давно знакомых из книг. Как писал Лотман:
«Самая легкость стиха, привычность содержания, знакомого с детства читателю и подчеркнуто простого, парадоксально создают добавочные трудности в понимании пушкинского романа в стихах. Иллюзорное представление о „понятности“ произведения скрывает от сознания современного читателя огромное число непонятных ему слов, выражений, фразеологизмов, имен, намеков, цитат. Задумываться над стихом, который знаешь с детства, представляется ничем не оправданным педантизмом. Однако стоит преодолеть этот наивный оптимизм неискушенного читателя, чтобы сделалось очевидно, как далеки мы даже от простого текстуального понимания романа».
Между тем разузнать, что означают те или иные редкие слова и выражения, не
«— Почему в стихотворении „Скачка на приз Буденного“ жокей у вас затягивает на лошади супонь и после этого садится на облучок? Вы видели
когда-нибудь супонь?— Видел.
— Ну, скажите, какая она?
— Оставьте меня в покое. Вы псих.
— А облучок видели? На скачках были?
— Не обязательно всюду быть, — кричал Ляпис, — Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции. <…> Пушкин писал по материалам. Он прочел историю пугачевского бунта, а потом написал».
Через несколько абзацев появляется самая феерическая цитата из первого опыта Ляписа в прозе: «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом…»
Профессионализмы не являются частью литературного языка, а подлинный или мнимый интерес к индустриальной и крестьянской теме принуждает писателя ими пользоваться. Что такое «домкрат», неудачливый писатель еще не знает. А что такое «супонь» и «облучок», он уже не знает — эти слова устарели.
Что значит «супонь», можно посмотреть в словаре — это ремень для стягивания хомута при запряжке лошади, и во многих словарях это объяснено корректно. А вот что такое «облучок», не каждый словарь объяснит верно. Обратимся к хрестоматийному пушкинскому контексту — вторая строфа пятой главы «Евгения Онегина» входит в число отрывков, заучиваемых в школе наизусть:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью
как-нибудь ;Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Для хрестоматийного текста здесь поразительно много непонятных современному читателю и тем более школьнику слов — «торжествуя», «дровни», «рысью», «кибитка», «облучок», «кушак». Мы остановимся только на «облучке».
«Словарь языка Пушкина» дает этому слову четкое, но неправильное определение — «сиденье для кучера в повозке». По всей видимости, оно восходит к словарю под редакцией Ушакова, который составлял тот же коллектив авторов, что и «Словарь языка Пушкина». Там написано: облучок — «то же, что козлы», то есть «передок экипажа, на котором сидит кучер». А иллюстративный пример к слову «облучок» взят из «Евгения Онегина»: «Ямщик сидит на облучке». И мы представляем себе экипаж, на нем
Благодаря авторитету ушаковского словаря в позднейшей лексикографии закрепилось отождествление слов «облучок», «козлы» и «передок». А в иллюстрированных школьных словарях при статьях «козлы» и «облучок» даются одинаковые рисунки козел.
А между тем слова «козлы» и «облучок» означали разные предметы, и поэтому знаток простонародной Москвы Иван Тимофеевич Кокорев, автор книги очерков «Москва сороковых годов» — естественно, сороковых годов XIX века (сам Кокорев жил в позапрошлом столетии), — соединяет эти слова сочинительным союзом «и». Он пишет:
«Кажется, все экипажи, какие только есть в Москве, все выехали бороздить улицу; все лошади, которые еще в силах таскать ноги, призваны к исполнению своей службы; все кучера с бородами и без бород засели на козлы и на облучки; все извозчики бросились выезжать заработки».
«На козлы и на облучки» значит, что облучок — это не то же самое, что козлы. Но что тогда? Козлы — это тип сиденья. А был ли облучок типом сиденья? Нет, не был, и поэтому Гоголь в «Мертвых душах», в самом, наверное, известном фрагменте, так описывает эту часть традиционного русского экипажа:
«Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток… Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? <…> И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик. Борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем. А привстал, да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг. Только дрогнула дорога да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход! И вот она понеслась, понеслась, понеслась!..»
Здесь персонажи едут не на выписных (то есть импортных) колясках, на которых ездят друзья Пушкина. Гоголь воспевает тех, кто ездит на простых дорожных снарядах, собранных ярославским мужиком. А на этих снарядах и сидеть-то не на чем, и поэтому кучер или ямщик сидит «черт знает на чем» — на облучке.
Почему облучок — это «черт знает на чем»? У «облучка» совершенно прозрачная этимология. Русское «облук» и его уменьшительная форма «облучок» восходят к соответствующим общеславянским формам, в которых очевидно выделяются морфемы «об» («вокруг», как в «обход», «ободок» и т. п.) и «лук» («кривой», как в «лук», «излучина»).
Владимир Иванович Даль, который был на два года младше Пушкина и последнее пятилетие жизни поэта активно с ним общался (и можно быть уверенным, что их словоупотребление было близким), в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» определяет термин «облук, облучок» как боковой край ящика, кузова на телегах, повозках и санях; как «ободок». Даль поясняет выражение «сидеть на облучке» так: «боком, свесив ноги». То есть на козлах кучер сидит удобно, как на стуле, а на облучке — боком, свесив ноги.
Знал ли это Пушкин? Или он, как Ляпис-Трубецкой, путал облучок и козлы? Несомненно, знал. И всякие сомнения в этом рассеивает текст «Капитанской дочки». Если мы не понимаем, что такое облучок, то наше понимание этого текста будет не то что неполным, а абсурдным. Потому что во второй главе «Капитанской дочки» у Пушкина на облучке едут сразу три человека.
«Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая».
Во-вторых, это ямщик, который сидит спереди — и тоже на облучке:
«„Что же ты не едешь?“ — спросил я ямщика с нетерпением. „Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка, — невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом“».
И наконец, это Пугачев:
«…дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: „Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай“».
Любопытно, что облучок фигурирует и в пушкинских документальных материалах по истории Пугачева — тех самых, о которых смутно помнил Ляпис. Пушкин записал воспоминания поэта Ивана Ивановича Дмитриева о том, как слуга рассказывал тому о важном преступнике — казаке, отосланном в Казань в оковах с двумя солдатами, которые сели на облучки кибитки с обнаженными тесаками. На козлы им так бы сесть не удалось.
В одиннадцатой главе «Капитанской дочки» ситуация несколько меняется. Пугачев и Гринев сидят в кибитке, широкоплечий татарин стоя правит тройкою, а Савельич садится на облучок:
«Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути…»
Эта картина ничем не отличается от тех, которые описаны в «Евгении Онегине», особенно если мы возьмем не только окончательный текст романа, но и черновики. Мы там найдем такие строки: «Ямщик веселый стоя правит или поет на облучке», «Слуга сидит на облучке», «Дорога зимняя гладка». Таким образом, сидеть в этой телеге не на чем, поэтому можно править либо стоя, либо сидя на облучке, ободке.
Итак, утратив реалии, мы утрачиваем понятия. Из нашей жизни исчез предмет, и со словом «облучок» у нас не ассоциируется никакого четкого и конкретного понятия. А слово осталось — благодаря хрестоматийным текстам. Мы подменяем четкое конкретное понятие понятием расплывчатым, и в результате не понимаем классических текстов даже на самом простом, базовом уровне.
Случай облучка очень показателен. Либо мы представляем картину невозможную или даже абсурдную — козлы, на которых сидят сразу три человека, в «Капитанской дочке». Либо не понимаем, почему в «птице-тройке» ямщики сидят «черт знает на чем», и эта блистательная характеристика пролетает мимо ушей. Наконец, мы не понимаем, в чем прелесть поездки на телеге для дворянского писателя и читателя XIX века. Телега — это примитивный крестьянский дорожный снаряд, который настолько прост, что на нем даже и сидеть негде.
Вот как заканчивается (это не самый конец, но ближе к концу) хрестоматийный, заучиваемый наизусть каждым школьником монолог Чацкого «А судьи кто?» в комедии Грибоедова «Горе от ума»:
Или вон тот еще, который для затей
На крепостной балет согнал на многих фурах
От матерей, отцов отторженных детей?!
Сам погружен умом в Зефирах и в Амурах,
Заставил всю Москву дивиться их красе!
Но должников не согласил к отсрочке:
Амуры и Зефиры все
Распроданы поодиночке!!!
«Но должников не согласил к отсрочке» — а кого он, собственно, не уговорил подождать? Ведь «должник» в современном значении слова — это тот, кто должен. А в тексте Грибоедова слово «должники» употреблено в значении «кредиторы», то есть в прямо противоположном.
Насколько мне известно, в большинстве своем читатели, по крайней мере школьники, просто не обращают внимания на эту странность. Почему? Потому что
Возникает иллюзия понимания, возникает инерция чтения. Нам кажется, что мы понимаем текст, а в ряде случаев мы его понимаем прямо противоположным образом. Но мы не видим абсурдности собственного понимания, не замечаем ее просто потому, что проскальзываем взглядом мимо. А более глубокое чтение текста тут же нас ставит перед проблемой — а что же все-таки это значит?
Вот другой широко известный текст, в котором употреблено другое хорошо известное современному читателю слово — слово «пень». Дуэль Онегина и Ленского:
Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полок сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще. За ближний пень
Становится Гильо смущенный.
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развел по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.
О педантической точности Зарецкого мы говорили в одной из предыдущих лекций. А как интерпретировать поведение слуги Онегина — Гильо? Иллюстраторы (а их много, и в их число входят выдающиеся художники — например, Мстислав Добужинский) изображают Гильо пристроившимся невдалеке возле небольшого пенька. Все переводчики используют для передачи этого фрагмента слово со значением «нижняя часть срубленного, спиленного или сломленного дерева» — например, английское stump в переводах Набокова, Джонстона и Фейлена. И точно так же толкует это место «Словарь языка Пушкина».
Однако если Гильо боится погибнуть от случайной пули и надеется от нее укрыться, то зачем он становится за ближний пень? Почему бы не остаться стоять, где стоял? Ведь скрываться за пнем бессмысленно: он же не ложится и не прикрывает голову руками.
Об этом, кажется, никто не задумывался, пока не так давно замечательный лингвист Александр Борисович Пеньковский (который сам иронизировал над совпадением своей фамилии и своего интереса к этой теме) не показал на множестве текстов пушкинской эпохи, что в то время слово «пень» имело еще одно значение, помимо того, которое оно имеет сегодня. Это значение — «ствол дерева», необязательно срубленного, спиленного или сломленного. То есть большой ствол в языке Пушкина — это тоже пень. За таким пнем действительно можно спрятаться от пули.
Этот пример проясняет механизм нашего непонимания знакомого текста. Мы встречаем в нем знакомое слово, мы приписываем этому слову привычное нам значение, а это слово имеет либо другое значение, либо оба: и привычное, и другое. Для того чтобы понять слово и весь фрагмент правильно, нам нужно перевести текст с языка того времени на наш язык.
Та же проблема возникает и в случае перевода на иностранный язык. Когда замечательные переводчики переводят пень как stump, они сталкиваются с той же проблемой перевода. Но тут сделать вид, что всё хорошо и что все всё поняли, не удается: слово, выбранное в чужом языке, в данном случае выдает неправильное понимание.
Мы говорили о том, что ушедшие реалии создают утраченные смыслы. В частности, утраченная реалия — это гужевой транспорт. Он стал экзотикой, его хозяйственная роль нивелировалась, он остался в лучшем случае развлечением для туристов. Связанная с ним терминология ушла из общеупотребительного языка, и сегодня она по большей части не ясна. Не является исключением и еще один хрестоматийный текст — описание сборов Лариных в Москву в седьмой главе «Евгения Онегина»:
Готовят завтрак повара,
Горой кибитки нагружают,
Бранятся бабы, кучера.
На кляче тощей и косматой
Сидит форрейтор бородатый.
Это конец строфы, сюда Пушкин очень часто помещает
Начнем с установления значения слова. «Форейтор» — с одним «р» или двумя «р», с суффиксом «ер» или «ор» (у Пушкина в прижизненных изданиях это слово пишется с двумя «р» и с «ор») — это германизм от немецкого Vorreiter: тот, кто едет спереди, на передней лошади.
Значит, форейтор едет на лошади, а не сидит в повозке на козлах (или на облучке, на ободке телеги, если это более простое средство передвижения). На козлах сидит кучер (это слово заимствовано из немецкого, от Kutsche — «повозка, карета»; в немецкий оно пришло из венгерского, где соответствующий термин происходит от топонима Коч и означает, собственно, кочский экипаж, экипаж из города Коч). А форейтор, в отличие от кучера, сидит не в экипаже. Мы можем открыть словари и узнать, что форейтор — это верховой, который при запряжке цугом (это когда лошади запряжены или просто одна за другой, или парами, одна пара за другой) сидит на передней или одной из передних лошадей, поэтому он и Vorreiter — «едущий впереди».
Достаточно ли этого словарного объяснения для понимания текста «Онегина»? Нет, недостаточно, потому что никакие словари не указывают одной важной особенности форейторского дела: как правило, форейтором был подросток или даже маленький мальчик. Об этом часто упоминают литераторы XIX века. Например, у Тургенева в «Степном короле Лире» мы находим такое описание:
«В назначенный день большая наша фамильная четвероместная карета, запряженная шестериком караковых лошадей, с главным „лейб-кучером“, седобородым и тучным Алексеичем на козлах, плавно подкатилась к крыльцу нашего дома. Сквозь настежь растворенные ворота вкатилась наша карета на двор; крошечный форейтор, едва достававший ногами до половины лошадиного корпуса, в последний раз с младенческим воплем подскочил на мягком седле, локти старика Алексеича одновременно оттопырились и приподнялись — послышалось легкое тпрукание, и мы остановились».
Значит, форейтор — мальчик. И дело тут не только и не столько в обычае или моде, на которую справедливо указывает Лотман в своем комментарии к «Евгению Онегину», сколько в практической необходимости. Форейтор должен быть легким, иначе лошади будет трудно его везти.
Между прочим, на представлении о нежном возрасте форейторов построена острая преддуэльная шутка Пушкина по поводу графа Борха, чьим именем был подписан диплом рогоносца, присланный Пушкину 4 ноября 1836 года (а этот диплом и послужил поводом для дуэли). По воспоминаниям современника, по дороге к месту дуэли Пушкину и его секунданту Данзасу попались едущие в карете четверней граф Борх с женой. Увидя их, Пушкин сказал Данзасу: «Вот две образцовых семьи». И заметя, что Данзас не вдруг это понял, он прибавил: «Ведь жена живет с кучером, а муж — с форейтором».
Форейтор должен быть мальчиком, а в «Евгении Онегине» у Лариных форейтор бородатый. Ларины так долго не выезжали и сидели сиднем в деревне, что уже и форейтор у них состарился. Мы имеем дело с утраченной, не опознаваемой сегодняшними читателями иронией:
Этот пример еще раз возвращает нас к аналогии понимания и перевода. В свое время великий лингвист и семиотик Роман Осипович Якобсон предложил разграничение видов перевода: помимо обычного, интерлингвистического, межъязыкового, он говорил об интралингвистическом, внутриязыковом и интрасемиотическом, то есть переводе с одного языка культуры на другой. Допустим, экранизация — это интрасемиотический перевод. Экранизируя «Евгения Онегина», мы должны представлять себе, как выглядел Онегин — мы не можем пропустить это.
Чтение и понимание сопоставимо с интралингвистическим, внутриязыковым переводом. Это очевидно в случае, когда мы переводим «Песнь о Роланде» со старофранцузского на современный французский или «Слово о полку Игореве» с древнерусского на современный русский. Но точно такая же ситуация возникает при переводе на современный русский язык текстов XVIII и XIX века. Мы должны их внутри себя, так сказать, умственно перевести.
В «Войне и мире» Толстого есть упоминание о военном плане, «которой был передан Кутузову в его бытность в Вене австрийским гофкригсратом».
Словарь-справочник редких слов, вышедший несколькими изданиями под грифом серьезного лингвистического института, поясняет: «Гофкригсрат — военный советник в Австрии». Теперь вопрос к историкам: неужели Кутузов действительно служил в Вене военным советником?
К этому вопросу мы и вернемся в конце лекции. А покамест более общий вопрос: а,
Часто склоняются ко второму решению. А мне кажется, что гораздо более обычна ситуация перехода неполного понимания в полное непонимание. Ведь в художественном тексте любая деталь может оказаться значимой. Любая деталь может играть не только характеризующую роль, описывать персонажей, но и сопоставляться с другими деталями и создавать специфическую авторскую картину мира. Теряя эти мелочи, мы теряем смысл.
И когда мы читаем тексты предшествующих эпох, эта ситуация неполного понимания, переходящего в полное непонимание, усугубляется. Ведь в XX веке за относительно небольшой период жизненный уклад несколько раз кардинально поменялся. И поэтому, читая произведения русской классической литературы XIX века, мы оказываемся на положении иноземцев, которые не вполне знакомы с языком и обычаями чужой страны.
Мы часто сравниваем текст с собеседником, с которым мы ведем приятный разговор. Но текст не совсем собеседник, он не может ответить на наши вопросы, если они возникли. Иногда к тексту есть
Выдающийся пушкинист Борис Викторович Томашевский более полувека назад писал о чтении нашим современником текстов Пушкина:
«Здесь сплошь и рядом пропадает для сегодняшнего читателя намек на факт,
когда-то известный, ныне совершенно забытый, на обычай, вышедший из употребления, на бытовую деталь, вытесненную развитием техники и изменением социальных отношений. Нам не вполне ясны обиход крепостного периода, городская жизнь в иных жилищных условиях и вся сложная система обычаев, связанных с иными материальными условиями жизни, передвижения, труда, досуга и т. п.».
Например, важнейшая культурно-семиотическая система любой эпохи — одежда. Это относится и к модной одежде, и к повседневной, а еще больше семиотизирована военная одежда.
Здесь нужно напомнить, что многие писатели пушкинской поры были военными, и это не только поэт-партизан Денис Давыдов. Батюшков, например, закончил антинаполеоновский поход в столице поверженного врага — городе Париже и дослужился до штабс-капитана лейб-гвардии Измайловского полка. Баратынский, сосланный за серьезную провинность в солдаты, тоже был в некотором роде военным. И вот он пишет в 1819 году послание к своему другу Дельвигу, которого выводит как древнеримского поэта Горацием, а себя — как поэта, оказавшегося в необычных условиях:
Так, любезный мой Гораций,
Так, хоть рад, хотя не рад,
Но теперь я Муз и Граций
Променял на вахтпарад!
<…>
Мне ли думать о куплетах?
Феба луч едва блеснет, —
Марс затянутый, в штиблетах
В строй к оружию зовет.
«Марс затянутый, в штиблетах». Знаток официального быта Российской империи Леонид Ефимович Шепелев в книге «Чиновный мир России» рассказывает, что в самом начале царствования Александра I на смену относительно просторному немецко-венгерскому кафтану пришел мундир французского образца, узкий, с высоким стоячим воротником и резко расходящимися ниже пояса полами. Соответственно, камзолы укорачивались и превращались в жилеты. Для того чтобы продемонстрировать свою статность, многие офицеры начали затягиваться в корсет.
Примеров этого затягивания много. Пушкин в послании к князю Горчакову, которое начинается строками «Питомец мод, большого света друг», упоминает затянутого невежду генерала. Он же в «Гаврилиаде» сравнивает одного из персонажей с адъютантом:
Так иногда супругу генерала
Затянутый прельщает адъютант.
В черновиках «Евгения Онегина» читаем:
…Ее настиг младой улан,
Затянут, статен и румян…
У Грибоедова Скалозуб — «хрипун, удавленник, фагот». «Фагот» — сложное для комментирования слово, а «удавленник» — видимо, потому, что затянут в корсет.
Так и командир у Баратынского — это «Марс затянутый, в штиблетах». А штиблеты — это гетры; как комментирует Даль — «ногавицы». Впрочем, слово «ногавицы» выпало из современного русского языка, хотя сохранилось параллельное ему — «рукавицы».
Военная терминология, так же как и военно-административная и административная, исконная и заимствованная, — чрезвычайно сложная для ориентации семиотическая система. Вот пример, который создает исконная терминология. В феврале 1807 года 19-летний Батюшков записался в ополчение и отправился в Прусский поход против наполеоновской Франции. Для него все было необычно, и 19 марта, добравшись до Риги, он посылает своему другу, будущему переводчику «Илиады» Николаю Ивановичу Гнедичу письмо, в которое включен стихотворный экспромт. И начинается он так:
По чести мудрено в санях или верхом,
Когда кричат, марш, марш, слушáй, весь гом,
Писать к тебе мой друг посланья… Сохранена авторская пунктуация.
Cитуация такая же, как у Баратынского: поэт пишет поэту, а кругом непонятный военный быт. Здесь проблема. В рукописи, как это обычно и бывает у Батюшкова, окончание глагола «кричать» можно прочесть либо как «а», либо как «и»: дужка сверху не замкнута. Соответственно, глагол может стоять во множественном либо в единственном числе — «кричат» или «кричит». Как печатать?
Для того чтобы выбрать верное чтение, нужно понять, что значит «весь гом». Это
Ответ на этот вопрос дал выдающийся историк русского языка, академик Виктор Владимирович Виноградов в докладе «Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования». Этот доклад был прочитан в 1945 году, а напечатан только полвека спустя. Поэтому наблюдениями Виноградова текстологи, издававшие произведения Батюшкова, воспользоваться не могли.
В этой статье Виноградов говорит о миграции слов из профессиональных диалектов и арго Арго́ — диалект или язык какого-либо обособленного сообщества. в общелитературное употребление:
«Вот пример из истории русского профессионально-военного диалекта. В строевом учении начала XIX века существовала команда „весь-кругом“, и это движение батальона, фронтом назад, делалось медленно, в три приема с командою: „раз, два, три“. Но потом — по прусскому образцу — стали выполнять это движение в два приема, и самая команда была сокращена и произносилась „весь-гом“. Но употребление выражения „весь-гом“ вышло далеко за пределы применения старой команды „весь-кругом“. Оно… стало широким символом фрунтового формализма и произвола».
Описывая происхождение и употребление команды, Виноградов почти дословно пересказывает воспоминания Фаддея Венедиктовича Булгарина о кампании 1807 года и появившейся тогда армейской сатире. Прусская кампания завершилась поражением русской армии под Фридландом и Тильзитским миром с Наполеоном, о котором нынешние читатели хорошо знают по роману Толстого «Война и мир». А Булгарин рассказывает, что после Фридланда некие поручики Белавин и Брозе общими силами написали сатирические стишки под заглавием «Весь-гом». Процитируем их.
Где ты девалась, русска слава,
Гремевшая столь много лет?
Где блеск твой, сильная держава,
Которому дивился свет?Померкло всё! Весь-гом проклятый,
Лишь выдуманный нам на месть,
Весь-гом, у пруссаков занятый,
Отнял у нас всю славу, честь!Когда весь-гома мы не знали,
А знали только что впере́д,
Тогда мы храбро воевали,
Страшился нас галл, турок, швед.
И так далее. Каждый куплет этого стихотворения содержит сочетание «весь-гом». Значит, в стихотворении Батюшкова — «кричат весь-гом». Помимо этого, в нем обращает на себя внимание и вторая команда — «слуша́й»: «Кричат… слуша́й, весь гом…» Эта форма «слуша́й» в русской поэзии достаточно редкая. Она памятна по пушкинскому «Домику в Коломне», где Пушкин сравнивает поэтические строки с военным строем.
Из мелкой сволочи вербую рать.
Мне рифмы нужны; все готов сберечь я,
Хоть весь словарь; что слог, то и солдат —
Все годны в строй: у нас ведь не парад.Ну, женские и мужеские слоги!
Благословясь, попробуем: слуша́й!
Равняйтеся, вытягивайте ноги
И по три в ряд в октаву заезжай!
Как писал тот же Виноградов в книге «Язык Пушкина», у Пушкина рифмы выступают в образе рекрутов, «мелкой сволочи», в которой раздается команда на языке военного просторечия.
Таким образом, и в стихах Пушкина, и в стихах Батюшкова с описанием поэта и поэтической деятельности контрастирует низкая военная реальность. Возникают, по выражению того же Виноградова, острые формы стилистических антитез.
Весьма существенная разница заключается в том, что Батюшков использует эту форму в «домашнем» стихотворении, в письме к другу: это письмо не предназначалось для публикации и читалось либо только адресатом, либо близкими друзьями. А Пушкин включает такие же стилистические контрасты в печатный текст, адресованный широкой публике. Комические, бурлескные формы выходят за пределы узких жанрово-стилевых рамок. Такого рода стилистические формы мы найдем не только в «Домике в Коломне», но и в «Евгении Онегине». Подробно на эти темы писал выдающийся филолог Максим Ильич Шапир.
Итак, в данном случае непонимание значения слова ведет, с одной стороны, к невозможности правильно напечатать текст, а с другой стороны, невозможности правильно оценить его стилистическую ауру и получить удовольствие от авторской иронии.
А в случае с «гофкригсратом», с которого мы начали, ситуация еще хуже. Если мы понимаем это слово неправильно, мы можем приписать Кутузову то, чего он никогда не делал. Это пример заимствованной военно-административной терминологии, и здесь обращение к языку-источнику может помочь нам его понять. Слово «гофкригсрат» заимствовано из немецкого, оно составное. «Хоф», или «гоф», — это «двор, царский двор, дворец», как в топониме Петергоф, он же Петродворец. «Криг» — это «война», как в слове «блицкриг» — быстрая, молниеносная война. А «рат» — это «совет», как в слове «ратуша» — дом городского совета.
В «Войне и мире» термин «гофкригсрат» встречается семь раз, и всякий раз в значении «придворный военный совет австрийского императора». Поэтому во фразе «План, который был передан Кутузову в бытность в Вене австрийским гофкригсратом» речь идет не о том, что Кутузов был гофкригсратом в Вене, как нам подсказывает неверно словарь. Фраза значит, что стратегический план был передан Кутузову, когда тот был в Вене, австрийским военным советом — гофкригсратом.


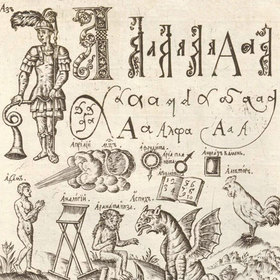
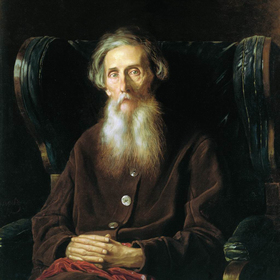


Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости