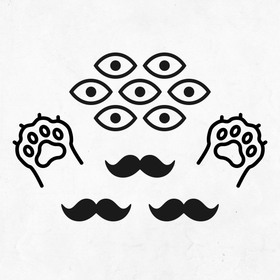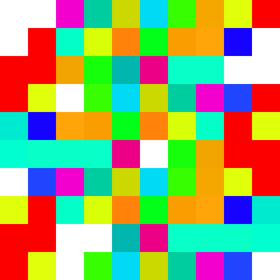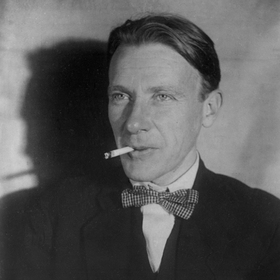Курс
Мир Булгакова
- 5 лекций
- 6 материалов
Аудиолекции Мариэтты Чудаковой о «Мастере и Маргарите», игра в персонажей Булгакова, а также удивительная статистика, рекомендации фильмов и рассказов и другие материалы о русском классике
Курс был опубликован 27 октября 2016 года
Этот курс доступен по подпискеПодписка — это доступ ко всем нашим курсам, подкастам и множеству других аудио об истории и культуре. Она стоит 399 ₽ в месяц или 2999 ₽ в год
Если у вас уже есть подписка, нажмите