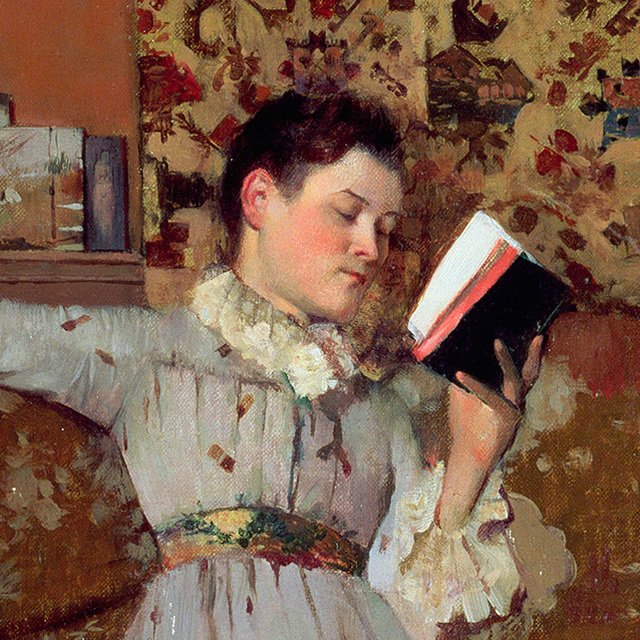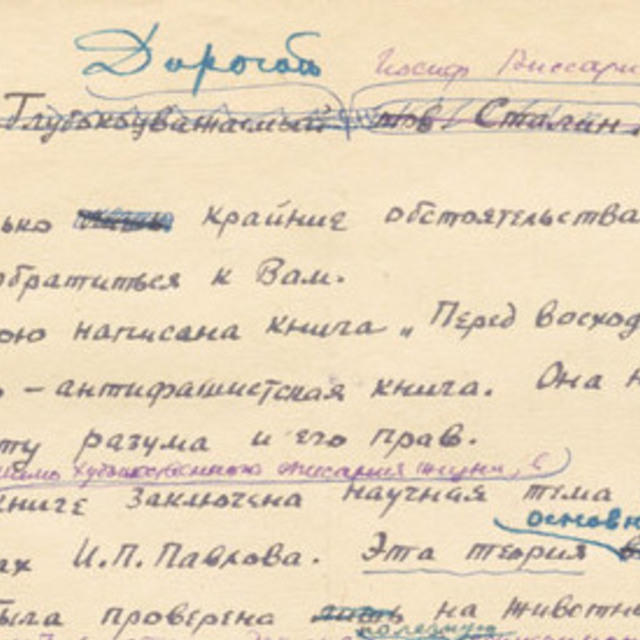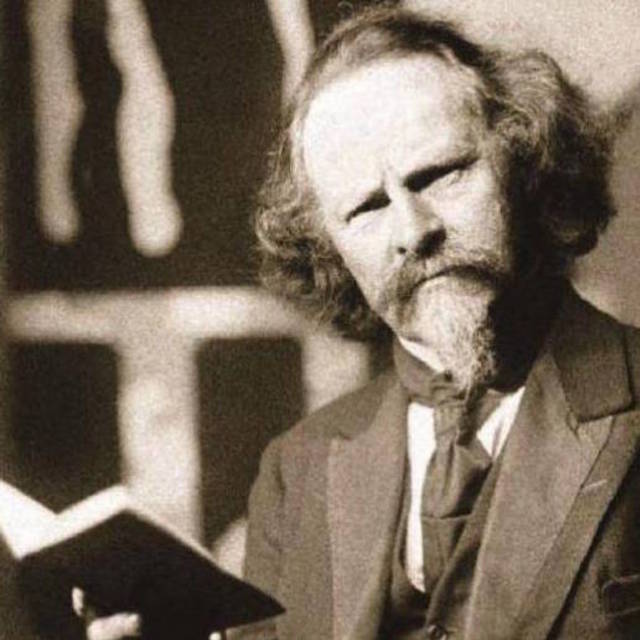Так говорил Заболоцкий

О том, что больше всего интересует
«Архитектура; правила для больших сооружений. Символика; изображение мыслей в виде условного расположения предметов и частей их. Практика религий по перечисленным вещам. Стихи. Разные простые явления — драка, обед, танцы. Мясо и тесто. Водка и пиво. Народная астрономия. Народные числа. Сон. Положения и фигуры революции. Северные народности. Уничтожение французиков. Музыка, ее архитектура, фуги. Строение картин природы. Домашние животные. Звери и насекомые. Птицы. Доброта-Красота-Истина. Фигуры и положения при военных действиях. Смерть. Книга, как ее создать. Буквы, знаки, цифры. Кимвалы. Корабли».
О Евангелии
«Удивительная легенда о поклонении волхвов, — сказал Н. А., — высшая мудрость — поклонение младенцу. Почему об этом не написана поэма?»
«Чудеса Евангелия не интересны, но само оно кажется чудом. И как странна судьба его, на что обычно не обращают внимания: в нем всего одно предсказание, и оно, уже скоро выяснилось, не сбылось; последние слова действующего лица — слова отчаяния. Несмотря на это, оно распространилось».
Об опьянении
«Его можно сравнить с курением или чесанием; раздражение кожи, легких, стенок желудка. В этом удовольствие».
О плавании и полете
«Я переплыл реку с поднятыми руками!» (Он воздал похвалы плаванию: плывущий испытывает радость, недоступную другим. Он лежит над большой глубиной, тихо лежит на спине и не боится пропасти, парит над ней без опоры. Полет — то же плавание. Но не аппаратный. Планер — предвестие естественного полета, подобного искусству или полетам во сне, об этом и мечтали всегда.)
О поэзии
«Поэзия есть явление иератическое».
***
«Когда-то у поэзии было все. Потом одно за другим отнималось наукой, религией, прозой, чем угодно. Последний, уже ограниченный расцвет в поэзии, был при романтиках. В России поэзия жила один век — от Ломоносова до Пушкина. Быть может, сейчас, после большого перерыва, пришел новый поэтический век. Если и так, то сейчас только самое его начало. И от этого так трудно найти законы строения больших вещей».

О тяготении (разговор с Даниилом Хармсом)
Н. А.: «Тяготения нет, все вещи летят, и Земля мешает их полету, как экран на пути. Тяготение — прервавшееся движение, и то, что тяжелей, летит быстрее, нагоняет».
Д. X.: «Но ведь известно, что все вещи падают одинаково быстро. И потом, если Земля — препятствие на пути полета вещей, то непонятно, почему на другой стороне Земли, в Америке, вещи тоже летят к Земле, значит, в противоположном направлении, чем у нас».
(Н. А. сначала растерялся, но потом нашел ответ.)
Н. А.: «Те вещи, которые летят не по направлению к Земле, их и нет на Земле. Остались только подходящих направлений».
Д. X.: «Тогда, значит, если направление твоего полета такое, что здесь тебя прижимает к Земле, то, когда ты попадешь в Америку, ты начнешь скользить на брюхе по касательной к Земле и улетишь навсегда».
Н. А.: «Вселенная — это полый шар, лучи полета идут по радиусам внутрь, к Земле. Поэтому никто и не отрывается от Земли».
Он пробовал еще объяснить свой взгляд на тяготение на примере двух караваев хлеба, одного 10 1/2, другого 11 1/2 фунтов, которые кладут на весы. Но не смог. И скоро прекратил разговор.
О звездах
«Конечно, звезды нельзя сравнивать с машинами, это так же нелепо, как считать радиоактивное вещество машиной. Но посмотрите на один интересный чертеж в книге — распределение шаровых скоплений звезд в плоскости Млечного Пути. Не правда ли, эти точки слагаются в человеческую фигуру? И Солнце не в центре ее, а на половом органе, Земля точно семя вселенной Млечного Пути».
О фамилии
Н. А. (входя): «Я меняю фамилию на Попов-Попов. Фамилия двойная, несомненно аристократическая».
О работе для Якова Друскина
«Я бы предложил вам, если вы на меня не обидитесь, стать трубочистом. Это замечательная профессия. Трубочисты сидят на крышах, под ними разнообразные ячейки жактовских массивов, а над ними пестрое, как персидский ковер, небо. Да, объединение таких людей — я подразумеваю альянс трубочистов — могло бы изменить мир. Итак, становитесь, Я. С., трубочистом».
О папе
«Я заключил договор на переделку „Гаргантюа и Пантагрюэля“. Это, пожалуй, даже приятная работа. К тому же я чувствую сродство с Рабле. Он, например, хотя и был неверующим, а целовал при случае руку папе. И я тоже, когда нужно, целую ручку некоему папе».
О немцах
Н. А. (возмущенно): «Немцы! У них вообще сплошное безобразие. Там, например, Тельман сидит уже который месяц в тюрьме. Можно ли это представить у нас?.. А деревья живут очень долго. Баобаб — шесть тысяч лет. Говорят, есть даже такие деревья, которые помнят времена, когда на Земле не было еще деревьев».
О заплатах
Н. А. (взглянув себе на ноги и заметив на коленях заплаты): «Когда буду богатым, заменю эти заплаты бархатными; а посередке еще карбункулы нашью».
Об Андрее Белом
«Единственная вещь, которую можно читать, это «Огненный ангел». Да и то она не его, а Брюсова».
О внешности (в диалоге с Даниилом Хармсом)
Н. А.: «Некоторые находят, что у меня профиль и фас очень различны. Фасом я будто русский, а профилем будто немец».
Д. X.: «Что ты! У тебя профиль и фас так похожи, что их нетрудно спутать».
Н. А.: «Чистые типы — это основа; помеси, даже конституций, это дурное человечество».
Об искусстве
«Я тут познакомился с одним человеком, и он мне даже нравился, пока я не узнал, что его любимая картина — „Какой простор!“. В этой картине — весь провинциализм, неопрятность и бездарность старого русского студенчества с его никчемной жизнью и никчемными песнями. А как оно было самодовольно! Осиновый кол ему в могилу...»

О счастье
«Знаете, мне кажется, что все люди, неудачники и даже удачники, в глубине души чувствуют себя все-таки несчастными. Все знают, жизнь — что-то особенное, один раз и больше не повторится; и потому она должна бы быть изумительной. А на самом деле этого нет».
О снах о смерти
«Мне кажется, я видел даже больше, момент, когда будто уже умер и растекаешься в воздухе. И это тоже легко и приятно... Вообще во сне удивительная чистота и свежесть чувств. Самая острая грусть и самая сильная влюбленность переживаются во сне».
О снах
«Когда среди ночи проснешься под впечатлением сна, кажется, его невозможно забыть. А утром невозможно вспомнить. Но сам тон сна настолько отличается от жизни, что те вещи, которые во сне гениальны, кажутся увядшими и ненужными потом, как морские животные, вытащенные из воды. Поэтому я не верю, что можно во сне писать стихи, музыку и т. п., чтобы потом пригодилось».
О здоровье
«Верно, и зубная боль чем-то ценна. Ваши йоги самодовольны; это противное занятие — прислушиваться к своим кишкам».
О том, что помогает искусству
«Были бы лишь подходящие условия для писания. Д. X., например, нужен театр; Н. М. свой журнал; мне две комнаты, а я живу в одной».
***
Затем Н. А. играл, как всегда, в триктрак и напевал несложную песенку: «Один адъютант имел аксельбант, а другой адъютант не имел аксельбант».