Мир Анны Ахматовой
- 4 лекции
- 6 материалов
О великой русской поэтессе —

О великой русской поэтессе —
В середине 1950-х годов Ахматова упрекала Пастернака в том, что на время писания романа «Доктор Живаго» он ограничил рацион своего чтения. Она утверждала, что поэт должен в любую эпоху питаться всем, что его окружает (об этом же она писала и в стихотворении «Мне ни к чему одические рати…»: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда…»).
Другой современник Ахматовой — поэт Владислав Ходасевич в своей книге о Державине писал: «Отражение эпохи не есть задача поэзии, но жив только тот поэт, который дышит воздухом своего века, слышит музыку своего времени. Пусть эта музыка не отвечает его понятиям о гармонии, пусть она даже ему отвратительна — его слух должен быть ею заполнен, как легкие воздухом». Я хочу показать вам ахматовское стихотворение, в котором музыка времени звучит очень отчетливо.
В августе 1914 года во всем мире и в июле 1914 года в России, которая жила по другому календарю, начинается Первая мировая война. Она вызывает разные эмоции у современников. Большая часть поэтов, с которыми была связана Ахматова, охвачена патриотическим подъемом: Мандельштам пишет ура-патриотические стихи, Пастернак с Маяковским отправляются на призывной пункт записываться в добровольцы. Ахматовские строки, посвященные 1914 году («Июль 1914 года»), тоже отражают законы этой патриотической риторики — однако прежде всего они отражают воздух и музыку времени.
Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели,
И осина уже не дрожит.Стало солнце немилостью Божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил…
Ахматова максимально точна: это детальная картина просходившего тогда в средней полосе. О торфяных пожарах под Петербургом газеты начинают писать с начала июня, а к середине июля запах лесных пожаров отчетливо ощущается в городе.
Но этим, естественно, картина угрозы и приближающейся войны не ограничивается:
…Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:
«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.
Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат».
Последняя часть текста хотя и в ахматовской личной поэтике, но передает патриотическую риторику времени. В речи одноногого прохожего слова «глад» и «мор» нам более или менее понятны, а «трус» значительно менее — это слово обозначает землетрясение. Что до «затменья небесных светил», то в первых числах августа по российскому календарю на всей территории средней полосы состоялось полное солнечное затмение, которое было воспринято как мрачное предзнаменование. (Ахматова, естественно, написала стихотворение не сразу в середине июля 1914 года, а через несколько недель.)
Продолжим говорить об отзывчивости Ахматовой на все, что в этот момент попадается ей на слух, на нюх и на глаз. Мы знаем, что 17 июля, в день объявления войны, Ахматова находилась в Слепневе, под Тверью. А 26 июля, неделю спустя, она приехала в Петроград провожать на фронт своего мужа Николая Гумилева.
В день ее приезда вышел новый номер самого массового журнала тех лет «Нива». Массовость журнала не означала, что в нем не могли появиться достойные живописные репродукции или поэтические тексты, — в «Ниве» публиковался и Блок, и сама Ахматова. В номере от 26 июля, вместе с публикацией Высочайшего манифеста об объявлении войны, содержалось стихотворение не самой известной и впоследствии прочно забытой поэтессы Марии Пожаровой:
Дальний пламень лесного пожара,
В небе — солнце, несущее смерть:
Неотвратно, слепительно-яро
Красным оком глядящая твердь!
К нищим избам ползет лихолетье…
Что ты можешь? Смирись и молчи.
Словно плетью, язвящею плетью,
Грудь земную иссекли лучи.
От сожженной измученной груди
Запах тленья и терпкая гарь…
И, скорбя, приникают к ней люди:
Серый пахарь, пастух и косарь.
Мать-земля! Оросить ли слезами
Или кровью тебя напоить?
И какими словами, мольбами,
Непомерную муку избыть?..
И вещает им странник убогий,
У часовни слагая суму,
Что архангел, губящий и строгий,
К нам ниспослан в греховную тьму.
Меч его озаряет пожаром
Недра диких, глухих деревень,
А в деснице пылающим шаром
Солнце, солнце не меркнет весь день.
У нас есть все основания предполагать, что этот журнал попался в руки Ахматовой. Ее стихотворение не только содержит тот же самый ключевой образ странного странника, грозящего грядущими разрушениями, но и написано тем же стихотворным размером, трехстопным анапестом.
Мне кажется, что применительно к стихотворению «Июль 1914 года» мы можем дать стихотворному размеру содержательную интерпретацию. Как мы помним, Ходасевич утверждал, что поэт должен слушать музыку своего века и должен быть наполнен этой музыкой, даже если она ему отвратительна. Музыкой июля-августа-сентября 1914 года, когда на фронт со столичных и губернских вокзалов отправлялись эшелоны, был чрезвычайно популярный марш «Прощание славянки». Он был написан за два года до этого, во время сербской войны, композитором Агапкиным.
В 1914 году, насколько мы можем судить, никаких слов этому маршу не полагалось. Первое его словесное наполнение фиксируется в 1915 году:
По неровным дорогам Галиции,
Поднимая июльскую пыль,
Эскадроны идут вереницею,
Приминая дорожный ковыль.
Метр не совсем такой, как в стихотворении Ахматовой: чередуются дактилические и мужские окончания (а не женские и мужские). Однако в последующие годы при подборе словесного эквивалента к маршу «Прощание славянки» то и дело возникал ровно тот же самый ритм, что и у Ахматовой: трехстопный анапест с чередованием женской и мужской рифмы.
Кажется, ахматовское стихотворение «Пахнет гарью четыре недели…» написано в несколько иной, более минорной тональности — даже несмотря на обещание, что «Богородица белый расстелет над скорбями великими плат». Во второй части стихотворения:
Можжевельника запах сладкий
От горящих лесов летит.
Над ребятами стонут солдатки,
Вдовий плач по деревне звенит. —
описываются звуки прощаний, которые напоминают, что у этого марша есть трагическая подложка. Вспомним, как Ахматова обращалась к тому же стихотворному размеру в одной из частей «Реквиема»:
Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
При отчетливо минорных, трагических тонах текста ахматовская интерпретация «Прощания славянки» как прощания с теми, кто уходит на смерть, легко может быть услышана как музыкальная основа и этого стихотворения.
Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти, —
Пусть в жуткой тишине сливаются уста,
И сердце рвется от любви на части.
И дружба здесь бессильна, и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.
Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие — поражены тоскою…
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.
Стихотворение 1915 года с посвящением Н. В. Н., Николаю Владимировичу Недоброво, который помимо личной близости к поэтессе ценен нам и в качестве необычайно проницательного критика ее поэзии. В том же 1915 году он написал до сих пор цитируемую статью, в которой убедительно разъяснил, что за хрупкой декадентской миной многих поэтов, в частности Ахматовой, скрывается властная личность, железная дисциплина и четкая художественная логика.
Стихотворение «Есть в близости людей заветная черта…» — несомненный хит поэтессы, и это как раз фирменная Ахматова: стихи о нелюбви. Оно очень интересно и в идейном плане, и структурно, и интертекстуально.
Его центральная идея — очень ярко выраженное «нет»: «не бьется». А конкретизировано это «нет» через образ непереходимой черты. Этот образ иногда возводят к Достоевскому, к «Преступлению и наказанию». Параллель возможная — тем более, что Ахматова объявляла Достоевского главным для нее писателем, — но не обязательная: все-таки переступание-непереступание черты здесь не носит криминального характера.
Интереснее, как мотив черты воплощен в стихотворении. Прямым формальным носителем темы непереходимой черты сделаны в стихотворении анжамбеманы, или стиховые переносы — конфликты между синтаксической незавершенностью и стиховой завершенностью строк Обычно это значит, что строка закончилась, но читатель остро чувствует, что предложение не завершено и будет договорено в следующей строке..
Начинается это довольно скромно. В первой строфе анжамбеманов нет, — ну разве что тире в конце второй строки, означающее, что предложение будет продолжаться. Во второй строфе анжамбеманов уже два — года | счастья и рифмующееся с этим далее чужда | истоме. А в третьей строфе анжамбеманы достигают максимума. В первой строке это перебой ее | достигшие — тут, кстати, речь непосредственно идет о черте, «достигшие ее» — это «достигшие черты». А в предпоследней строке, почти невозможной в классическом стихе, есть перенос отчего мое | не бьется сердце — да еще и осложненный порядком слов: «мое» отделено от «сердце». Здесь двойное нарушение нормального порядка и нормального проведения черт.
Таким образом, постепенное систематическое нагнетание переносов, то есть форсированных переходов черты, завершающееся почти невозможной конструкцией, непосредственно, наглядным рисунком — как говорят в поэтике, иконически — выражает тему переходимости-непереходимости черты. Подобная игра с переносами может достигать в поэзии, особенно авангардной, большой напряженности, вплоть до почти хаотического нарушения нормы. Но Ахматова, конечно, неоклассик, и у нее все строго замотивировано, все строго регламентировано, все опирается на традицию.
Сама тема стихотворения более-менее непосредственно отсылает к почитавшемуся Ахматовой Иннокентию Анненскому, к стихотворению «Два паруса лодки одной» 1904 года:
Нависнет ли пламенный зной,
Иль, пенясь, расходятся волны,
Два паруса лодки одной,
Одним и дыханьем мы полны.
Нам буря желанья слила,
Мы свиты безумными снами,
Но молча судьба между нами
Черту навсегда провела.
И в ночи беззвездного юга,
Когда так привольно-темно,
Сгорая, коснуться друг друга
Одним парусам не дано…
Перекличка, конечно, очевидная. Но через голову Анненского и вообще Серебряного века Ахматова смотрит и дальше, назад к Пушкину, постоянной темой которого были всякого рода совмещения: страсти и бесстрастия, свободы и несвободы и так далее; изображение бесстрастной страсти, любви и без надежд, и без желаний.
Поэтому закономерно заимствование у Пушкина лейтмотивного образа непереходимой черты и самой вводящей его синтагмы — подлежащее «черта» плюс сказуемое «есть». Сравним:
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
Но если у Пушкина недоступная черта разделяет поэта и его умершую в далекой стране давнюю возлюбленную, то у Ахматовой эта черта присутствует и в самой интимной близости любящих. Что же касается ключевого словосочетания «заветная черта», то и оно встречается у Пушкина в другом его прощании с бывшей возлюбленной:
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют… Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди…
Самое поразительное — это то, как тематические и словесные интертексты сочетаются в ахматовском стихотворении с заимствованиями структурными. В одном стихотворении Пушкина речь идет о черте, о ее переходе, о ее недоступности, а в другом — пока не упоминавшемся — обнаруживается тот анжамбеман, который, по всей вероятности, послужил прототипом кульминационного анжамбемана Ахматовой. Я имею в виду одно из самых знаменитых страстно-бесстрастных стихотворений Пушкина — «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» Сравним:
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.
и
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.
Разумеется, Ахматова усиливает пушкинский эффект. У него всего лишь «оттого», а у нее еще и «отчего мое».
Главное же — переосмыслена основная соль концовки: у Пушкина, несмотря на паузы и общую сдержанность тона, даже в разлуке сердце горит и любит. У Ахматовой же недоступная черта разделяет героиню и присутствующего тут же партнера, любовника, под рукой которого находится ее сердце, каковое, однако, не бьется. Ситуация эта в поэтическом мире Ахматовой нередка, вспомним: «Как не похожи на объятья / Прикосновенья этих рук», «Он снова тронул мои колени / Почти не дрогнувшей рукой», «Как беспомощно, жадно и жарко гладит / Холодные руки мои».
Итак, в стихотворении налицо тематическая цитация из Пушкина, а стержнем композиции служит заимствованный у него же (и развитый) формальный эффект. Ахматовский текст как бы растянут между содержательной цитатой из одного стихотворения — главным образом, «Под небом голубым…», которое задает тему черты, — и структурной цитацией из другого стихотворения, «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», которое поставляет иконический эквивалент этой темы — игру с остановками и переходами, воплощающую тему черты и перехода-неперехода.
Сама же разработанная таким образом тема является одним из инвариантов То есть центральных тем, в том или ином воплощении пронизывающих почти все творчество автора. ахматовского поэтического мира, который, в свою очередь, представляет собой некую современную и сильно заостренную вариацию на инвариантные мотивы Пушкина, окрашенную в тона горькой, а иной раз и кокетливо-пряной резиньяции Резиньяция — безропотное смирение, отказ от жизненной активности. и отрешенности а-ля Анненский. Стихотворение «Есть в близости людей заветная черта…» — поздний, острый, взрывоопасный, но все же вполне дисциплинированный образец петербургской поэтики.
И последнее. Несколько загадочной и как бы немотивированной остается та жуткая тишина, в которой сливаются уста любовников. Ахматова прославилась как великая поэтесса несчастной, невозможной, так или иначе неосуществляемой и неосуществимой любви — и как автор позднего шедевра под загадочным названием «Поэма без героя», над загадкой которого бьются исследователи.
Но не в том ли дело, что ее любовная поэзия — это последовательная театрализация несуществующей, вымышленной любви героя-мужчины? За ней, вероятно, скрывается подлинная, но не объявленная, таимая от всех и чуть ли не от самой себя любовь к женщинам, лишь изредка прорывающаяся в самых нежных пассажах поэмы, адресованных «Коломбине десятых годов», Ольге Глебовой-Судейкиной. Тогда понятно, что эта поэма — да и многие стихи Ахматовой — поэзия без героя, но с героинями.
В творчестве каждого поэта есть стихи более важные и менее важные — так, во всяком случае, кажется читателю. Но есть и формальный признак, по которому мы делим стихи поэта на две части. Одни он сам предназначил для печати, довел до окончательного, канонического текста, завизировал этот текст и поставил дату окончания работы над ним. А есть стихи, которые остались в рабочих тетрадях поэта, в набросках, в черновиках, когда рядом на листе бумаги существуют несколько вариантов одной строчки, а окончательного поэт не выбрал. Это как бы экспромты, заготовки на будущее. В случае, когда мы хотим войти в поэтическую систему автора, нам эти стихи бывают даже важнее окончательно отделанных стихов — как принято иногда говорить, стихов с установкой на шедевр.
Я хотел бы поговорить подробней об одном из таких стихотворений поздней Ахматовой — несмотря на то что оно как бы незавершенное, как бы случайное и, насколько мы можем судить, изучая рукописи Ахматовой, никогда ею при жизни к печати не предназначавшееся.
Я сказал «поздней Ахматовой». Существуют несколько поэтов, которые, как выразился один критик, занимают в поезде русской поэзии XX века по два плацкартных места. Это поэты, у которых есть ранний и поздний этапы. Физически у каждого долго живущего литератора есть раннее и позднее творчество, но здесь речь идет о конфликте двух этапов поэтического пути. Отношения между ранним и поздним периодами творчества могут иметь драматический характер, представляя собой некоторый сюжет судьбы поэта.
Если и не сам поэт драматизирует отношения «себя раннего» и «себя позднего», то очень часто за него это делают читатели. У некоторых поэтов читатели делятся на два полухория, на две партии. Одна из них — сторонники и поклонники раннего поэта, которые разочарованно, а то и брезгливо относятся к его позднему творчеству. Бывает, что и наоборот. Бывает, что и сами поэты, отчасти откликаясь на эти читательские предпочтения, полемически противопоставляют им значимость своего позднего творчества.
Так было с Пастернаком, который говорил, что всякий поэт должен, разуверясь во всех своих прошлых находках и удачах, впасть в неслыханную простоту, как в ересь. Так было с Мандельштамом, который, как мы знаем из свидетельств его воронежского периода жизни, раздраженно относился к поклонницам стихов из «Камня» — и чем более эффектных, чем более светских стихов, тем больший гнев Мандельштама вызывала эта любовь читателей.
Так было с Ахматовой, которую по сей день многие читатели осуждают за позднюю лирику, говоря, что она перемудрила, уйдя от ослепительной простоты почти фольклорных текстов 1910-х годов, уйдя от словесного жеста в сторону каких-то фантазий, туманностей, чуть ли не вернувшись к поэтике символизма. И конечно, один из самых интересных примеров такого поэтического слома и диалога двух створок поэтического творчества — это Николай Заболоцкий. Он прошел путь от ослепительных, неимоверных, гротескных, изобретательных «Столбцов» — ни на что не похожих в русской поэзии, не поддающихся имитации, несмотря на всю свою заразительность, — к дидактичности, к сознательной, немножко стилизованной простоте, к нравоучительности своих последних стихов 1950-х годов.
Стихотворение Ахматовой, которое я бы хотел в связи с этим рассмотреть, — повторяю, незавершенное, случайное, полузабытое ею — находится в одной из ее записных книжек. Оно написано летом 1961 года.
Ахматова каламбурно сближает название всем известного цветка Viola tricolor — веселого, чернобархатного, окружающего нас в здешней, и особенно в питерской флоре, — со своим именем. Этот цветок Ахматова называла «подглядыватели» — он как бы больше всего годится на роль подглядывателя, соглядатая, постоянно подстерегающего тайные любовные помыслы. Стихотворение такое:
И анютиных глазок стая
Бархатистый хранит силуэт —
Словно бабочки, улетаяЭто бабочки, улетая,
Им оставили свой портрет.
Это набросок. Через какое-то время Ахматова возвращается к нему и дописывает:
Ты — другое… Ты б постыдился
Быть, где слезы живут и страх,
И случайно сам отразился
В двух зеленых пустых зеркалах.
Когда мы начинаем вглядываться в это стихотворение, мы видим, что оно устроено как бесконечное, уходящее в культурную толщу отражение. Дело в том, что образ бабочек, похожих на летающие анютины глазки, Анна Ахматова впервые нашла у любимого писателя ее молодости, любимого писателя всего ее литературного поколения. Это Кнут Гамсун, проза которого научила пишущую русскую молодежь той поэтике, которую потом, спустя два десятилетия, она с удовольствием обнаружила в стилистике Хемингуэя. Это поэтика недоговоренности, поэтика многозначительности, поэтика умолчания, поэтика «подводной части айсберга», если говорить метафорой самого Хемингуэя.
Когда в 1920-е годы Анна Ахматова стала заниматься творчеством своего покойного мужа и литературного спутника, казненного Николая Гумилева, она стала перечитывать книжки, которые когда-то читал Гумилев, в поисках источников его образности. И по пути она вдруг обнаружила, что уже у Эдгара По встречается образ бабочки, похожей на цветок Viola tricolor, на анютины глазки. Но и у Эдгара По это тоже было цитатой из французского поэта XVIII века.
Так Ахматова обнаружила для себя закон литературной бесконечности, закон того, что всякая литературная находка имеет своих предшественников, уходит куда-то в глубину европейской культуры. А иногда и не только европейской: один из спутников ее жизни, очень важный человек в ее биографии, ассириолог Владимир Казимирович Шилейко как раз запоминался всем собеседникам тем, как он моментально устанавливал типологические соответствия между далеко разнесенными во времени и в культурном пространстве текстами: поэзией русского модернизма XX века и вавилонскими текстами. Шилейко и научил Ахматову афоризму, который она потом повторяла, когда стала обнаруживать удивительные совпадения в своей «Поэме без героя»: «Область совпадений значительно шире и богаче области заимствований».
В 1930-е годы друг Ахматовой по литературной школе и литературной юности Осип Мандельштам на вопрос, что такое акмеизм — действительно, загадочное слово, не получившее должного теоретического обоснования, не успевшее развернуться, заклеванное критикой за свою надуманность, неудачность, скороспелость, — отвечал, что это была тоска по мировой культуре.
Эту тоску по мировой культуре Ахматова делает стержнем своих поздних стихотворений. В них «дело вовсе не в любви», как сама Ахматова сказала в одном из поздних стихов. Да, ее поздние стихи обращены к какому-то лирическому адресату, они о женских переживаниях и о всех фирменных психологических находках Ахматовой, сделанных в 1910-е годы. Но вообще это стихи о том, что такое стихи, как рождаются стихи, как они где-то от века существуют и приходят на перо к вынувшим счастливый жребий поэтам, которым дано прикоснуться к этой бесконечной эстафете, к бесконечной веренице словесных перекличек.
Но, конечно, Ахматова не была бы Ахматовой, если бы в этом стихотворении, как и во всех других ее стихотворениях, не было бы заложено загадки. Загадка уже заключается в первой строчке: «И анютиных глазок стая…» Отражение начинается с того, что анютины глазки, конечно, отражают имя автора этого стихотворения, а слово «стая» фонетически кодирует имя адресата этого стихотворения — он носил имя Исайя Речь идет об Исайе Берлине, британском мыслителе, с которым Ахматова встречалась в СССР и Англии..










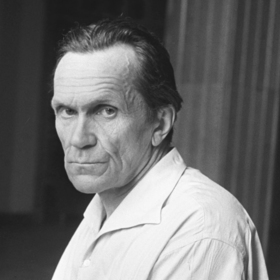


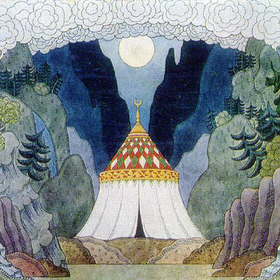


Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости