Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо
- 5 лекций
- 3 материала
Литература, философия, музыка, кино и майские баррикады: чем жила Франция
Литература, философия, музыка, кино и майские баррикады: чем жила Франция
Главной фигурой во Франции конца
Однако двенадцать лет без де Голля (Четвертая республика длилась с 1946 по 1958 год) парламентарный строй и свары между несметными политическими партиями никакой стабильности не принесут, 23 правительства будут по очереди вытаскивать страну из разрухи. И таки вытащат: экономика постепенно восстановится (во многом благодаря помощи приветствуемых в те годы иммигрантов), без работы никто сидеть не будет, цены на товары стабилизируются, рождаемость резко вырастет: это будет пресловутый
Очень помог возрождению нормального быта и американский план Джорджа Маршалла План Маршалла — американская программа помощи Европе для преодоления последствий Второй мировой войны. В общей сложности США выделили 13 миллиардов долларов на восстановление европейской экономики. Франция, в частности, получила 2,5 миллиарда долларов., начавший действовать в 1948 году. Во Францию хлынула гуманитарная помощь: консервы, виски, арахисовая паста, кеды, клетчатые рубашки, а также
Итак, уже в конце
В эти годы французы не устают радоваться жизни, возрождается их пресловутый гедонизм: так, в 1945 году они впервые после долгих военных лет вспоминают радости двухнедельного отпуска на море (дарованного трудящимся еще в 1936 году), а в 1956 году получают также третью неделю в придачу к первым двум. На импровизированных курортах устраиваются конкурсы купальников, а вскоре и вовсе входят в моду раздельные купальники бикини. Железнодорожная сеть не может вместить всех желающих, поэтому французы перемещаются на велосипедах, тогда как «рено» в четыре лошадиные силы, который к
Шарль Трене, популярный автор и исполнитель песен (очень «комильфо», как принято в те годы, то есть запакованный в строгий пиджак и галстук, с цветочком в петлице), вызывает ликование французов своей песней «Море». Но отдых и вообще повышение благосостояния так или иначе связаны с модой, и в 1947 году
Между тем интеллектуальная жизнь французской столицы кипит — всё в том же, самом популярном и весьма посещаемом американцами квартале Сен-
Кафе «Флора» приснопамятно тем, что здесь зимой 1942 года появился
Одной из таких задававших тон фигур была Жюльетт Греко, ученица театральной студии, своим внешним видом (стиль «утопленница») вполне соответствовавшая экзистенциалистскому мировосприятию. Она стала «безмолвной музой» Сен-
Меж тем не всё так радостно в послевоенной Франции: генерал де Голль сводит счеты с бывшими коллаборационистами, следуют чистки и расстрелы (более 30 тысяч человек были казнены). Это касается также писателей, сотрудничавших в годы оккупации с нацистскими газетами и издательствами. А как они могли не сотрудничать? Ведь это была официальная политика французского правительства. В оккупированном Париже создавались новые издательства, открывались старые, немцы заискивали перед французскими интеллектуалами, приглашая их к сотрудничеству — в частности, для перевода немецкой литературы на французский язык. Многие авторы не сочли для себя зазорным сотрудничать с властями: это были, в частности, Марсель Жуандо, Пьер Дриё ла Рошель, Поль Моран, Альфонс де Шатобриан,
К счастью, расстреливали не всех: некоторых просто сажали, а потом либо закрывали дело за недостаточностью улик, либо амнистировали. Так, в
Что же происходило в области театра, этого исключительно массового искусства? В годы оккупации он
В первые послевоенные годы парижские театры охотно ставят пьесы Сартра: это «Мухи», «Грязными руками», «Дьявол и Господь Бог». Ставят Альбера Камю: «Калигула», «Недоразумение», «Праведники», «Осадное положение», написанное специально для
В послевоенные годы столица перестает быть центром театральной жизни, диктатором стиля и форм. К вящему неудовольствию Парижа, происходит децентрализация театра. При поддержке государства в регионах создаются национальные драматические центры, например в Кольмаре, Страсбурге,
Кроме того, явление децентрализации связано с именем Жана Вилара, вставшего в 1951 году во главе Le Théâtre national populaire — иначе говоря, Национального народного театра, который не ждал зрителя в зале, а сам двинулся к нему навстречу, стараясь привлечь тех, кто меньше всего был готов стать театральным зрителем. Театр шел в рабочий пригород, на заводы, в клубы, мэрии, на улицу, максимально снижая цены на билеты. Именно Жан Вилар в 1947 году создал до сих пор пользующийся мировой славой Авиньонский фестиваль. Режиссер предлагал зрителю Шекспира, Мариво, Мюссе — в общем, классику, но также и Бертольта Брехта. В парижском дворце Шайо, где он давал спектакли, Жан Вилар пытался воссоздать атмосферу фестиваля: ни занавеса, ни рампы; широкая авансцена, приближающая действие к лицам зрителей.
Но уже в 19
В целом с 1946 по 1973 или 1975 год Франция переживает так называемые Les Trente glorieuses (Славное тридцатилетие), то есть тридцать лет процветания, которые закончились вместе с мировым нефтяным кризисом. Однако и в эти годы не всё так лучезарно. Дело идет к кризису 1958 года. То, что происходит в области внешней политики, сильно влияет на менталитет французов и положение в стране. Идеологический раскол усиливается прежде всего
Война в Алжире, однако, продолжалась. Де Голль объявил всенародный референдум — это был его излюбленный метод общения с французским народом. 75% французов высказались за предоставление Алжиру свободы, и в марте 1962 года в Эвиане были подписаны наконец долгожданные соглашения. Францию, однако, ждало еще одно испытание: толпы репатриантов вынуждены были покинуть бывшую колонию, где родились, жили и похоронены их предки, и перебраться во Францию, где у них не было ничего. Это был нелегкий период и для
О том, насколько важна для французов философия, можно сделать вывод из следующей истории. В 2015 году вышла книга Лорана Бине, ставшая бестселлером, которая называлась «Седьмая функция языка» (их было шесть по теории структуралиста Романа Якобсона). Это увлекательнейший детектив, в котором действуют видные философы и литературные критики 1980 года, когда погиб под колесами автомобиля знаменитый Ролан Барт, французский структуралист, и коллеги бросились, не считаясь с методами, искать и присваивать его интеллектуальное наследство. Там и Фуко, и Якобсон, и Деррида, и Кристева. Прекрасные, с французским едким юмором, портреты великих философов, некоторые из которых были еще живы.
Французы были в восторге. Потому что во Франции отношение к философии особое. Вот если спросить нашего гражданина, кто выразил сущность русского характера, он чаще всего ответит: Толстой, Достоевский, Чехов. А французы сразу говорят о Декарте. «Мы — картезианцы!» — провозглашают они, повторяя слова мыслителя «Мыслю — следовательно, существую», подразумевая тем самым сомнение в истинности любого явления, использование рационалистического метода при его изучении и необходимость аргументировать и обосновывать любую высказываемую идею. Французы начинают серьезно изучать философию еще в школе. Философов приглашают на телевидение, они становятся там звездами, как Сартр, Фуко или Барт в
Середина ХХ века не обязательно становится линией разлома: если бы не война, этого могло бы не произойти. Человек до и после войны не просто изменился — он стал иначе воспринимать себя в пространстве и обществе, философские идеи XIX и начала ХХ века были поколеблены и подвергнуты сомнению. Философия потребовала пересмотра основных своих положений. Большинство ученых, определивших направление философской мысли в
Однако французское общество
Не забудем, что этот период заканчивается знаковым для Франции и всей Европы событием — майским движением 1968 года. Все философы так или иначе проявили себя в этих знаменательных событиях, которые стали испытанием и для их идей, и для их личности.
Очень трудно говорить о каждом из них в отдельности, поэтому придется иногда забегать вперед или оглядываться назад. Важно подчеркнуть, что эти 20 лет, выросшие из начала столетия, полностью преобразили европейскую и мировую философию. С тех пор, за три четверти века, человечество больше не совершало такого крутого поворота в понимании себя и мира.
Во время войны главенствующую позицию в умах занимал экзистенциализм. Характерной чертой философов-экзистенциалистов, в частности Сартра и Камю, было то, что они выносили свои идеи на суд широкой аудитории (а не только студентов) благодаря своей литературной деятельности. Романы и пьесы этих двух авторов живо иллюстрировали их отношение к человеку и его месту в мире. Основным понятием этой философии является «существование», противопоставляемое «сущности». Другими словами, человек сначала существует, не имея никакой сущности, которую ему предстоит разрабатывать самостоятельно, постоянно делая выбор на жизненном пути. Этот выбор определяет свободу человека, ибо мир лишен какой бы то ни было логики и смысла, он сам по себе абсурден и вызывает у человека лишь тревогу, смятение и страх. Первые герои «Тошноты» Сартра и «Постороннего» Камю были людьми, неспособными создать собственную сущность, что делало их «чужими» для обычного человеческого разума, потому что они не были живыми людьми.
И Сартр, и Камю опубликовали теоретические эссе — «Бытие и ничто» у Сартра и «Миф о Сизифе» у Камю, — где они отрицают существование
Вторым предвоенным направлением философской мысли, тесно смыкающимся с первым, был марксизм. Он был связан в умах с победившим Советским Союзом, с коммунистическим движением в Европе и мире. Во время войны он еще укрепил свои позиции благодаря активной роли французской компартии в Сопротивлении. Но потом наступил 1956 год, состоялся ХХ съезд КПСС, и у многих открылись глаза. Пересмотр отношения к советскому социализму вызвал необходимость ревизии самого марксизма. Эту задачу взял на себя Луи Альтюссер.
Альтюссер поступил в самую престижную Высшую нормальную школу в 1939 году и тут же был призван в армию. Пять лет войны он провел в лагерях, и именно там ему открылись идеи Маркса. Став впоследствии профессором школы, в которой он сам учился, и одним из самых влиятельных философов середины века, он перечитал Маркса, стараясь освободить его от искажений. Альтюссер пользовался непререкаемым авторитетом среди студентов, многие из которых вступили во Французскую компартию под влиянием его лекций и книг, самыми читаемыми среди которых остаются «За Маркса» и «Читать „Капитал“».
Предисловие к книге «За Маркса» Альтюссер начинает с истории, подчеркивая, что философскую мысль развивают исключительно интеллектуалы, которые имеют достаточное образование, чтобы предложить и развить, например, теорию диалектического материализма. Исходя из этого положения, он пришел к интересному выводу, что идеи марксизма стали особенно плодотворными в тех странах, где интеллектуалы были лишены свободы и задавлены властью не меньше, чем рабочий класс. Поэтому марксизм разрабатывали в Германии (Маркс и Энгельс), в России (Плеханов, Ленин), в Италии, но не во Франции. По его словам, «во Франции сама буржуазия была революционной; ей в революции, которую она осуществила, с самого начала удалось привлечь интеллектуалов на свою сторону, а после взятия и консолидации власти ей по большей части удалось удержать их на своей стороне». Интеллектуалы не нуждались в поддержке рабочего класса и не проявляли политической активности. Французская компартия была сильной, но не имела национальной интеллектуальной поддержки. Поддержкой был СССР. Разочарование и опустошение, испытанные французскими коммунистами после разоблачения культа личности Сталина (и еще больше — после событий 1956 года в Венгрии), дали толчок к тому, чтобы отказаться от «теоретической пустоты догматического дискурса» и вернуться к первоисточнику, критически перечитать Маркса. Именно Маркс призывал «покончить с философствованием,
Такое новое прочтение Маркса было бы невозможно, если бы Альтюссер, как и вся интеллектуальная Европа, не находился под влиянием новой науки и методологии, возникшей лишь в ХХ веке, — структурализма. Идеи, породившие его, возникли в 19
Французский структурализм оформился и стал вездесущим в
Таким образом, можно привести следующее определение структуры: «Структура — совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих воспроизводимость при изменяющихся условиях». Например, объект, называемый «книга», должен содержать достаточное количество листов бумаги, соединенных под одной обложкой и содержащих напечатанный текст. Вновь появившаяся электронная книга не соответствует данным параметрам, поэтому либо надо добавлять определение, либо заменять словами «читалка», «ридер» и так далее. Методология, основанная на этом определении, вытесняющая человека из основной зоны исследований (
В 1964 году Луи Альтюссер публикует статью «Фрейд и Лакан» и приглашает в Высшую нормальную школу Жака Лакана для прочтения курса лекций. Он увидел в последователе Фрейда ученого, стоящего на тех же позициях, что и он сам, придающего капитальное значение перечитыванию основополагающего текста и его интерпретации в новых исторических условиях. Текст и язык пройдут сквозной линией через все работы философов ХХ века.
Фрейдизм и психоанализ были еще одним наследием предыдущего века, которое также подверглось пересмотру, как и марксизм. Лакан получил медицинское образование и, интересуясь с самого начала деятельностью человеческого мозга, посвятил себя психиатрии. К 1969 году Лакан уже всемирно известный и всеми почитаемый профессор, член многих академий и приглашаемый по всему миру лектор.
В чем же суть философии Лакана? Он утверждает, что последователи гениального Фрейда так исказили его постулаты и методы, что от подлинного психоанализа осталась лишь малая толика, он стал лишь подобием магического действа на потребу публике. Психоаналитики процветают, как говорил Лакан, «лишь в качестве волшебников и знахарей». Он призвал вернуться к истокам, к подлинной теории Фрейда.
По мнению Лакана, сегодняшний человек постоянно испытывает тревогу и страх
Основой современного психоанализа является речь. Через речь пациента можно выявить те болевые точки, с которыми предстоит бороться. Задача психоаналитика — показать страдающему человеку на основе его собственного повествования, что испытываемые им страхи бессвязны и лишены смысла. Именно диалог лежит в основе процесса психоанализа. По мнению Лакана, бессознательное выражается с помощью языка, каждый элемент бессознательного является частью языковой структуры. Психоаналитик должен проявлять невероятное терпение и упорство для достижения цели, это очень сложный процесс. Новизна философии Лакана состоит в том, что он использовал новый метод структурализма и новый подход к языку, чтобы
Благодаря структурному методу исследования ученым удалось пересмотреть все сложившиеся ранее теории. Оказалось возможным подчинить любую гуманитарную науку строгим правилам, позволяющим раскрыть ранее неведомые горизонты. У первых структуралистов было много последователей, самым ярким из которых стал Мишель Фуко. Он применил методологию структурализма (а позднее и постструктурализма) для изучения науки и культуры. В университете под влиянием Альтюссера он вступил во Французскую компартию, но долго там не продержался, так как идеология коммунистов не принимала его гомосексуальность, которую он не считал нужным скрывать. За годы учебы он серьезно увлекался изучением философии: от Хайдеггера и Гегеля до Ницше и Сартра. Как и Лакан, Фуко начал свою научную деятельность с изучения психики больных в клинике. Где начинается и где заканчивается болезнь? Как научным путем изучать природу человека?
В 1966 году Фуко издает свою основную книгу — «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук». Интересно, что он начинает свою книгу с литературного примера, утверждая, что «китайская энциклопедия», которую Борхес цитирует в одном из своих произведений, побудила его взяться за нелегкий труд. Фуко пришел в восторг от кажущейся полной абсурдности классификации животных, которая была предложена Борхесом:
«Животные подразделяются на: а) принадлежащих императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включенных в настоящую классификацию, и) буйствующих как в безумии, к) неисчислимых, л) нарисованных очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) только что разбивших кувшин, о) издалека кажущихся мухами».
Этот текст его тревожит, потому что в нем нарушена связь между словами и вещами, нарушаются правила языка, который требует связи между одним и другим. Внешняя упорядоченность с помощью букв алфавита создает еще большее замешательство, вызывая в памяти логику (или, вернее, отсутствие логики) у людей, страдающих психическими расстройствами.
Фуко берется за пересмотр прежде всего исторической науки, но интересуют его не столько изменения, происходящие в разных странах в разные эпохи, сколько, по его определению, «их глубинное родство на уровне общих мыслительных структур данного периода». Фуко выделяет в современной истории три основных периода, называя их эпистемами: ренессансная (XVI век), классическая (
От одной эпистемы к другой меняется также роль человека в историческом процессе. В эпоху Возрождения человек был основным объектом исследования всех наук; в век рационализма философия сосредоточила внимание на процессах бытия и мышления, обходя вниманием человека; в современном мире человек сам стремится познать себя, свое тело, свой язык, свою психику. Процесс самопознания, конечно, бесконечен, и современный человек, по Фуко, обречен. Существование современной литературы, в которой поиск неожиданной формы часто важнее, чем создание человеческого образа, доказывает, что он не один так думает.
Зародившись как метод изучения языка и фольклора, структурализм быстро распространил свое влияние на все гуманитарные науки. Но, поскольку язык и речь оставались все время в центре его внимания, исследования языка и речи также продвинулись вперед уже на новом уровне. В частности, борьба развернулась вокруг «новых критиков», которые «осмелились» изучать литературные произведения с помощью структуры языка. Во главе этого направления стоял Ролан Барт — философ, критик и самый знаменитый исследователь письма. Он начинал, как все, с увлечения марксизмом, Сартром; затем вместе с
Первая заметная книга Барта — «Нулевая степень письма». Барт выделяет в написанном тексте некую специфическую литературную форму, которая характеризует не только письмо автора, но и Историю. Язык и стиль, утверждает Барт, недостаточны для создания литературы — важна, как он говорил, «сама форма его [писателя] речи — в ее языковой обыкновенности и стилевой неповторимости», которая «вплетается наконец в необъятную Историю других людей». Эта форма включает в себя и ритм, и тональность, и моду — то, что можно было бы назвать веянием времени.
До сих пор широко обсуждается статья Барта, получившая провокационное название «Смерть Автора» и посвященная «десакрализации образа Автора». Барта приводит в ярость традиционная литературная критика, опирающаяся на изучение жизни писателя, фактов его биографии. Если интерпретировать текст Пруста исходя из его гомосексуальности, а текст Мопассана — имея в виду его смерть в сумасшедшем доме, то это не будет ни критикой, ни интерпретацией. Текст создается из множества источников, которые автор может даже не осознавать: по Барту, «говорит не автор, а язык как таковой». И самое главное — вывод: текст как результат письма возникает каждый раз заново в голове каждого читателя, который к тому же прочтет его
Барт, как большинство интеллектуалов того времени, придерживался левых взглядов и решительно критиковал буржуазную мораль и все ее проявления. Он тщательно изучает все стороны современной жизни и публикует сборник эссе под названием «Мифологии». Миф, по мнению Барта, не исчезает никогда. И сегодня его широко используют в рекламе, в кино и просто в жизни. Миф — это особый вид дискурса, который, с одной стороны, скрывает свою идеологическую интенцию, а с другой стороны, не может существовать без нее. Так, простой рассказ о китайских палочках превращается в миф в тот момент, когда Барт противопоставляет их вилке и ножу, этим жестоким металлическим «зубам», которые рвут еду на части, вместо того чтобы аккуратно и нежно подбирать ее с тарелки палочками. Вот она, звериная сущность европейца! Или миф о бифштексе и жареной картошке, которые французы воспринимают как предмет национальной гордости. Если масскультура использует мифы для одурачивания и завлечения потребителя, то Барт — для разоблачения власти, которая эту масскультуру насаждает. Понимая, что буржуазную идеологию, являющуюся одной из форм власти, не побороть, Барт хочет хотя бы выставить ее напоказ, разоблачить. Вспомним Дебора и его понятие «общество спектакля»: тут они смыкаются.
Проблема идеологии и любых проявлений власти была для Барта основной. Он анализировал идеологию с дотошностью исследователя-аналитика и называл ее «монстром». Она стала основным объектом его критики. Идеология, настаивая на своей универсальности, выражает на самом деле лишь интересы одной группы. Она всегда агрессивна и не терпит ни сомнений в ее истинности, ни тем более критики в ее адрес. Она навязывается всем как обязательная к исполнению норма, не предусматривающая других вариантов. Она безжалостна к противникам.
Такая характеристика властной идеологии вынуждала Барта к тому, чтобы искать пути борьбы с ней на том поле, которое он освоил лучше других, — на поле языка, который от идеологии страдает ничуть не меньше, чем люди. Единственным оружием в борьбе с идеологией Барт признаёт свободу для каждого выбрать тот язык, который соответствует его желанию. Это не было ни реалистичным, ни реализуемым методом борьбы, так как ни множества желаний, ни множества языков ни одно общество не потерпит.
Философы середины прошлого столетия отнюдь не были кабинетными учеными. Сам факт их тесных отношений с Компартией Франции, участие большинства из них в Сопротивлении, споры и обсуждения необходимости или вреда идеологии — все это говорит о том, что они были активными участниками событий своего времени. Решающим моментом этого двадцатилетия стали, безусловно, майские события 1968 года. Была ли философия представлена в тех силах, которые спровоцировали возмущение студентов? На этот вопрос ответили они сами. Одна из первых претензий резолюции студенческого митинга в Сорбонне гласила: «Нам не разрешают изучать Маркса, Сартра и
Одним из вдохновителей студенческих волнений был Ситуационистский интернационал, руководимый Ги Дебором, о котором мы уже говорили. Это он провозгласил создание буржуазией «общества спектакля», в котором потребление становится самоцелью и единственным жизненным устремлением. Дебор утверждал, что капиталистическая система накопила достаточно товаров для того, чтобы можно было ее свергнуть и перераспределить все иначе. Многие приверженцы Дебора (это были наиболее активные, анархистски настроенные молодые люди) вошли в студенческие советы, издавали листовки, призывающие: «Долой государство! Да здравствует революционный марксизм!» Сам Ги Дебор не принял участия в майских событиях (его не было во Франции), но многие из его лозунгов украшали стены домов Латинского квартала. Студенты вспомнили старые призывы: Жорж Батай призывал еще в
Другая группа студентов вдохновлялась идеями экзистенциализма. Если к
Самым активным участником протестов 1968 года был, вероятно, Мишель Фуко. К этому времени у него возникло страстное желание приобрести опыт активных действий. Он организовал захват административных зданий Венсенского университета (по примеру Сорбонны), вместе с 500 студентами строил баррикады и защищал их до последнего. А когда полиция пустила в ход слезоточивый газ, выбрался на крышу и швырял оттуда кирпичи в полицейских. Вместе с ним там был и Глюксман, восхитившийся невероятной смелостью Фуко.
Позиция Луи Альтюссера была наиболее сложной. Прежде всего, он не смог участвовать в массовых волнениях, потому что лежал в больнице с диагнозом «депрессия». Его отсутствие было очень неодобрительно встречено последователями и учениками. «Зачем Альтюссер? Альтюссер ни к чему!» — восклицали они. С другой стороны, активный член Компартии Франции, которая не одобрила майские волнения, считая их несерьезными, неподготовленными и не стоящими на позиции защиты прав пролетариата, Альтюссер не мог открыто заявить о своих симпатиях к молодежи, следовавшей во многом его призывам. Ему пришлось выступить с примиренческим заявлением, которое никого не устроило. Именно с этого момента влияние философа стало неуклонно падать.
Таким образом, можно сделать вывод, что события 1968 года были в большой степени подготовлены всей французской философией, вскормившей бунтарский дух противоречия, а также современными мыслителями, интеллектуалами, которые готовили в университетах тех, кто хотел создать свободного человека в свободной стране.
Французская философия середины ХХ века совершила переворот в умах не только возмутившихся социальной несправедливостью студентов, но и поколебала во всем мире традиционалистский подход к чему бы то ни было. Роль структурализма заключается в том, что никакая последующая критика, никакой переход на новые позиции не умаляют его значимости. Он сам дал возможность продвижения дальше, и не случайно новое направление, постструктурализм, получило лишь приставку «пост» вместо нового определения. Его создатели, Жак Деррида и Юлия Кристева, опровергая многие утверждения своих предшественников, остаются
«Все, что мы видим сейчас… возмутительно отличается от всего, что было раньше» — это в 1918 году сказал Марсель Пруст, «наше всё» для французов.
Для того чтобы разобраться в этих изменениях, взглянем сначала на литературу, которая к этому моменту считалась традиционной. Ее называют моделью Толстого — Бальзака. Автор в этих произведениях — демиург, он создает свой мир, в котором ему все подвластно: и действия героев, и их мысли. Он все объясняет читателю, потому что, кроме него, никто этого сделать не может. Автор знает всю подноготную своего героя, его родственников до седьмого колена, проникает в потайные закоулки его души и все преподносит читателю на блюдечке. И окружающий мир также воспроизводится до мельчайших деталей, дабы соответствовать социальному положению и душевному состоянию героя. Читатель для этих литераторов является послушным учеником, восприимчивым потребителем плодов его труда, последователем его идей.
Классики, которые уже были всемирно известны к началу Второй мировой войны, продолжали свою литературную деятельность. Они
Общая картина, как видно, совсем не была однообразной. Поскольку в литературе, как и везде, ничто не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда, то интереснее всего увидеть в якобы традиционных авторах того времени то, что впоследствии обретет название и станет новизной. Как говорил Марсель Пруст, «каждому произведению нужно самому создавать себе потомков».
Так, Франсис Понж еще в 1942 году пишет книгу «На стороне вещей», где он, желая опоэтизировать вещи, предлагает им самим за себя постоять, отстоять свою независимость от суждения и отношения людей. И это за много лет до появления понятия «вещизм» и романа Жоржа Перека «Вещи». И задолго до появления знаменитого описания Аленом
Ослепительно алая, сочная и упругая мякоть с равномерной плотностью распределена между полоской блестящей кожицы и гнездышком с одинаковыми, как на подбор, желтыми семенами, которые удерживает на месте тонкий слой зеленоватого желе, окаймляющий сердцевину. А сама сердцевина,
Еще более интересным является появление в 1939 году книги Натали Саррот «Тропизмы». И название непонятное, и сами короткие эссе непонятно о чем. Саррот сама объясняет: тексты, входившие в состав ее первого литературного произведения, представляли собой непосредственное выражение очень живых впечатлений, и их форма была столь же непосредственной и естественной, как и те впечатления, которые она вызывала. И только в
Эти примеры показывают, что в это время не было уже писателей, которых можно было бы считать чистыми продолжателями традиций Бальзака — Толстого. Большинство из них были скорее inclassables, то есть не принадлежащими к
В какую школу можно записать Бориса Виана? Бунтаря, музыканта, поэта, автора фантастического романа «Пена дней» и еще нескольких романов и пьес? Почитатели его книг приезжают ему поклониться со всего мира — и совсем не для того, чтобы «плюнуть на его могилу», как говорит название одного из его романов Речь идет о романе «Я приду плюнуть на ваши могилы» (фр. «J’irai cracher sur vos tombes»).. Ему посвящаются литературные недели, когда по всему городу играет его джаз. Борис Виан — мастер игры слов, гений словотворчества — написал один из самых трагических романов о любви.
К какой школе можно приписать Альбера Коэна, который с щемящим юмором, близким к юмору Бабеля, описал живописное еврейское семейство — дядюшек, тетушек, племянников, переезжающих из Греции во Францию? А потом написал роман «Прекрасная дама» («Любовь властелина»), в котором рассказана иная история любви. Его нисколько не сдерживали рамки формальных традиций.
Можно привести в пример фантастический монолог молодой женщины, которая моется в ванне и сама с собой разговаривает обо всем на свете: о прекрасном ухажере, о куске мыла, который выскальзывает из рук, о том, что надеть после ванны, и о сквознячке, которым повеяло из открытой двери. Восемь страниц сплошного текста без единого знака препинания!
А куда можно поместить Ромена Гари? Или, может быть, Эмиля Ажара? Этот мистификатор умудрился дважды получить Гонкуровскую премию под разными именами: оба раза премия была вполне заслужена, и это были как будто два разных писателя. Трудно сказать, какой из них настоящий Гари, — о нем ходит столько легенд! Но «Обещание на рассвете» Гари и «Вся жизнь впереди» Ажара — два прекрасных романа, которые нельзя не читать.
Эти примеры важны и для того, чтобы было понятно, что перемены в литературе середины ХХ века созревали постепенно, исподволь, на них никто особенно и внимания не обращал до поры до времени. Но пришел момент, формальным, внешним признаком которого стала война, превращение человека в нечто, что можно уничтожать миллионами, а потом — кажущееся процветание на фоне полного обезличивания. И все предшествующие труды вдруг ожили, воплотились в реальную, новую, сначала непонятную форму. Как говорил Марсель Пруст, «произведения, написанные для потомства, должны читать потомки».
Статья Ролана Барта «Смерть автора», опубликованная только в 1967 году, не ломала традицию, а лишь подводила итог работы, уже проделанной
В эти 20 лет традиция еще имеет многих последователей, но новое уверенно прокладывает себе дорогу. Они прекрасно сосуществуют, незаметно оказывая друг на друга влияние. К концу ХХ века резкая граница стирается: новаторы начинают писать автобиографические романы, хотя форма их и не традиционна, а те, кто отрицал саму возможность писать
В середине века возникло два литературных явления, о которых надо сказать. Первое было объединением единомышленников и называлось УЛИПО, что является сокращением длинного названия Мастерская потенциальной литературы (фр. Ouvroir de littérature potentielle). Туда входили не только писатели и поэты, но и математики и художники. Основная мысль этой группы заключалась в том, что литература всегда строилась на неких обязательных правилах (например, в поэзии надо соблюдать количество строф, слогов, рифму
Самым знаменитым представителем УЛИПО был Жорж Перек. Он тоже невероятно любил игру. Так, ему удалось написать роман, ни разу не употребив букву «е» — самую употребительную во французском языке. И читатель не замечает этого отсутствия, а потом приходит в восторг, разыскивая в тексте интересные игровые ходы. (Русский перевод этой книги, «Исчезание», сделан Валерием Кисловым, он исключил букву «о», самую употребительную в русском языке, и это был переводческий подвиг.) Главной книгой Перека стал роман «Жизнь способ употребления». Роман построен как дом в разрезе: каждая из 99 глав описывает одну из квартир, это как бы кусочки пазла, который читателю предстоит воссоздать. Там очень много персонажей, много вставных историй и просто жизненных анекдотов. Всё вместе — огромная конструкция, подчиняющаяся правилам, которые неизвестны читателю, но, может быть, откроются ему в конце. Автор предлагает прочесть эту толстую книгу несколько раз: с начала до конца; потом — выбирая главы про одного и того же персонажа; потом — выбирая только вставные истории. И есть читатели, которые эту игру прошли до конца.
Интересно, что в разговоре с современными писателями на вопрос, кто повлиял больше всего на их творчество, ответы были самые разные: от Флобера и Пруста до Гюго и Сартра. Неизменным было одно имя — Жорж Перек. По их словам, именно жажда Перека сделать в литературе невозможное, его словесная акробатика, умение использовать самые разнообразные резервы языка, стиля, жанра (включая кроссворды) — все это вдохновило их
Второе литературное явление объединением не было (существует только одна фотография, на которой можно видеть их вместе), не было и движением (не было никакого манифеста, который провозгласил бы новые принципы творчества), его даже нельзя назвать направлением, потому что каждый представитель этого жанра писал
Отправной точкой, создавшей новую форму письма, стала книга Натали Саррот «Тропизмы». Но лишь почти через 20 лет эта форма понадобилась для того, чтобы выразить новое отношение к человеку и миру. В
В середине
Эти писатели очень разные, но есть нечто, что их объединяет. Прежде всего это желание и необходимость писать иначе, не так, как писали авторы «традиционных» романов, которые строили свои произведения на основе хронологической последовательности (любое возвращение в прошлое было мотивировано и объяснено точнейшим образом); у которых интрига была тщательно разработана, а герои обязательно несколько раз пересекались в жизни (так и говорят о неожиданной встрече: «Ну прямо как в романе!»).
Что же происходит в «новом романе»? Родоначальник, или, как писала французская пресса, «папа», «нового романа»
Вторым радикальным новшеством является отношение к персонажу. Он не просто перестал быть центральной фигурой повествования — он потерял все, начиная с имени. Вспоминая о концлагерях первой половины столетия,
Третье новшество — отсутствие интриги в романе: действие не продвигается от точки, А к точке Б, оно топчется на месте, повторяется с некими вариациями, начинается непонятно как и не заканчивается никак. И, конечно, в «новом романе» нет никакой идеологии, он является противовесом ангажированной литературы экзистенциалистов и марксистов.
Это те новшества, которые в большей или меньшей степени являются общими для представителей «нового романа». Чего же ждать читателю от такой литературы? По мнению
Для примера рассмотрим роман «Ревность»
Хотелось бы еще рассказать об интересном эксперименте
Вернемся к Натали Саррот. Введенный ею в литературу термин «тропизмы» пришел из биологии, где он обозначает неведомую и таинственную силу, которая заставляет головку подсолнечника поворачиваться вслед за солнцем. Для Саррот это слово приобрело другое значение: оно обозначает таинственные неразличимые движения, которые стимулируют наши действия; слова, которые способствуют выплеску наших чувств. «Глубоко запрятанные микроскопические драмы», как она их называла, не осознаваемые человеком, они тем не менее являются движущей силой наших поступков, нашего социального поведения.
Она написала не менее знаменитую «Эру подозрения», где утверждает, что «роман — это постоянно меняющаяся форма», так как ни человек, ни его психология не могут быть зафиксированы раз и навсегда на письме. Персонаж есть зыбкая субстанция, меняющаяся постоянно, а не маска, которую надевали на своих героев писатели предыдущего века. Надо приподнять маску и заглянуть внутрь. Описывая героиню романа «Планетарий» (1959), писатель предлагает читателю лишь многочисленные зарисовки ее реакции на то, что происходит вокруг. А там просто ремонтируют ее квартиру. И вот ее настроение и состояние меняются ежеминутно в зависимости от цвета дверных ручек, от интонации рабочего, освещения от окна
Для того чтобы достичь эффекта постоянного непостоянства на бумаге, Натали Саррот нашла специфическую форму письма. Она ничего не определяет одним четко выбранным словом, как советовал
Другой способ выражения идей «нового романа» был найден Маргерит Дюрас. Спецификой ее письма стало употребление диалогов. Примером может служить небольшой роман «Модерато кантабиле». Героиня возвращается неоднократно в кафе, где, как она знает, произошло убийство на фоне страсти. Она обсуждает возможные мотивы этого убийства и одновременно разрозненные детали своей жизни с рабочим, который, как ей кажется, может ей
Вслед за этим романом вышел ее сценарий фильма «Хиросима, любовь моя». Фильм также был снят Аленом Рене и стал классикой жанра. У героев сценария нет имен — «он» и «она». Весь фильм — это только разговор двух героев, которые говорят одновременно о двух историях любви, смерти, памяти и забвения.
Говоря о «новом романе», нельзя не сказать о Мишеле Бюторе. Этот писатель прожил почти 90 лет, и на его примере можно увидеть, что для многих «новый роман» был лишь стартовой площадкой, раздвинувшей возможности литературы, вдохновившей на различные литературные подвиги. Если
Но самое интересное в романе — не сюжет, а игра со временем и пространством. Поезд продвигается из Парижа в Рим, и время от времени читатель видит глазами героя пассажиров, которые входят и выходят. Герой развлекает себя тем, что придумывает им имена и истории. Но в мыслях он постоянно перемещается то в Париж, то в Рим; то с женой, то с любовницей; то в прошлое (от свадебного путешествия с женой до последней поездки из Рима на прошлой неделе), то в будущее, когда он заживет в Париже с любовницей или когда вернется к жене. Это постоянное перемещение во времени и пространстве, без всяких объяснений и переходов, может сбить с толку начинающего читателя. Но если поплыть по течению следом за мыслями героя, эта игра начинает доставлять подлинное удовольствие.
И наконец, главный мэтр, получивший Нобелевскую премию именно за «новый роман», — Клод Симон. Писатель, которому посвящена специальная книга «Как читать Клода Симона». Писатель, черновики которого представляют собой многоцветную ленту, где каждый оттенок соответствует одному из мотивов в его повествовании.
В 1960 году в издательстве Minuit, где Клод Симон знакомится с Мишелем Бютором и
Что же такого особенного в этом «как», что надо специально объяснять, как надо читать Клода Симона? Ведь он чтит своих предшественников и даже в нобелевской речи напоминает, что новый путь в литературе был открыт Прустом и Джойсом, которые всегда служат ему примером. Ведь он, как и они и любимый им Фолкнер, на первое место ставит язык, в котором каждое слово рождает новые непредвиденные образы.
Конечно, Клод Симон — воплощение эстетики «нового романа». Цветные ленты в его рукописях служили ему указателем того, как лучше перемешать, скрестить, сместить многочисленные темы рассказа. Симон недаром очень ценил Фолкнера: его фраза, так же как у американского писателя, кажется бесконечной, тем более что одним из средств выразительности служит иногда отсутствие знаков препинания. На вопрос, как из текста Золя сделать текст Симона, ответ может быть простой: соединить несколько фраз в одну, убрать все указатели места и времени, убрать все имена и заменить побольше обычных глагольных форм на деепричастия, которые обозначают лишь одновременность действий, а не их последовательность. На самом деле, конечно, все не так просто. Писатель стремится совместить в одном тексте массу образов, картин, поместить туда же все возникающие в воображении ассоциации, передать тот поток сменяющих друг друга впечатлений, который увлекает его самого. Для этого и нужна фраза Клода Симона. Она ведь не просто длинна: автор прерывает ее многочисленными скобками, тире, многоточиями, и деепричастие нужно, чтобы остановить, замедлить время, тщательно выписать каждый отдельный момент.
Клода Симона, действительно, читать непросто, если не понимать, почему и для чего он пишет так, как пишет. К чтению его книг надо быть готовым. Но, как всякое другое преодоление (постижение ремесла или спортивное достижение), завоевание этой вершины доставляет особое удовлетворение. Как говорил Марсель Пруст, «
Официально рафинированный, чистый «новый роман» закончился со смертью последнего из авторов, Алена
И те, кто идет за ними, продолжают игру с читателем. Они его, читателя, тоже изменили. Читатель научился ценить новизну не только сюжета, но и формы, языка книги, он больше не может лениво перелистывать страницы, ожидая, когда все будет ему преподнесено в готовой застывшей форме. Он старается уловить интересные литературные ассоциации, он вынужден больше читать, для того чтобы быть на уровне литературного движения вперед. Нам остается только поблагодарить этих авторов за наше изменение.
Как говорил Марсель Пруст, «таких людей будет выращивать и множить само произведение, оплодотворяя те редкие умы, что способны его понять».
Трудно, а может быть, и невозможно найти
На самом деле это странно, потому что «новая волна» была лишь одним из кинематографических движений рубежа 1950–60-х годов, которые обновили язык кинематографа, его структуру и грамматику. Еще до «новой волны» появилось английское кино «рассерженных молодых людей» и экзистенциальная польская школа, в основном сконцентрированная на реалиях войны и оккупации (это произошло в середине 1950-х годов). Одновременно с «новой волной» дебютировало мощнейшее японское молодое кино во главе с Нагисой Осимой, затем последовало американское подпольное кино, школа Пражской весны, шведская «новая волна», молодое немецкое кино…
Но неизменным ориентиром для всех, кто работает в кинематографе в эпоху после «новой волны», остается именно «новая волна». Объясняется это просто и парадоксально: «новой волны» как бы и не было как единого движения. Есть такое французское выражение l’auberge espagnole — «испанская харчевня». В испанской харчевне можно найти блюдо на любой вкус — просто потому, что посетители этой харчевни приносят еду с собой. Вот и «новая волна» объединяет настолько разных режиссеров, что в ней можно найти действительно все что угодно. От вполне классического сентиментального кинематографа Франсуа Трюффо до парадоксального сюрреализма Жака Риветта; от изощренного письма Алена Рене, которое больше всего напоминает современную ему литературную технику «нового романа», до оголтелых экспериментов Годара с грамматикой кинематографа.
Годом рождения «новой волны» условно считается 1959-й, когда прогремели на Каннском фестивале фильмы Алена Рене «Хиросима, моя любовь» и Франсуа Трюффо «400 ударов». В 1960 году последовал фильм Годара «На последнем дыхании», который считается одним из пяти самых революционных фильмов в истории кино, одним из фильмов, которые, наряду с «Броненосцем „Потемкин“» или «Гражданином Кейном», изменили сам язык кинематографа. Но в тот момент выражение «новая волна» по отношению к кинематографу еще не применялось, хотя это словосочетание бытовало в лексиконе французских массмедиа и французской культуры.
Собственно говоря, впервые про «новую волну» заговорила в 1958 году журналистка и писательница, в будущем — министр культуры Франции, блестящая женщина Франсуаза Жиру. Она имела в виду не кинематограф, а общее омоложение, оздоровление самой общественной атмосферы во Франции в связи с падением Четвертой республики и приходом Пятой. Жиру писала о том, что всё во Франции обновляется, как бы раздается голос молодежи, новые веяния появляются в манере поведения, в моде, в музыке — и на эстраде в широком смысле слова.
И только в конце 1962 года журнал Cahiers du cinéma («Кайе дю синема»), который считался, вернее говоря, теперь считается, штабом и цитаделью именно кинематографа «новой волны», применил это выражение — «новая волна» — к кинематографу.
Сейчас для нас «новая волна» ассоциируется с не более чем дюжиной громких имен — от Годара до Жака Деми и Аньес Варда. А тогда Cahiers du cinéma привел колоссальный список режиссеров «новой волны»: в нем было порядка 160 имен, и «новая волна» понималась крайне расширительно. В участников «новой волны» записывали всех режиссеров, которые дебютировали
Молодость и неопытность стали уже аргументом в пользу того, чтобы человек получил шанс на дебют в режиссуре. В этот момент просто изменились творческие лифты, если можно так сказать по аналогии с социальными лифтами, которые поднимали людей до ранга режиссеров. Если до середины, до конца 1950-х годов во Франции человек, чтобы получить право на первую постановку, должен был подняться по всем ступеням иерархической лестницы киностудий, то есть начинать, грубо говоря, как пятый ассистент помощника третьего оператора, и уже через
Ну, конечно, не совсем с улицы, потому что те, кто входил в самую мощную группу режиссеров «новой волны» — Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Клод Шаброль, Эрик Ромер и Жак Риветт, — хотя кино нигде не учились и на студиях никогда не работали, были профессиональными кинозрителями, то есть они были кинокритиками. И на протяжении шести или семи лет, пока они до перехода к режиссуре высказывались по поводу кино на страницах журнала Cahiers du cinéma, они обретали не рабочий, не пролетарский опыт киностудий, а зрительский опыт. И оказалось, что можно и вот так: смотреть кино, писать о кино, а потом взять и поставить фильм. Это, конечно, была своего рода революция в области кинопроизводства — но все-таки не в области киноязыка.
Режиссеров «новой волны» обычно разделяют на две группы. Мы будем говорить о «новой волне» уже в узком смысле слова, забудем о том, что Cahiers du cinéma относил к числу «нововолновых» режиссеров 160 с лишним человек, включая откровенных ремесленников, которые дебютировали тогда
Был ли у «новой волны»
Еще их называли «бандой хичкоко-хоуксианцев», потому что они страстно пропагандировали на страницах журнала творчество Альфреда Хичкока и Говарда Хоукса — режиссеров, которые для тогдашней французской высоколобой публики ассоциировались исключительно с низким коммерческим кино, с развлекухой. Но авторы Cahiers du cinéma как раз доказывали, что Хичкок и Хоукс — это настоящие художники, это авторы. Термин «автор», «режиссер-автор» был очень важен для поколения «новой волны», хотя на самом деле в этом термине изначально не было ничего мистического и поэтического. Под режиссером-автором подразумевался просто режиссер, который снимает фильмы по собственным сценариям, что тогда во французском кинопроизводстве не было принято. Сейчас это стало вообще рутиной, но тогда режиссер-автор — это человек, который полностью отвечает за свой фильм, он пишет сценарий, он его же экранизирует. И уже потом понятие «режиссер-автор» наполнилось неким возвышенным, поэтическим смыслом: автор — это почти что поэт, автор — это режиссер, который пренебрегает жанрами, который работает вне жанров или на стыке жанров.
Так вот, банду Шерера, молодых янычар, хичкоко-хоуксианцев можно еще назвать «птенцами гнезда Андре Базена», поскольку Cahiers du cinéma был детищем великого — даже не киноведа, не кинокритика, не историка кино, — великого философа кино и вообще великого философа Андре Базена. Он рано умер, в конце 1950-х годов, совсем молодым, в 40 лет, но его действительно как крестного и духовного отца почитали Годар, Шаброль, Трюффо. Для Трюффо он был еще и почти что приемным отцом. Когда молодого хулигана Трюффо призвали в армию, он не хотел ехать на колониальную войну в Алжир. Он дезертировал и обратился к Андре Базену, которого он читал и почитал, не будучи еще знакомым с ним, за помощью — и Базен, в общем, спас его от военной тюрьмы и принял в команду Cahiers du cinéma.
Андре Базен был прежде всего католическим философом. И когда он писал о кино — хотя он блестяще писал о кино и его книга «Что такое кино?» остается, наверное, Библией кинокритики ХХ века, — то говорил прежде всего о метафизике. Кино было для него мистическим инструментом, средством познания высшей истины. Поэтому, в частности, он боготворил Роберто Росселлини, не только отца итальянского неореализма, но и мистика-католика, поэтому он так поощрял интерес своих «птенцов» к Альфреду Хичкоку — поскольку в триллерах Хичкока они все видели мистические притчи о вине и искуплении, о зловещем двойнике, который преследует главного героя.
Но при этом Андре Базен, веря в метафизическую функцию кино, сформулировал чрезвычайно важные вещи — тезис об онтологическом реализме киноискусства, то, что еще называют «теорией мумии», или «комплексом мумии». «Комплекс мумии» — потому что, по Базену, кинематограф как бы мумифицирует реальность. И, по Базену, онтологический реализм кинематографа означал, что экранное изображение, движущаяся картинка — это и есть реальность. Это такая же реальность, как та физическая реальность, что окружает нас. Но это реальность одновременно физическая и метафизическая, и это реальность очень опасная, поскольку она дает широчайшие возможности для манипуляций со зрительским сознанием, для зловредного влияния на зрителей. Поэтому режиссер должен быть предельно честен, должен быть еще вдвойне честнее, чем просто честный человек, когда он снимает кино, потому что с кинореальностью надо обращаться так же бережно, как и с реальной реальностью.
Именно это представление о кинематографе как о второй реальности и представление о том, что кинематограф не делится на игровой и документальный, что кинематограф — это некое единое тело, и представление о том, как скажет позже Годар, что «кино снимает cмерть за работой» (имея в виду, что кино запечатлевает неотвратимый бег времени), — вот все эти представления, впервые сформулированные Андре Базеном, можно считать некоей общей теоретической платформой «новой волны». Потом уже, через несколько лет, в фильме «Маленький солдат» прозвучит знаменитая фраза Жан-Люка Годара, что «кино — это правда 24 раза в секунду». Имеется в виду, что каждый кинокадр — это 1/24 секунды по времени. То есть это представление о кинематографе как о второй реальности и о повышенной ответственности режиссера в его отношении к реальности. В частности, Трюффо говорил: «Как человек я имею право судить, как художник — нет». Вот это можно считать некой общей основой кинематографа «новой волны».
Но было бы ошибкой считать, что именно эта уверенность в онтологическом реализме кинематографа позволила «новой волне» действительно
Дело в том, что кино ведь, наряду с архитектурой, одно из двух «социальных искусств». Это в той же, если не в большей степени индустрия, производство, технологии, чем искусство. Может быть, кино — это искусство даже в последнюю очередь, и в первую очередь — производство, бизнес, политика, пропаганда и так далее. И какими бы прекрасными желаниями ни руководствовались молодые режиссеры, желающие впустить свежий воздух наконец на экран, они не могли бы этого сделать, если бы к концу 1950-х годов не созрели технологические условия.
Дело в том, что только в конце 1950-х годов появились и вошли в широкий оборот легкие камеры, которыми можно было снимать с плеча, можно было снимать на улицах. До этого просто физически было невозможно снимать на улицах. Только в конце 1950-х годов появилась возможность синхронной записи звука, в том числе на улице, на открытом пространстве. И без этих технологических новшеств «новая волна», конечно, была бы невозможна. Она бы осталась совокупностью благих пожеланий, которые будущие режиссеры высказывали на страницах Cahiers du cinéma, и совокупностью проклятий, которые они адресовали традиционному, старому, «папиному» кино.
Можно считать манифестом «новой волны» такую знаменитую (или пресловутую, если угодно) статью Франсуа Трюффо «Об одной тенденции во французском кинематографе», которую, как гласит легенда, Андре Базен несколько лет не решался опубликовать в силу ее радикализма и, только продержав эту статью два или три года в ящике своего письменного стола, решился ее опубликовать. На самом деле, если перечитать эту статью, ничего революционного в ней нет, она скорее контрреволюционна, потому что Трюффо проклинает современное ему французское кино, вот это «кино французского качества», или «папино кино», за то, что оно непочтительно к государственным институтам, за то, что оно непочтительно к семье, за то, что оно снимает фильмы про адюльтеры, про супружеские измены, что на экране высмеивается школа, высмеивается церковь.
Перечитывая эту статью, можно испытать некоторый шок, потому что для нас задним числом «новая волна» кажется, если говорить в политических координатах,
Помимо фракции Шерера, или банды Шерера, которая превозносила Хичкока с Хоуксом, в редакции Cahiers du cinéma была и была так называемая фракция денди-прогрессистов, в которую входили молодые, тоже замечательные, но менее известные режиссеры «новой волны», такие как Дониоль-Валькроз. Они состояли в Коммунистической партии и не на жизнь, а на смерть бились со своими коллегами по журналу, потому что Годар, Трюффо и Шаброль для левой культурной общественности были реакционерами, правыми анархистами, католиками — в общем, такими взбесившимися мелкими буржуа, если использовать ленинскую терминологию. И действительно, если режиссеры «новой волны» в том, что касается их этики, их отношения к социальной реальности, были анархистами, то это действительно был такой правый, если угодно, мелкобуржуазный анархизм.
Кроме желания впустить свежий воздух на экран и веры в онтологический реализм кинематографа, режиссеров «новой волны» объединял культ асоциального действия. Все герои первых, самых лучших, самых громких фильмов «новой волны» — это люди, которые так или иначе, по своей воле или по вине обстоятельств, по вине рока оказываются в противостоянии с обществом. Кино «новой волны» воспевало асоциальное поведение в лучшем смысле слова. Это могло быть бессмысленное воровство и случайное убийство, которое совершал мелкий жулик Мишель Пуакар в дебюте Годара «На последнем дыхании»; или это могло быть нежелание героя другого годаровского фильма, «Маленький солдат», становиться по ту или иную сторону баррикад в атмосфере гражданской войны, которая фактически шла во Франции в начале 1960-х годов: он не хотел быть ни со сторонниками независимости Алжира, ни с фашистскими бандитами из организации OAS OAS (Organisation armée secrète, дословно — «Секретная вооруженная организация») — подпольная террористическая организация, целью которой было сохранение Алжира в составе Франции. Во главе «Секретной армии» стояли офицеры и ультраправые активисты. В 1961–1962 годах OAS организовала ряд крупных терактов и политических убийств, а также несколько покушений на президента де Голля. К 1963 году руководители OAS были арестованы, некоторые из них казнены. и в результате погибал.
Это мог быть стихийный бунт ребенка, которому неуютно в семье и который бежит из семьи, как в первом, прекрасном сентиментальном шедевре Франсуа Трюффо «400 ударов». Это могло быть асоциальное, в общем, поведение золотой молодежи, никого и ничего не уважающей, как в одном из первых фильмов Клода Шаброля «Кузены». Или это мог быть удел человека, который в силу непреодолимого стечения обстоятельств вдруг оказывается в абсолютном одиночестве, без крова над головой, вообще без средств к пропитанию, как в дебютном фильме Эрика Ромера «Знак Льва». То есть это было действительно революционно — с точки зрения драматургии, с точки зрения выбора главного героя.
Впервые в мировом кино появилось движение, которое не просто противопоставляло героя обществу, а не желало примирения героя с обществом. Не желало хеппи-энда. Хеппи-эндов в фильмах «новой волны» не было, во всяком случае в первые годы ее существования. Это было первое кинематографическое направление, которое отменило хеппи-энд. И, наверное, это главное, что объединяло режиссеров «новой волны», поскольку в том, что касается, собственно говоря, грамматики и синтаксиса кинематографа, они были очень разные. Годар действительно поломал все представления о грамматике кино, потому что он не очень хорошо знал, как надо снимать, но он хорошо знал, как не надо снимать, и в своем фильме «На последнем дыхании» нарушил все существовавшие писаные и неписаные законы монтажа, сочинения диалогов, работы с актерами. Или, как Трюффо или Шаброль, режиссеры могли работать в рамках вполне традиционной формы и даже традиционных жанров, это не важно. Главное, что их объединяло, — вызов, брошенный обществу.
Что касается второй группы, которую я упоминал, «Группы Левого берега», то это прежде всего, конечно, Ален Рене, Аньес Варда, муж Аньес Варда Жак Деми, который снимет в 1964 году знаменитый как бы мюзикл «Шербурские зонтики», где впервые в истории мирового кино простые, обычные люди из города Шербура, в общем пролетариат, запоют на экране. Они будут петь самые банальные фразы, но это придаст некую поэзию, некую красоту обыденности. И через этот антиреализм «Группа Левого берега» тоже впускала свежий воздух французской реальности на экран, потому что это была, в принципе, антиреалистическая группа.
Режиссеры «Группы Левого берега» дебютировали в документальном кино, то есть они должны были быть гораздо более трепетными по отношению к реальности, чем Годар и компания. Но тем не менее, когда они перешли к игровому кино, к фикшену, то оказались самыми большими формалистами во французском кино. Скажем, Ален Рене свои первые фильмы — «Хиросима, моя любовь», «Мюриэль, или Время возвращения» и тем паче «В прошлом году в Мариенбаде», поставленный по сценарию лидера «нового романа» Алена Роб-Грийе, — строил словно писатель-модернист, который пишет текст на бумаге, свободно тасуя время и пространство. И одновременно с этим изысканным формализмом, который привнесли в общее движение «новой волны» Ален Рене и его соратники по «Группе Левого берега», в отличие от режиссеров группы Cahiers du cinéma, они были очень ангажированы политически.
С самого начала они обратились к самым жестоким и актуальным политическим проблемам, которые волновали не только французов, но и все человечество. Ален Рене вызвал скандал фильмом «Хиросима, моя любовь», когда совместил в пространстве одного рассказа, одного дискурса две трагедии Второй мировой войны. Одну трагедию колоссальную, глобальную, массовую — атомную бомбардировку Хиросимы, и частную, почти непристойную трагедию французской девушки, которая во время войны полюбила немецкого солдата, а потом этого солдата убили, а девушку после освобождения обрили наголо, объявили немецкой подстилкой и всячески над ней издевались.
Это была колоссальная травма французского сознания, во Франции предпочитали не говорить о таких вещах, предпочитали не говорить об очень жестоких, зачастую кровавых чистках, которые последовали в 1944–1945 годах за освобождением Франции от нацистской оккупации. Но вот Ален Рене посмел уравнять индивидуальную трагедию и трагедию целого народа, трагедию французской девушки и трагедию японского народа. И потом до начала 1970-х годов он становился все более и более ангажированным политически.
Ангажирована политически была и Аньес Варда, которая сняла замечательный фильм «Клео от 5 до 7» — в общем, казалось бы, ничего особенного, бытовая драма. Героиня, певица по имени Клео, ждет результатов медицинских анализов, через два часа должна их получить и узнать, больна она раком или нет, и эти два часа она бродит по Парижу. Но вот ее болезнь становится — Аньес Варда говорит это открытым текстом — метафорой болезни всего французского общества. И метафорой той кровавой войны в Алжире, которую в этот момент вела Франция. А после этого Аньес Варда поедет на Кубу снимать кубинскую революцию. Невозможно представить, чтобы, скажем, Трюффо, или Шаброль, или Эрик Ромер поехали в это время на Кубу — но тем не менее такая прихоть истории, как бы синхронность дебютов объединяет под общим лейблом «новая волна» такие разные группы, как группа Cahiers du cinéma и «Группа Левого берега».
Конечно, какова бы ни была технологическая революция, случившаяся в конце 1950-х годов, «новой волны» бы не было, если бы не было такой удивительной концентрации действительно злых молодых талантов, недовольных современным им кинематографом и буквально ворвавшихся на экран, ворвавшихся в историю искусства, в историю кино ХХ века. И сколь бы разными ни были они, Годар и Трюффо, Шаброль и Рене, Луи Маль и Аньес Варда, все равно — не надо подвергать ревизии их общность, не надо подвергать сомнению то, что «новая волна» существовала. Потому что именно благодаря тому, что они такие разные, вот эта самая «новая волна», как бы и несуществующая, продолжает оставаться на самом деле самым влиятельным движением в мировом кино за последние полвека.
Таким образом, когда поднялась эта «новая волна» в тихой заводи французского кинематографа — более-менее понятно: когда дебютировали режиссеры «новой волны». Когда же она закончилась? Надо сказать, что, как любое кинематографическое движение, «новую волну» хоронили не раз и не два. Но, наверное, можно сказать, что «новая волна» как некая целостность, пусть даже воображаемая, закончилась ровно тогда, когда в Cahiers du cinéma опубликовали колоссальный список режиссеров «новой волны». Конец «новой волны» можно датировать примерно 1963 годом — когда Годар, самый радикальный среди режиссеров «новой волны», совершает, по мнению соратников, предательский жест: он соглашается поставить фильм с огромным бюджетом на большой студии, поставить фильм на литературной основе (по роману Альберто Моравиа «Презрение») и, что самое главное (позор ему, позор!), поставить фильм с такими коммерческими звездами, как Брижит Бардо и Мишель Пикколи в главных ролях. Годара за это прокляли, сказали, что он убил «новую волну», но тем не менее фильм «Презрение», который был снят вопреки всем писаным и неписаным законам «новой волны», остается в истории кинематографа как величайший фильм о кино, как величайший реквием по старому кино, которое так любили авторы Cahiers du cinéma и которое Годар отпел. И, конечно, честь и хвала Годару за то, что в этом фильме он сделал одним из героев великого Фрица Ланга, перед которым он преклонялся, — одного из величайших немецких и американских режиссеров 1920–50-х годов.
Тогда же, скажем, идеи «новой волны», если они существовали, предал и Клод Шаброль, который стал снимать, говоря открытым текстом, черт знает что: фильмы про спецагентов, «Тигр душится динамитом», «Тигр любит свежее мясо», «Мари Шанталь против Доктора Ха». Но в этом, в общем, тоже не было измены «новой волне» — как не было измены и в решении Годара сотрудничать с большой студией, потому что «новая волна» обожала жанровое кино и, снимая вот эти шпионские фильмы, Шаброль просто реализовал то, о чем он мечтал, когда еще был критиком Cahiers du cinéma.
С одной стороны, можно, конечно, сказать, что «новая волна» кончилась к 1963 году, потому что ее предали Годар, Шаброль, Трюффо, который тоже ушел в студийную систему производства. Но, с другой стороны, одним из принципов «новой волны» по большому счету была беспринципность, изменчивость, протеизм. Они не могли предать собственные принципы, потому что эти принципы они придумывали сами. Они сами решали, каким быть кинематографу и какой быть «новой волне».
Для хронологической простоты, для того, чтобы действительно не уходить слишком далеко в хронологические и терминологические дебри, будем считать, что «новая волна» как целостное движение закончилась к 1963 году. Но очевидно, «новая волна» будет жить до тех пор, пока жив последний режиссер «новой волны». А до сих пор снимает и полон сил Жан-Люк Годар. Ему 87 лет, и недавно, когда у него спросили, видел ли он посвященный ему игровой фильм «Молодой Годар», он ответил, что нет, потому что прошлое его не интересует — его интересует только будущее. И в этом Годар в свои 87 лет верен принципам «новой волны», и «новая волна» умрет только вместе с последним ее режиссером.
Важный рубеж был преодолен в 1958 году. Из-за того что правительство Четвертой республики не могло справиться с ситуацией, возникшей в результате войны в Алжире, в 1958 году, опасаясь назревавшей гражданской войны, президент Рене Коти обратился к герою военных лет генералу де Голлю с просьбой вернуться к власти и навести в стране порядок. Тот согласился — при условии, что ему предоставят полную свободу действий. Для решения алжирской проблемы понадобится время, а вот порядок в стране генерал взялся наводить немедленно. Прежде всего была разработана и вынесена на голосование путем всенародного референдума новая конституция; за нее проголосовали 80% французов. Де Голль вообще очень любил спрашивать мнение народа: к этому способу в годы своего десятилетнего правления он прибегнет пять раз. Де Голль избирается президентом новой, пятой по счету французской республики, оказавшейся на редкость стабильной и гибкой, в результате чего она функционирует и по сей день. Новая конституция укрепила роль президента, который отныне избирается не на заседании парламента, а всенародным голосованием сроком на семь лет. На этом посту генерал де Голль пробудет без малого полтора срока, вплоть до событий 1968 года.
Самое главное, что произошло в новое десятилетие, — это решение колониальной проблемы. Почти все французские колонии в Азии, Африке и Индонезии получили независимость. Однако Алжир, которым Франция дорожила больше всего, оказался крепким орешком. В
Однако новое десятилетие принесло Франции бурное развитие и благоденствие. Была проведена денежная реформа, уменьшившая инфляцию: в 1960 году старый франк был заменен на новый в соотношении 1 к 100; правда, французы долго не могли привыкнуть к этому нововведению и продолжали всё пересчитывать в старых франках. Сельское хозяйство было модернизировано, механизировано и переведено на рентабельные рельсы. Вперед рванула промышленность, в особенности такие области, как строительство жилья, черная металлургия, энергетика, телекоммуникации, автомобилестроение, химия и атомная промышленность. Шаги к развитию последней, очень важной области были сделаны в
Развивается в эти годы и сфера обслуживания: так, в
Всё активнее развивается культура досуга, которой французы придают огромное значение, ведь они работают меньше всех в мире и очень этим гордятся: например, рабочая неделя сейчас составляет 35 часов. А тогда увеличился рабочий отпуск: если в
Но не только досуг — вся жизнь Франции в
Кто же были эти кумиры? Самой яркой звездой был и остается Джонни Холлидей, абсолютный
На эстраду повалила молодежь, причем довольно часто приходившая случайно: не обязательно было иметь музыкальное образование. Так, к примеру, совершенно неожиданно взошла звезда красавицы Мари Лафоре (опять вымышленное имя). Она
Однако всё, о чем мы говорили, — это только эстрада, то есть искусство исполнения песен легкого жанра, написанных другими, где текст не столь важен, зато важна музыкальная составляющая: голос, мелодия, аранжировка, аккомпанемент оркестра, в котором звучат новые инструменты (электрогитары, ударные); где появляется новая манера подтанцовывать, введенная Джонни Холлидеем и Клодом Франсуа и подхваченная другими исполнителями.
Так формируется молодежная культура, которой прежде как таковой не было. Формируется и мода для молодых, и новый стиль поведения, и в дальнейшем эта тенденция примет более широкие масштабы. Это будет новая волна мировосприятия, станет модно быть молодым.
Параллельно с молодежной эстрадой во Франции развивалась и другая ветвь сценического искусства — авторская песня. Этот жанр процветал давно, восходил к трубадурам, труверам и менестрелям и продолжал существовать согласно традициям, которые менялись от эпохи к эпохе. Эти песни исполнялись, как правило, самими авторами в кафе, барах, кабаре и
Жак Брель в представлении не нуждается: он не француз, а бельгиец, что во Франции является не козырем, а скорее отягчающим обстоятельством. Но его стихи, которые лучше него никто не пел, столь прекрасны, и он оказался при этом столь замечательным исполнителем и актером (как и Азнавур), что в конце 19
За живое брала и Барбара (ее сценическое имя), одна из немногих женщин в этой области, сочетавшая великолепную поэзию, прекрасную музыку, которую она сочиняла сама, аккомпанемент на рояле (а не на гитаре, как, скажем, Брассенс, который помог ей, кстати, выйти на эстраду) и колдовской голос, низкий и нежный одновременно. Исполняла она только собственные песни.
Жорж Брассенс в
Кроме перечисленных звезд интеллектуального жанра были еще такие величины, как Жорж Мустаки, Клод Нугаро, Лео Ферре, Жан Ферра и многие другие, но для разговора о них надо очень много времени.
«Новая волна» формируется в
В театре в 19
В целом самым главным итогом 19
Но вернемся во Францию. Чем были недовольны парижские студенты? Стилем преподавания, университетскими программами, нехваткой рабочих мест по окончании университета, традиционным французским отбором по успеваемости, новым, неудобным филологическим факультетом в Нантере, условиями проживания в университетском кампусе и унылостью окружающего пейзажа, а также — невозможностью свободного перемещения между мужским и женским общежитием в кампусе. Разумеется, лозунги повстанцев были скорее общесоциальными, чем практическими: «Беги, товарищ, старый мир преследует тебя», «Сорбонна — студентам», «Будем реалистами — будем требовать невозможного», «Под мостовой — пляжи», «Не хотим тратить жизнь на зарабатывание денег», «Заниматься любовью, а не войной». Любви, вернее свободы любви, требовали студенты и за океаном. Уж не с эстрады ли пришел этот лозунг? «All you need is love», как пели The Beatles в





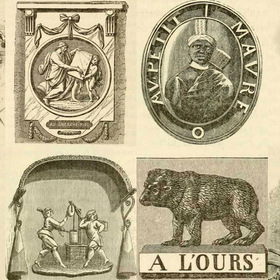
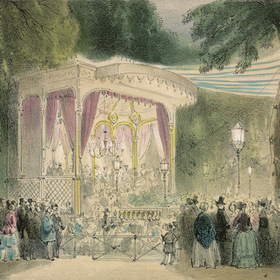



Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости