Саша Айхенвальд: «Важно не то, сколько языков человек знает, а то, есть ли у него что сказать»
Расстрел дедушек и трагическая гибель бабушек, ссылка родителей в Караганду и жизнь отца в сумасшедшем доме, эмиграция и знакомство с людьми, живущими на севере Амазонки и говорящими на редких и удивительных языках. В новом выпуске «Ученого совета» — правнучка знаменитого философа Юлия Айхенвальда и выдающийся лингвист Саша Айхенвальд

Лингвист, доктор наук (2005), специалист по типологии и полевой лингвистике. Автор работ по грамматической типологии, ареальной лингвистике, эвиденциальности, классификаторам, компаративистике, семитским, берберским, аравакским, папуасским и другим языкам. Дочь известного диссидента, поэта, переводчика и критика Юрия Айхенвальда, правнучка философа Юлия Айхенвальда. Окончила отделение структурной и прикладной лингвистики МГУ (1979), работала в отделе языков Института востоковедения РАН. Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Структурная и типологическая классификация берберских языков» (1984). В 1989 году переехала в Бразилию, где занималась полевыми исследованиями языков аравакской группы и ряда других малоизученных и исчезающих языков бассейна Амазонки. С 1994 по 1999 год работала в Австралийском национальном университете. C 2009 по 2021 год была заслуженным профессором и директором Центра исследований языка и культуры (Language and Culture Research Centre), с 2021 года — профессор в исследовательском центре Jawun в Центральном университете Квинсленда (Central Queensland University), занимается полевыми исследованиями папуасских языков Новой Гвинеи и языков бассейна Амазонки и типологией языков.
Автор более двадцати монографий (в том числе грамматических описаний современного иврита, южноамериканских исчезающих языков баре и тариана, новогвинейского языка манамбу), редактор-составитель более 35 сборников статей по типологии, ареальной лингвистике и ряду других лингвистических тем.
Научные интересы: типология, компаративистика, социальная антропология, языки и культуры бассейна Амазонки и Папуа — Новой Гвинеи.
О «черной Кате» и совке
Вот мои самые ранние воспоминания. Я думаю, что это было на даче в Архангельском. Мне, как потом вычислили родители, был год и четыре месяца или около того. И там была большая статуя Екатерины Великой, которую родители
Еще я помню, как у меня сломался совок, а я была на даче, как тогда казалось, далеко от Москвы. Мне было, наверное, года три. Мне обязательно надо было уговорить маму привезти новый совок. Но я не могла произнести «совок» и говорила: «Вок, вок, вок, вок». Мама не понимала. Я помню, что очень разозлилась на нее: как она могла меня не понять? И вдруг я сказала: «Мама, лопатка». Когда я стала лингвистом, мама рассказывала всем, что с той поры она унюхала мои лингвистические способности.
О фамилии Горб и маминой семье

Маму звали Валерия Михайловна Герлин. Бабушка, ее мама, дала ей свою фамилию, а не фамилию отца, которого звали Михаил Савельевич Горб — это был псевдоним. Бабушка, Евгения Семеновна Герлин, решила, что девочке негоже иметь фамилию Горб. И она стала Герлин.
У мамы рано арестовали родителей: отца — как изменника родины, поскольку он был старшим майором НКВД и помощником небезызвестного Молчанова Георгий Андреевич Молчанов (1897–1937) — руководящий сотрудник ВЧК, ОГПУ и НКВД. Один из доверенных сотрудников наркома внутренних дел Генриха Ягоды..

Маму взяли на воспитание друзья ее родителей — Мария Семеновна и Виктор Владимирович Боне. Они мне и были настоящими бабушкой и дедушкой. В ее, а потом и в моем воспитании принимали участие мамина тетя, младшая сестра ее отца, Франя Савельевна Розман, и ее муж, Семен Климентьевич (на самом деле Шимон Калманович) Брудник. Он заведовал отделом финансов на «Мосфильме». А мамина тетка была педиатром и работала в Боткинской больнице. Франя очень любила моего деда и боролась за его реабилитацию — тщетно.
У деда Симы была вполне интересная биография. Он был в свое время комиссаром легендарного Богунского полка Богунский полк — полк, сформированный в период Гражданской войны в России (сентябрь — ноябрь 1918 года) на базе 1-й Украинской повстанческой дивизии и действовавший под командованием Николая Щорса., членом партии «Поалей Цион» «Поалей Цион» («Рабочие Сиона») — еврейская социал-демократическая рабочая партия. Возникла в 1900–1901 годах., но когда эта партия практически слилась с партией большевиков, Симу туда не взяли из-за социального происхождения. Он поменял фамилию с Брудко на Брудник и всю жизнь

Они говорили с удивительным еврейским акцентом, но без ошибок. За всю мою жизнь, я помню, бабушка Франя сделала одну ошибку: она сказала «кушкать». Еще у мамы было два дяди — старший брат ее отца Лев и младший брат Михаил, или Мехл, теплые, приветливые люди. Лев, зубной врач, отсидел восемь лет за брата, а Мехла не тронули. Всю войну он прошел военным хирургом. Они хорошо говорили
В 1949 году, когда шла волна повторных арестов и арестовывали детей так называемых врагов народа Старший майор госбезопасности Михаил Савельевич Горб был арестован 29 апреля 1937 года по обвинению в участии «в антисоветском заговоре в органах НКВД». 21 августа был расстрелян., маму тоже арестовали и сначала выслали в Казгородок. Ее мама, моя бабушка, отсидела свои восемь лет как жена своего мужа и член семьи изменника родины (ЧСИР), как это тогда называлось, и не имела права жить в Москве. Она работала медсестрой у брата мужа, Льва Розмана, во Владимирской области. Но Льва арестовали и выслали, прямо как Сталина в царское время, в Туруханский край. Тогда бабушка приехала к маме, в Казгородок. Потом мама попросилась учиться в Караганду — ей разрешили, и они переехали в Караганду. Каждые десять дней маме нужно было отмечаться в комендатуре, ведь она была ссыльная.
О гибели бабушек и семейных тайнах

Я выросла в окружении семьи мамы. И настоящих, заботливых бабушек у меня было три — мамина опекунша, Мария Семеновна Боне, Франя Савельевна и Валюша, точнее Валентина Сидоровна Дробенок, мамина няня, которую Боне тоже взяли к себе. Не могу сказать, что мамины дядя и тетя были местечковые евреи: да, они говорили с невероятным акцентом, но были образованными людьми. В этой семье считалось, что ребенка не надо огорчать — рассказывать, что дедушку расстреляли, а обе бабушки трагически умерли. Про дедушку говорили, что он уехал — неизвестно, приедет ли, а потом разговор переводился на другие темы. Годам к пяти я поняла, что в это не верю и никакие умершие дедушки и бабушки не вернутся. Мать моего отца умерла в метро от разрыва сердца: ей было 59 лет, меньше, чем мне сейчас. У нее была жутко тяжелая судьба. Она родилась в семье железнодорожных служащих и была арестована по доносу Валентина Астрова Валентин Николаевич Астров (1898–1993) — советский писатель и журналист, участник «правой оппозиции»., которого вывели на чистую воду уже в 1989 году. После смерти Сталина она добивалась реаблитации и вернулась в Москву только в 1959 году. Про это написано в книге моего отца «Последние страницы» (2003), которую нам удалось опубликовать в издательстве РГГУ.
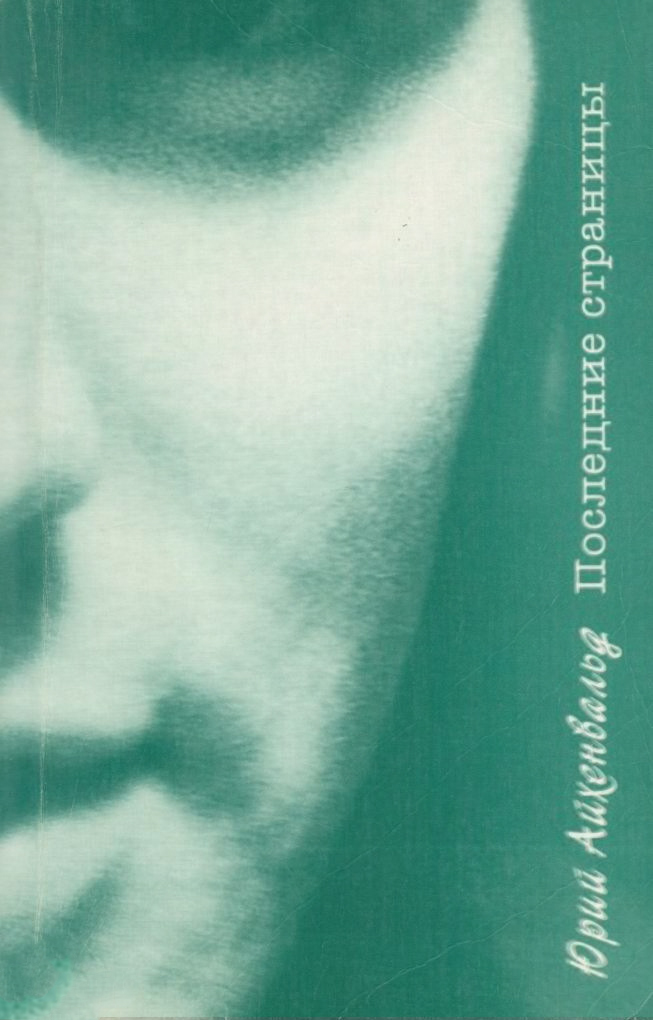
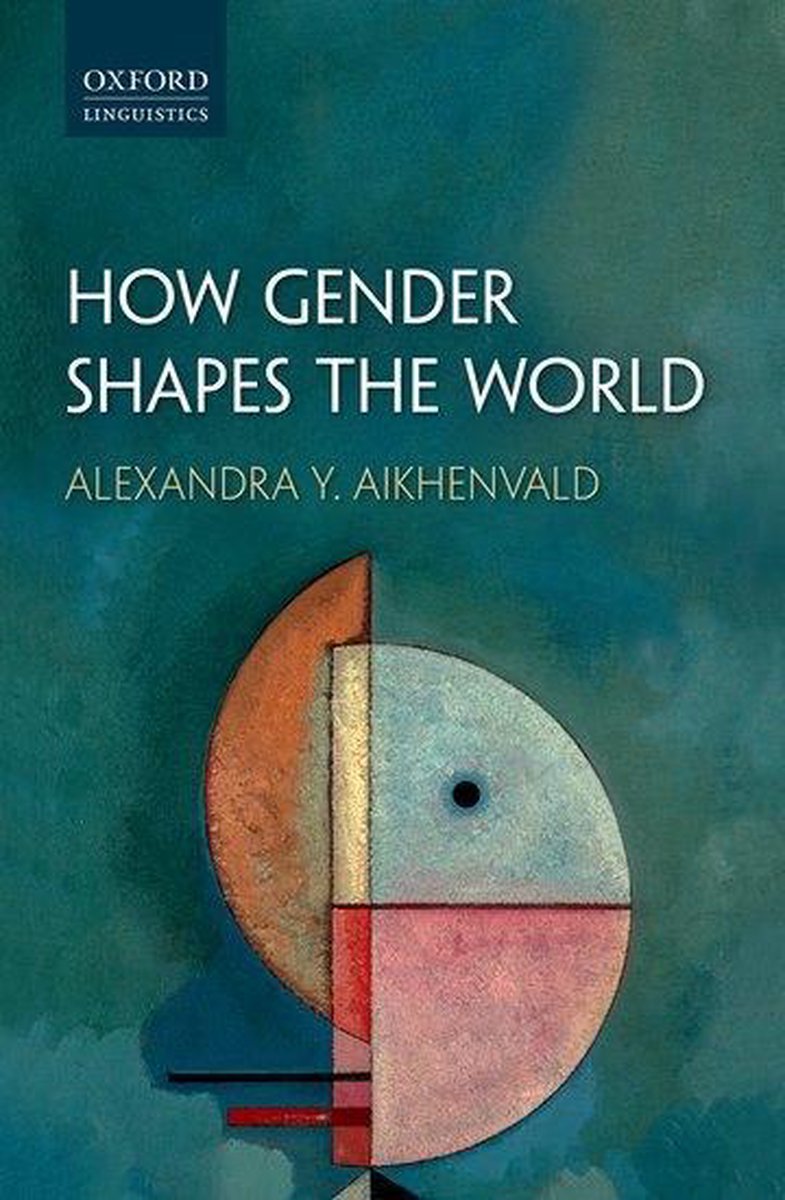
А другая бабушка умерла в возрасте 66 лет от инсульта. За плечами у нее было восемь лет лагерей — она же была членом семьи изменника родины. Когда я стала заниматься гендером и родом, вот тут я оценила роль этих женщин в моей судьбе и жизни. Одну из моих, мне кажется, самых лучших книг, «How Gender Shapes the World», я посвятила Марии Семеновне, Фране Савельевне и еще одной бабушке, Нине Кирилловне Айхенвальд, которую я не знала, но в чьей тени выросла благодаря моему отцу.
О мифологических дедушках

Постепенно прадедушка Юлий Исаевич Айхенвальд и дедушка Михаил Савельевич Горб — из мифологических фигур стали реальными персонажами, и я даже стала время от времени с ними разговаривать. Меня всегда больше тянуло к маминым родственникам, особенно к этому таинственному Михаилу Савельевичу Горбу, потому что я выросла в его семье и он как бы присутствовал в нашей жизни. А семья отца — Айхенвальды — существовала как раз в мифологическом виде, потому что никого не осталось в живых. Когда умерла Татьяна Юльевна Айхенвальд, старшая дочь Юлия Исаевича, мне было четыре с половиной года. Я очень хорошо помню визит к ней: это была огромная, величественная женщина, у нее я впервые в жизни увидела мольберт. Татьяна Юльевна была замечательным учителем математики. Она вышла замуж за скандинависта Александра Ивановича Смирницкого — и я бесконечно дорожу связью с его дочерью, Ольгой Александровной Смирницкой, и ее дочерью Катей.

Потом они развелись. Вторым мужем Татьяны Юльевны был военный инженер — химик, Алексей Николаевич Панченко, по словам моего отца, очень хороший человек, которого потом арестовали и расстреляли. А ее посадили как ЧСИР, и восемь лет она пробыла в лагерях. Там она работала на лесоповале и потеряла палец, после чего ее сактировали. Когда ее выпустили, она поселилась под Карагандой, стала там преподавать математику и английский.
Ее отец Юлий Исаевич Айхенвальд — известный критик и философ — был выслан из России на философском пароходе в 1922 году. Его дети и жена с ним не поехали, а почему — долгая и не вполне понятная мне история. Про Юлия Исаевича есть большое количество работ, и, к счастью, многие в России и за рубежом занимаются его наследием, в том числе замечательная словесница Ирина Кочергина — 24 января 2022 года она устроила вечер его памяти по случаю 150-летия.
О братьях Айхенвальд и уничтожении семьи

Мой отец, Юрий Александрович Айхенвальд, рассказывал со слов своей бабушки, Нины Кирилловны Айхенвальд, что в декабре 1928 года его дед был в гостях у Набокова на Пассауэрштрассе (Айхенвальд и Набоковы тогда жили в Берлине): они планировали совместное издание газеты «Руль» «Руль» — русская эмигрантская газета, выходившая в 1920–1931 годах в Берлине. Редакторами были Владимир Набоков и Иосиф Гессен.. Юлий Исаевич был страшно рад и всем показывал открытку из Москвы с известием о том, что у него родился внук. Возвращаясь домой, Айхенвальд попал под трамвай — он очень плохо видел — и погиб.

Помимо Татьяны Юльевны, у него было еще двое детей. Борис Юльевич Айхенвальд — философ, переводчик, поэт, он писал стихи

А младшим сыном Юлия Исаевича был мой дед Александр Юльевич. У него было парадоксальное мышление, и он пытался во всем дойти до самой сути. Он стоял за социальную справедливость, в 16 лет вступил в партию большевиков, был членом Бухаринской школы и автором первой монографии о советской экономике. Она выдержала несколько изданий, а автору было всего 24 года, когда он ее опубликовал! Он полемизировал со своим отцом, и, мне кажется, отец считал его достойным собеседником. В 1933 году его тоже арестовали по доносу Валентина Астрова и обвинили в правом уклонизме. Потом мурыжили по тюрьмам и ссылкам и расстреляли в Медведевском лесу вместе со многими узниками Орловского централа Орловский централ — одна из крупнейших каторжных тюрем царской России, впоследствии тюрьма Советской России и современной России. После Октябрьской революции в зданиях Орловского централа наряду с уголовниками содержались жертвы репрессий. — Марией Спиридоновой, Христо Раковским и Ольгой Окуджавой. Это было 11 сентября 1941 года: ему было 37 лет. Про это тоже написано в книге моего отца.

О ссылке родителей и их жизни в Караганде
Все эти детали, все эти кусочки я восстанавливала практически всю жизнь: постепенно мы узнавали
.jpg)
Отец был арестован отчасти за родство со своим же отцом-бухаринцем, а отчасти по доносу некой дамы по имени Леля Поликарпова, которая хотела забрать его комнату на Новинском бульваре. Его собирались выслать подальше Караганды, но шел дождь, была омерзительная погода, и он сказал конвойным, что у него тут недалеко живет мама — а она действительно жила под Карагандой. И в 1949 году он появился на пороге ее квартиры. Как и моей маме, ему надо было ездить в Караганду и отмечаться в комендатуре, и однажды он увидел там очаровательную девочку в белом платье. Они познакомились, решили пожениться — потому что их могли разослать по разным местам — и быстро втайне от родственников расписались. Бабушка впала в истерику, и ее утешала Ольга Львовна Слиозберг, которая в Караганде за всеми ухаживала и со всеми возилась.

В те годы там сложился особенный круг ссыльных, центром которого была Ольга Львовна (обо всем этом много говорится в ее книге «Путь»). Всего в этой компании было человек двадцать: писатель Наум Коржавин, математик и диссидент Алик Вольпин, с которым у моей матери был роман до ее ареста, и другие люди. Это был такой особый закрытый мир, где процветала интеллектуальная жизнь.
О том, как Юрий Айхенвальд попал в сумасшедший дом, брошенных богом крысах и трупокомбинате — светоче гуманизма

Фотография была сделана при втором аресте 13 августа 1951 года.© Из личного архива Саши Айхенвальд
Родители правильно сделали, что расписались, потому что в 1951 году отца арестовали по обвинению в участии в сионистском заговоре. Его привезли в Москву и стали допрашивать. Довольно скоро он понял, что жизни в лагере не выдержит: отец был невысокого роста, худой, болезненный. И он решил притвориться сумасшедшим. Еще до этого он разговаривал с Аликом Вольпиным о том, как тот после ареста попал в сумасшедший дом. Алик посоветовал отцу: «Юра, ты просто будь собой». И отец стал писать стихи себе же на радость — я думаю, чтобы его признали невменяемым. Что и произошло: его отправили на принудительное лечение в Ленинградскую специальную психиатрическую больницу на Арсенальной улице (ЛТПБ Больница была открыта в 1951 году и тогда именовалась Ленинградской тюремно-психиатрической больницей (ЛТПБ).). Я, к сожалению, помню не много из тех стихов. Например: «Крысы, брошенные богом, шлеп-шлеп-шлеп — о черепа». И трактат «Трупокомбинат — светоч гуманизма», про который он мне только рассказывал. Эти тексты не сохранились. Отец же их помнил наизусть, как и все свои стихи, — у него была феноменальная память.
О жизни в психушке и начавшихся там дружбах на всю жизнь
Отец никогда не возил меня на Новинский бульвар, к своему старому дому: всегда была
Когда после смерти Сталина началась волна реабилитаций, сразу его, конечно, не выпустили, потому что он считался психически больным. Нужно было пройти одну комиссию, другую комиссию, и это тянулось до 1955 года. Потом он вернулся в Москву. Ему удалось восстановиться в педагогическом институте и окончить его. Как положено дочке будущих учителей, я родилась 1 сентября 1957 года.
О коммунальной квартире на Мейеровском проспекте и интересе к необычным словам

В Москве мама училась в педагогическом институте, потом преподавала в школе, отец работал в средней школе, а параллельно писал всякие литературоведческие произведения и стихи. Их московский круг был очень большой и смешанный: друзья, ученики, диссиденты (хотя сам отец очень не любил, когда его называли диссидентом). Когда мама приехала в Москву, ей сначала ничего не дали — получить жилье было безумно сложно, — и она вернулась назад в Караганду. В конце концов им дали комнату в коммунальной квартире на Мейеровском проспекте Сейчас проспект Буденного..
Жильцов этой коммунальной квартиры я воспринимала как семью, хотя, когда мы оттуда уехали, мне было всего три года. Моей второй мамой была Нина Браун, просидевшая восемь лет в лагере за отца-меньшевика. Она всю жизнь — уже после того, как мы уехали, — меня воспитывала и объясняла, как надо жить. Была еще одна очень интересная соседка — Соня, которую на самом деле звали Соледад Феррейра Реис. Она была из испанских детей Испанские дети — около трех тысяч детей из семей республиканцев, которых в 1937–1938 годах вывезли в СССР во время Гражданской войны в Испании. и
Необычно говорили и мои старики, бабушка Франя и дедушка Сима (мамины дядя и тетя). Только когда им было ближе к девяноста, они рассказали, что их первым языком был идиш. Так получилось, что я принесла им показать мою первую публикацию, переведенную на идиш, и меня потрясло, как Сима без всякого труда читал с листа! А мне этот текст давался с трудом, я ведь тогда только начала учить язык на подпольных семинарах. И наконец, у нас была домработница-татарка, которая использовала
О том, как с помощью шантажа начать учить латынь
В пятнадцать или шестнадцать лет я спонтанно стала собирать фразу «Я не хочу идти в школу» на всех языках, которые могла найти. Подруга нашей семьи, чей муж сидел в лагере со Львом Гумилевым за сотрудничество с немцами, дала эту фразу
У меня была идея, что надо знать три европейских языка — английский, немецкий и французский. Идея расистская, совершенно неправильная и политически некорректная — но мне было восемь лет. И наконец, когда мне было одиннадцать, мне удалось разными способами, в том числе шантажом, уговорить самую близкую подругу моих родителей, Юдифь Матвеевну Каган, чтобы она меня учила латыни. Я пыталась уговорить Юдифь Матвеевну учить меня греческому, но за это она не взялась: греческий я стала учить, уже когда поступила в университет. Бывшая ученица моего отца, а к тому времени близкий друг нашего дома Оля Казакевич согласилась учить меня немецкому языку, а потом, когда мне было лет пятнадцать, — французскому. Оля теперь известный лингвист, специалист по исчезающим языкам, и — как скоро будет ясно — отчасти благодаря Оле я и стала заниматься лингвистикой.
О проблемной фамилии и поступлении в университет

Может, это
Как-то к нам пришла Оля Казакевич и сказала: «Саш, есть отделение структурной и прикладной лингвистики, где мы организуем языковые олимпиады по лингвистике и математике. Почему бы тебе не попробовать?» Я согласилась, пошла на олимпиаду и ни с того ни с сего получила второе место. Задачи и идея заниматься языками мне нравились. Единственной проблемой была математика: я училась хорошо, но мне это было скучно. И опять же, наша близкая подруга Ирина Кристи — математик и диссидент — стала давать мне дополнительные уроки. Таким образом я поступила на отделение структурной и прикладной лингвистики.
О своей тарелке и doublethink
Я оказалась в своей тарелке с совершенно своими людьми — совсем не такими, как в школе. Нашей второй натурой было двойное мышление, как у Оруэлла, doublethink. А может, даже не второй, а первой: всегда было известно, кому что можно сказать. В моей группе было, наверное, четыре-пять человек, с которыми я могла разговаривать о чем угодно. И эти люди стали частью нашего дома. Моя самая любимая подруга Лена Шмелева, Алеша Шмелев (ее муж) и, конечно, Костя Богатырев, который, правда, был на два курса младше. Наше отделение было изолировано от остального филфака, и мы чувствовали, что мы намного умнее, намного лучше, что это такой college.
Но все-таки с фамилией Айхенвальд в университете, особенно на занятиях по истории КПСС и тому подобному, было непросто. Я помню, как один лектор увидел список наших фамилий — моя стояла первой. Это, говорит, что такое? Это, говорит, бухаринцы! Я была готова взорваться, но меня удержала приятельница. В 1973–1974 годах на эту тему лучше было не взрываться.
О тайных уроках иврита и детективных историях
Поступив в университет, я стала увлекаться ивритом. Ходила на нелегальные сборища. Телефоны прослушивались, мы друг другу звонили и говорили
С каждым языком, который я учила, связана своя детективная история. Например, каждый год начиная с моих двенадцати лет мы ездили в Эстонию, которая тогда была частью Советского Союза. И хотя в Эстонии говорили и понимали
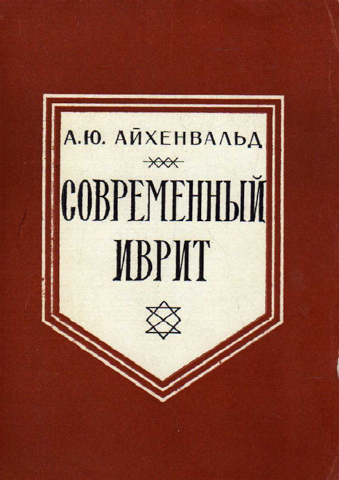
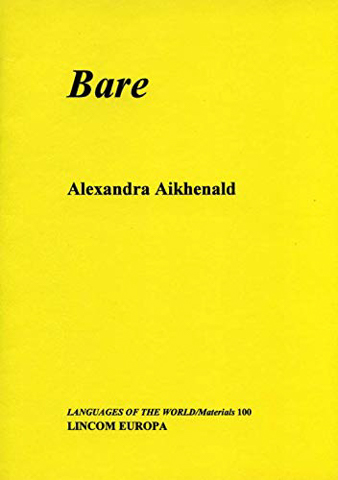
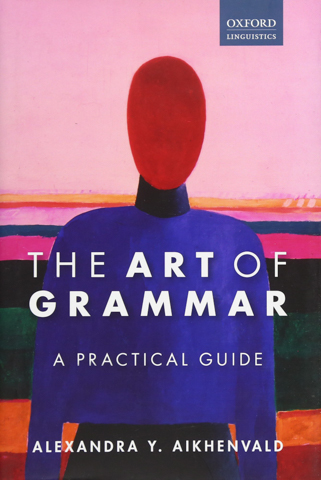
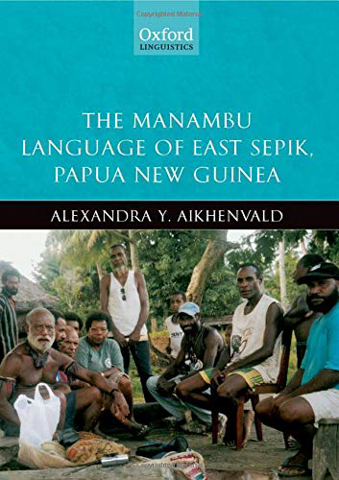
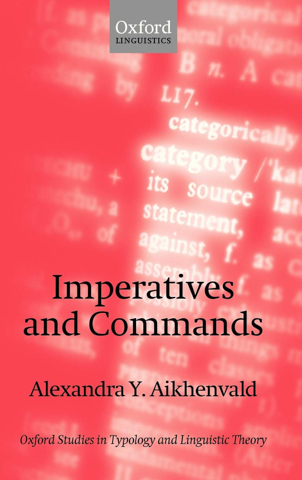
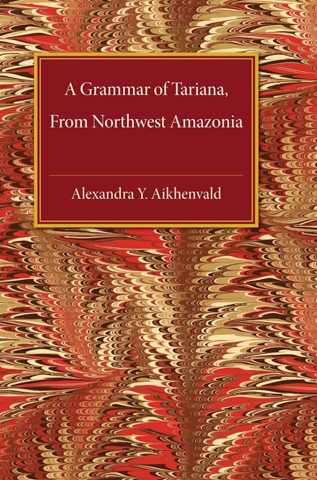
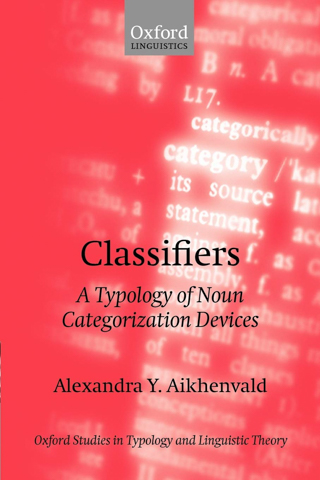
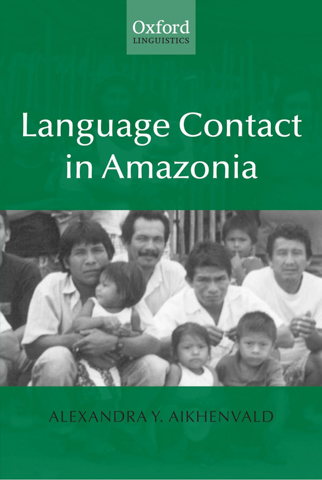
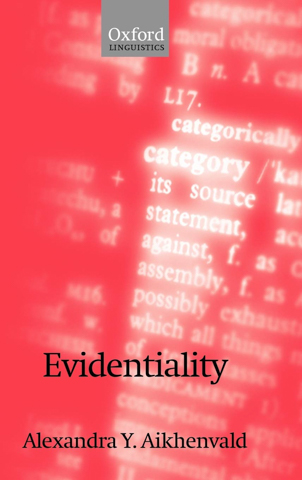

О правильной национальности
Когда я окончила университет, было непонятно, что мне делать и куда деваться, потому что с такой фамилией в аспирантуру попасть было трудно. Но в Институте востоковедения работала Татьяна Яковлевна Елизаренкова, замечательный санскритолог. Ей позвонил заведующий отделом языков Игорь Фридрихович Вардуль и спросил, не знает ли она умных выпускников отделения лингвистики, которых можно было бы порекомендовать. Она, в свою очередь, спросила Андрея Анатольевича Зализняка Андрей Анатольевич Зализняк (1935–2017) — лингвист, академик РАН, доктор филологических наук. Автор работ в области русского словоизменения и акцентологии, а также исследований по истории русского языка, прежде всего новгородских берестяных грамот и «Слова о полку Игореве». Один из основателей Московской школы компаративистики., который был моим официальным научным руководителем. Он велел мне позвонить, мы поговорили, и вдруг он спрашивает: «Саша, извините, что я задаю вам такой вопрос, но какая у вас национальность по паспорту?» — «Ну, русская». — «А, хорошо, а то если еврейка… Вы уж, ради бога, простите». Короче говоря, благодаря тому, что в паспорте у меня была правильная национальность, меня взяли в Институт востоковедения. Но не в аспирантуру — все-таки мешала фамилия, — а стажером в отдел информации. Идея была такая, что потом я переведусь к лингвистам, в отдел языков. В отделе информации надо было писать рефераты статей из западной прессы, и тут оказалось, что я владею исключительно редким языком — немецким. Так что я по работе читала Frankfurter Allgemeine, a другой специалист по немецкому же отвечал за Neue Züricher Zeitung — маленький, плюгавый, очень милый дядечка, он работал переводчиком на Нюрнбергском процессе!
О берберских языках, закрытии Израиля и защите диссертации
В это время я познакомилась с Сашей Милитаревым Александр Юрьевич Милитарев (р. 1943) — филолог и лингвист, специалист в области берберо-канарского, семитского и афразийского языкознания, иудаики и библеистики; один из ведущих исследователей в области сравнительно-исторического языкознания и реконструкции афразийского праязыка., который предложил мне заняться берберскими языками. А меня очень привлекают меньшинства, которые как бы забиты арабским большинством. Берберские языки — это
Завсектором Григорий Шамилевич Шарбатов был еврейский тат. Таты — это ираноязычная группа, которая живет в Азербайджане и делится на мусульман и евреев. Шарбатов скрывал от нас свое происхождение, хотя все, конечно, это знали. Он был очень хитрый и очень умный. Моя покойная коллега, очень хороший лингвист Наташа Соколовская говорила о нем: «Шарбатова могила исправит».
Когда я поступила в отдел, мне нужно было заполнить анкету и указать, какие языки я знаю. И я написала, что знаю библейский древнееврейский. Я написала так, потому что к тому времени я уже учила современный иврит на так называемых подпольных семинарах, о которых рассказывать в институте было нельзя. Но указать в анкете, что я знаю язык враждебного государства, я не могла. Он посмотрел анкету и сказал: «Значит, вам будет легко выучить современный иврит. Вы у нас закроете Израиль». Я подумала: «Господи, не хватало мне только закрывать Израиль — небось, заставят писать письма против израильской агрессии». С другой стороны, я не могла отказаться. И
Я начала писать диссертацию про берберские языки: как устроена их грамматика и как можно классифицировать языки на ее основе. И вот тут началось безумное противостояние Григория Шамилевича Шарбатова: он был арабист и считал, что берберы — это такие арабы, которые не хотят говорить
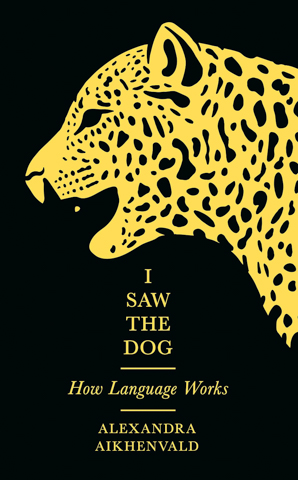

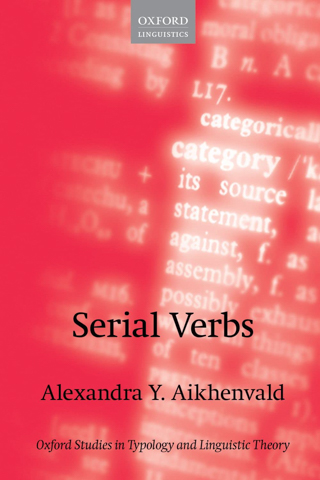
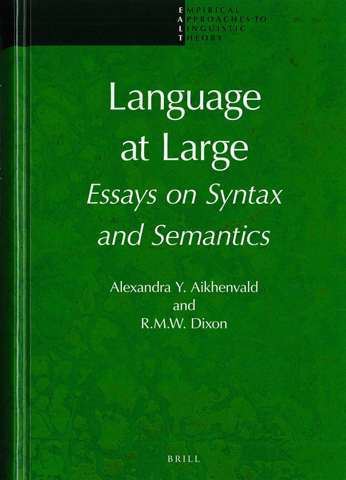
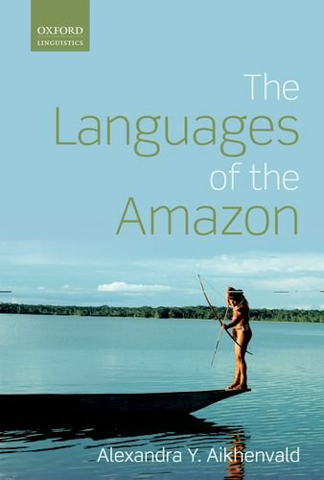
О высылке академика Сахарова, Ирине Кристи и разговорах по-французски на детской площадке
Это был неприятный год, а для нашего дома особенно — в связи с тем, что из-за высылки Сахарова в Горький наша подруга Ира Кристи оказалась в очень тяжелом положении.
Дело в том, что Сахаров довольно откровенно выступал против советского вторжения в Афганистан. В
Об отсутствии будущего в СССР и отъезде
К моменту моего отъезда все наши старики умерли. В 1986 году от лейкемии умер мой кузен, с которым мы были очень близки. Оставались только родители. Отец сказал: «Там тебе будет лучше, а мы к тебе приедем». И они правда приехали. Мне было очень больно оставлять друзей, мне было очень больно, например, что моя подруга Лена Шмелева осталась, а я уехала. Ее мне очень не хватало. В общем, конечно, это было трудное решение, но ситуация в Советском Союзе тогда была совершенно удушающая. Ни у меня, ни у моего сына просто не было будущего в этой стране: я чувствовала, что мы всегда будем гражданами второго сорта. И в
И все же то, что люди уже начинали приезжать, создавало ощущение, что это не навсегда. Потому что, когда в 1972 году началась эмиграция, когда уезжал Алик Вольпин, это было как смерть: все, до свидания, мы больше никогда не увидимся. Тогда мы не знали, что железный занавес приоткроется, а в конце 80-х это уже было понятно. Но все равно в этой стране я жить не хотела.
О Бразилии и расизме
В 1989 году я получила работу в Бразилии. Многие считают, что Бразилия — это одна страна: на самом деле это десять или пятнадцать разных стран. Я оказалась на юге, в штате Санта-Катарина, где все скорее европеизированное. Туда ехали эмигранты из Португалии, Германии (кстати говоря, там большие нацистские поселения), Северной Италии, и внешне я там особенно не выделялась. Единственной проблемой было выучить португальский, но я общалась с самыми разными людьми, и через два-три месяца язык открылся, как цветок.
Университет Санта-Катарины меня удивил своим расизмом: сейчас, может быть, это не так, но тогда там было полное презрение к языкам индейцев. Один мой коллега
Странно: я выросла в расистской стране, где людей из Средней Азии называли «чурки с глазами» и где был страшный антисемитизм. И тем не менее меня неприятно поразило именно отношение людей к индейцам и, как теперь говорят, к афробразильцам.
Об удивительных языках людей, живущих на Амазонке, и переписке в вотсапе

Довольно скоро я поняла, что писать про семитские и берберские языки, будучи в Бразилии, трудно. И я решила найти семью языков, которой можно было бы заниматься здесь. Арион Родригес, главный лингвист, на которого все смотрели как на бога и который потом стал моим близким приятелем, сказал мне, что есть семья на севере, на Амазонке, которая называется аруак (или аравак). Ну хорошо. Есть так есть. Я поехала на север Амазонки и познакомилась с людьми, которые говорили на совершенно удивительных, невероятных языках. Таких языков было три или четыре, и это то, что Бразилия мне дала. Мы вместе сделали словари и педагогическую программу и вообще стали очень близки. Теперь мы как родственники, и они мне посылают сообщения по вотсапу на их языке тариана, иногда просят денег, иногда
Первую фразу я не понимаю, потому что она на другом языке — тукано. В этом районе есть принцип, что можно жениться только на человеке, который говорит на другом языке, то есть чей отец принадлежит к другой языковой группе. Поэтому они говорят примерно на пяти-шести языках. Главный язык сейчас тукано, а не тариана, потому что его миссионеры-салезианцы навязывали детям, пока их отцы были заняты, работая на тех же миссионеров. Остальной смысл такой: «Ты проснулась, выпила свой кофе, ты спишь чересчур много». Потом она говорит: «Вот, у нас все страшно дорого, того немногого, что я получаю, мне не хватает. Governo («правительство») нам ничего не дает. Вот так мы и живем. Я не знаю, буду я завтра есть или не буду. А ты там как? У тебя все хорошо? Ну, до свидания, до завтра».
О пьяном Исмаэле и путешествии на лодке
Тариана живут на реке Ваупес — это приток Риу-Негру, который сам по себе приток Амазонки. И добраться до того места, где живет эта дама Оливия, которую вы только что слышали, нелегко. Надо лететь до Манауса, из Манауса — до Сан-Габриел-да-Кашуэйра. В свое время это был поселок, а сейчас большой город, где живет 20 тысяч человек. Там нужно сесть на моторную лодку. Причем страшно важно, какой мотор: 25 лошадиных сил — это очень долго, 48 лошадиных сил — замечательно, а 120 лошадиных сил — совсем прекрасно, но недоступно. И вот мы садимся на эту лодку — естественно, со всей провизией и моим оборудованием — и от трех до пяти дней плывем на солнце — потом у меня очень часто бывали ожоги. Потом мы приплываем в миссионерский центр Яварате, где как раз живет Оливия. А оттуда нужно еще пару часов плыть в саму деревню, которая называется Санта-Роза. Я не умею плавать, и однажды лодка чуть не перевернулась, потому что наш водитель, один из лучших носителей тариана, был пьяницей и повел лодку не в ту сторону. Все немедленно стали молиться — они большие католики. А потом сообщили мне, что мы чуть не утонули. Разговоры были такие:
— Почему мы чуть не потонули?
— Потому что Исмаэл, видимо, напился накануне.
— Не-не-не. Это потому, что Маргарита, дочка Исмаэла, беременна, а беременную женщину никогда не надо с собой брать.
О том, как сохранить исчезающий язык

Сначала я начала спрашивать слова, а потом записывать истории — мифы,
К сожалению, языки Бразилии в опасности от давления португальского. Так называемые старики — то есть люди от пятидесяти до семидесяти лет — были очень заинтересованы в том, чтобы язык преподавали в школе, чтобы были
Очень многие уже умерли, но все-таки осталось, наверное, человек пятьдесят грамотных, которые говорят хорошо. Иногда они спрашивают, помню ли я
Я не знаю, есть ли будущее у этого языка. Опять же, вы, наверное, меня спросите, что такое «язык умер». Пока есть люди, которые себя с ним идентифицируют, пока есть люди, которым он интересен, пока есть люди, которые
О переезде в Австралию

В начале 1993 года благодаря моему мужу Бобу Диксону я подала заявку на senior research fellowship Что-то вроде позиции старшего научного сотрудника., чтобы заниматься родом и классификаторами в Австралийском исследовательском совете (Australian Research Council). В начале 1994 года мы с сыном Мишей переехали в Австралию — в Канберру. Там мы с Бобом основали Центр лингвистической типологии, но потом нам удалось добиться лучших условий в Мельбурне, и в конце 1999 года мы переехали.
О переключении с одного языка на другой

Каждые две недели у нас бывают семинары. Вчера докладывал бразилец, мой бывший коллега из Университета Санта-Катарины. Он хорошо говорит
У меня есть подруга Мери Веллингтон, замечательная дама из Папуа — Новой Гвинеи. Мы с ней говорим на языке ток-писин, это такой извод английского языка, креольский язык. На нем я могу начать говорить в любой момент и без всяких проблем на него переключаюсь. Или язык тариана. Прихожу домой, получаю на вотсап послание и сразу отвечаю. Тариана я могу использовать в любой момент. А вот если надо писать на иврите, то тут я сижу и грызу карандаш, потому что надо думать, потому что трудно.
О том, что такое знать язык

Так что не могу сказать, сколько языков я знаю: это зависит и от времени дня, и от ситуации, и от уровня. Я учила итальянский, но не могу на нем говорить, потому что португальский все уничтожил. Но читаю я
Знание языка может включать в себя способность выразить все, что ты хочешь, на этом языке — в письменной форме и устно, читать, переводить, знать культуру. Поэтому, если говорить всерьез, вполне возможно, что я ни одного языка не знаю так глубоко, как русский.
О красной кепке, апельсинах и научных открытиях
Вся научная жизнь состоит из маленьких и не очень маленьких открытий. Например, десять лет назад, когда я была на Амазонке, мы поехали в совершенную глушь и даль, потому что мне сказали, что там есть новый диалект тариана. Это было чудовищное путешествие, потому что все время шел дождь. На мне была красная дешевая кепка, с которой текла краска, поэтому было впечатление, что я залита кровью. Нас встретила старуха, которая сказала на языке тариана: «Я не говорю на тариана». Ага, а на чем же ты говоришь? «Я говорю на языке банива. Но я знаю, что вы говорите на одном типе тариана, а здесь говорят на другом типе тариана — я говорю на языке банива». Старуха эта по имени Назарея была очень уж навязчивой и все время подсказывала молодым, что им надо говорить. Она привела меня к своему семейству, они решили, что я голодна, и принесли мне апельсины — я ведь оказалась первым белым человеком, кроме священника, который приехал к ним в деревню. Я села и сразу с ними поделилась — а белые люди в Бразилии так не поступают. Старуха так удивилась, что ушла сажать апельсины, а я стала разговаривать с молодыми людьми. И меня потряс этот язык — смесь тариана и банива — совершенно новый язык!

О том, почему язык — самое главное
Кто-то сказал, что каждый ученый считает свою область самой важной. Я тоже и думаю, что права. Потому что язык — это главное, чем живет человечество, и основа не просто коммуникации, а того, как мы смотрим на мир, того, как мы формулируем то, что хотим сказать. И вообще, кто мы будем без языка? Без языка мы будем хуже, чем Иваны, родства не помнящие. Поэтому то, чем мы занимаемся, — это страшно важно. Если бы мы не описали эти языки, никто бы про них не узнал. Когда они вымрут, та картина мира, которая в них запечатлена, погибнет, и ничего не останется.







