Мария Каленчук: «Думать — это заразно»
Кто такие фонетические отцы и дети, куда исчезают московское и петербургское произношения, как составить словарь ударений и в чем разница между образованностью и культурностью. В новом выпуске «Ученого совета» — фонетист Мария Каленчук

Доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, главный научный сотрудник и заведующая отделом фонетики ИРЯ РАН. В 1978 году окончила факультет русского языка и литературы Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (ныне МПГУ). С 1978 года работала в этом же институте. В 1986 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Особенности реализации согласных фонем на стыках морфем в современном русском литературном языке» (руководитель — Леонид Леонидович Касаткин). В 1993 году защитила докторскую диссертацию на тему «Орфоэпическая система современного русского литературного языка». С 2004 года работает в Институте русского языка ведущим научным сотрудником отдела фонетики. В качестве профессора-совместителя работает на филологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2007 году заняла должность заместителя директора Института по научной работе. С 2017 по 2021 год — директор Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.
Член Совета по русскому языку при Президенте РФ. Член Правительственной комиссии по русскому языку. Член Орфографической комиссии РАН. Председатель Орфоэпической комиссии РАН. Член комиссии по фонетике и фонологии Международного комитета славистов. Член редколлегии журнала «Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова». Заместитель главного редактора журнала «Русская речь». Член редколлегии журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета». Член редколлегии журнала Stephanos (МГУ). Член диссертационного совета при ИРЯ РАН.
Научные интересы: фонетика, орфоэпия, фонология, лексикография.
Об арбатском дворе и семье
Я родилась в 1955 году на Арбате и провела там первые годы своей жизни. Наш дом снесли, когда строился Калининский проспект. Самое раннее воспоминание — двор: он огромный, везде ходят голуби, а я совсем маленькая подбегаю к стае, и птицы взлетают в воздух. У моих детей и внуков уже не было таких дворов, пропало ощущение общности. Сейчас я, конечно, знаю своих соседей и здороваюсь, входя в лифт, но не более. Тогда объединялись и в горе, и в радости — это ушло.
Мои родители были, что называется, среднестатистические для 1955 года. Папа приехал поступать в институт из Магадана. Он был сыном расстрелянного врага народа. Мама — коренная москвичка. У меня была обычная хорошая семья и счастливое детство. Мы бесконечно играли в
О школе Леонида Исидоровича Мильграма

Мне повезло учиться в двух прекрасных школах: в первой я получила очень хорошее базовое образование, а во второй, знаменитой 45-й школе Леонида Исидоровича Мильграма, узнала, что такое свобода и самоуважение. Когда к любому мероприятию прилагается название «элитарный», это для меня уже грубое ругательство, особенно по отношению к системе образования. В то время 45-я школа славилась именно свободомыслием. Там преподавали многие люди, которые относили себя к диссидентству. Директор, Леонид Исидорович Мильграм, собрал вокруг себя совершенно замечательный коллектив людей. Удивительно, что ему дали их собрать, а им дали возможность работать. Когда Мильграм ушел из жизни, все постепенно переродилось в обычное для нас сейчас отношение к образованию.
Помню, у нас была замечательная преподавательница математики Инна Борисовна Гиндина, гроза всех учеников. Я до сих пор безумно ей благодарна, потому что математика в любом случае воспитывает мозги и абсолютно неважно, к какому материалу эти мозги прилагаются. Инна Борисовна была совершенно прекрасным учителем и очень строгим человеком — ничто не прощалось. Тем не менее это было то, что надо.
О выборе профессии и поступлении в институт
Долгие годы я считала, что хочу быть астрономом, и даже сейчас не могу объяснить, почему передумала. Когда пришло время выбирать, кем становиться, я уже повзрослела не то что в интеллектуальном, но в гражданском смысле, поэтому искала направление, которое не нагружено идеологически и позволяет быть собой. Например, история по понятным соображениям не годилась, литературоведение тоже, а вот лингвистика была весьма нейтральной. И я поступила в МПГУ имени Ленина, причем на вечерний факультет, потому что уже на первом курсе родила дочку. В институте я появлялась мало, но получила диплом с отличием.
Есть такой предмет «введение в языкознание», где рассказываются основы разных лингвистических дисциплин. Когда стали говорить о фонетике, фонологии и фонеме, у меня как будто

Дальше судьба сама предоставила мне возможность стать фонетистом, я ничего специально для этого не делала. После окончания института работу мне было найти трудно: родственники за границей, я не член партии. Образовательные структуры в таком случае не принимали. В результате, несмотря на диплом с отличием, я пошла работать лаборантом в МГПИ и даже этому радовалась. И вот
О семинаре Михаила Панова
Михаила Викторовича Панова и Леонида Леонидовича Касаткина в свое время изгнали из Института русского языка за диссидентские взгляды. В первую очередь из-за того, что они отказались подписать письмо поддержки властей после ввода наших войск в Чехословакию. Это была такая статья, что больше их никуда на работу не принимали. Помню, Леонид Леонидович перед защитой докторской попросил меня снять копию с его трудовой книжки. У нас тогда не было ксероксов, приходилось переписывать от руки в двух экземплярах и заверять в отделе кадров. И вот я сидела и переписывала его трудовую книжку. Дошла до строчки: «Уволен как не соответствующий занимаемой должности». И это про великого ученого! Я ничего не могла с собой сделать, у меня рука отказывалась писать эти слова, как будто я сама участвую в некотором предательстве. Умом я, конечно, понимала, какая это глупость, но вместо часа, за который можно было все сделать, у меня ушло полдня.
Эти ученые потеряли кафедру, возможность печататься и выступать. И тогда, объединившись дома у Михаила Викторовича, они создали группу, своего рода клуб по интересам. Это был очень узкий круг людей, около десяти человек, которые обычно собирались раз в месяц, делали серьезнейшие научные доклады, спорили. Велся очень интересный протокол, у меня до сих пор хранятся рукописи. Эти встречи мне столько дали — больше даже
За несколько недель до защиты моей кандидатской Михаил Викторович по просьбе Леонида Леонидовича разрешил мне сделать доклад на семинаре. Я выступила, было очень интересно, шла жесткая дискуссия. Надо сказать, дружба дружбой, а служба службой — поклонов и реверансов никто не делал. Уровень критики всегда был высокий. А дальше произошло совершенно невероятное (причем не только для меня, но и для Леонида Леонидовича): мне предложили остаться.
Потом много лет, до самой смерти Михаила Викторовича, я участвовала в семинаре. Это был самый настоящий подарок судьбы. Первое время мне не верилось, что происходящее реально: я сижу за одним столом с иконами нашей науки, авторами учебников, по которым училась. Вернувшись домой после наших встреч, я даже спать не могла — был такой накал научных страстей. Мне хотелось всю ночь работать, голова продолжала думать. Думать — это вообще заразно и передается по воздуху, поэтому так редко встречаются ученые-одиночки. Чаще именно в научном коллективе единомышленников рождаются
О разнице между образованностью и культурностью

Еще в середине XX века можно было назвать
Что такое норма в языке? Мы говорим, что это правило реализации языковых единиц в речи образованных людей. Я сама так пишу в научных работах, хотя знаю, что это не совсем правильно (или даже совсем неправильно). Мы подменили слово «культурный» словом «образованный». Но что на самом деле значит «образованные люди»? Я уже не раз приводила в интервью одну шуточную фразу, она мне очень нравится: «У него два высших образования, но, правда, нет начального», — сейчас это типичная ситуация. Образованность перестала коррелировать с уровнем культурности, и мы не можем найти новые критерии. Важно ли, сколько у человека высших образований? Или наличие хотя бы одного? Важно ли, сколько человек читает? Между этими вводными и результатом, то есть хорошей речью, нет прямой связи. У меня есть подозрение, что хорошая речь идет скорее от семьи, чем от
О фонетических отцах, детях и внуках
У нас убыстрилась смена языковых поколений. Скажем, на середину XX века нам хватало двух норм произношения: старшей и младшей. Метафорически мы называли их носителей фонетическими отцами и фонетическими детьми. В мировой социолингвистике считается, что смена языкового поколения происходит каждые 25–30 лет: за это время проявляются и устанавливаются новые нормы и закономерности. Сейчас нам уже недостаточно этих двух стандартов: помимо фонетических отцов и фонетических детей, нужны фонетические внуки, а иногда и правнуки. С чем это связано? Во-первых, люди стали дольше жить. Во-вторых, они усваивают особенности произношения и языка в значительно более раннем возрасте. Также языковые закономерности стали меняться гораздо быстрее, чем раньше. Я говорю именно про произношение, но это очень хорошо заметно и в лексике: слова стали гораздо быстрее появляться и исчезать. Это связано с огромным объемом заимствований, очень многое приходит извне. У нас одновременно могут существовать много разных эталонов правильной литературной речи. Представление, о том, что норма — это единственно правильный способ реализации языковой единицы, которое бытовало еще полвека назад, в наше время абсолютный миф и утопия. Норма — это набор вариантов, из которых человек выбирает наиболее подходящий к условиям общения в определенный момент.
О московском и петербургском произношениях

Полвека назад разница между произношением в Москве и Петербурге была чрезвычайно заметной и «била в уши» не только профессионалу. Там, где москвич произносил «щ» («я ищу»), петербуржец произносил «шч» («я ишчу»), там, где у москвича на конце слова были мягкие губные («семь», «голубь», «любовь»), у петербуржца звучали твердые («сем», «голуп», «любоф»). Это было нормой. В середине XX века насчитывали около 19 таких ярких отличий, а затем, с каждым следующим поколением, разница стала нивелироваться. Причины абсолютно понятны: все слушают одно и то же телевидение и радио, а все звучащие средства массовой информации ориентированы на московское произношение. Но
Наш знаменитейший лингвист Александр Александрович Реформатский очень трепетно относился к изменению московской нормы и свою дочку Марию Александровну Реформатскую, что называется, кнутом и пряником приучал к старомосковским нормам. Например, она говорила не «коричневый», а «коришневый». Это осталось с ней на всю жизнь, потому что было искусственно заложено в детстве. Вообще все, что делается искусственно (и в отношении языка тоже), никогда до добра не доводит. Очевидно, такого рода примеры можно найти и среди старинных петербургских семей. Это связано с убеждением, что их норма по определению должна отличаться от московской.
Об открытиях

В нашей стране есть две крупные фонологические школы, которые уже век конкурируют между собой: Петербургская (раньше мы ее называли Ленинградская) и Московская, главой которой, к моему искреннему удивлению, я считаюсь. Любая научная школа может жить только тогда, когда ее идеи развиваются, если
Всегда считалось, что, когда описывается произношение, фонема должна реализоваться
Надо сказать, что в языке законсервировано многое: в нем аккумулируются знания о культуре, истории и так далее. Это в меньшей степени касается произношения, потому что оно не связано с содержанием, но тем не менее. Возьмем, к примеру, производные предлоги «из» и «близ», которые оканчиваются на согласные, парные по глухости-звонкости. Конечный звук в одном из них звонкий («из окна»), а в другом — глухой («блись окна»). Это крайне странно: почему на конце одних предлогов звонкие фонемы выдают глухой звук, а на конце других — звонкий? Как мне представляется, объяснение — в истории. Дело в том, что предлоги, которые мы сейчас называем производными,
О счастье в научной жизни
Вы не представляете, какое это счастье — копаться в фактах, сравнивать, пытаться выявить закономерности, отказываться от того, что ты нашел и чем хвалился вчера. Не один раз мне приходилось опровергать собственные научные утверждения. Я никогда не стеснялась, потому что это было научно оправданно. Вся прелесть препарирования языка в том, что у нас безграничный объект изучения. Язык постоянно меняется. «Живой, как жизнь», — писал Чуковский. У тебя в ушах эта ускользающая, иногда сопротивляющаяся при изучении субстанция. Она делает процесс работы невероятно увлекательным, и я всегда стараюсь это передать своим ученикам.
Об орфоэпическом словаре
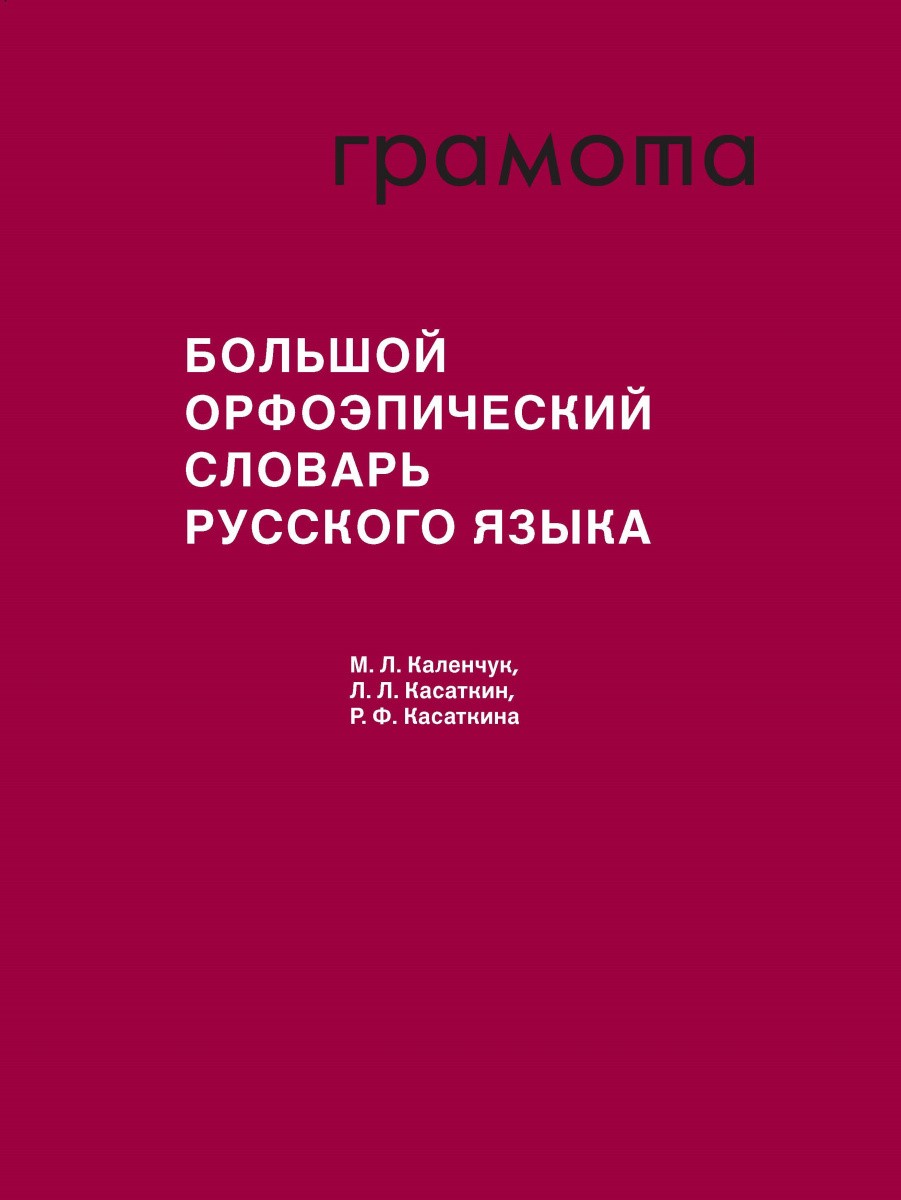
Мне никогда не приходилось преодолевать
О том, как составить словарь ударений
Сначала надо определить концепцию работы. Что мы хотим и как мы будем это описывать? Нужно заложить принципы в самом начале, чтобы не переделывать все в последний момент. Затем нужно составить словник: выловить в разных источниках и окружающей живой речи слова, которые необходимо прокомментировать с точки зрения ударения. Понятно, что «корову» или «собаку» включать в словарь ударений не надо: в произношении этих слов никто не сомневается. Работа по составлению словника очень длительная: идут обсуждения, споры,
Дальше начинается основная работа, когда к каждому слову пишут словарную статью. Самое трудное — это случаи, когда есть варианты. Иногда даже в словаре ударений встречаются очень длинные статьи, потому что у слова может быть много форм, допускающих варианты. При этом надо не просто их зафиксировать, а соотнести их между собой. Предположим, «джи́нсовый» и «джинсо́вый» равноправны, а вот в первом варианте пары «и́наче»/«ина́че» есть небольшой оттенок архаичности — это все надо указать.
О Национальном словарном фонде
Сейчас я возглавляю совершенно новый проект — Национальный словарный фонд. Мы работаем над ним уже несколько лет. Это то, чего у нас, в отличие от других стран, никогда не было. Словари — это действительно богатство нации, неслучайно классики называли их целой вселенной. В словаре удается не просто зафиксировать момент, но и показать преемственность поколений и другие изменения.
Мы отобрали тридцать словарей русского языка разного жанра и, что самое главное, разного времени создания — от XVIII века C точки зрения описания языковой действительности — с древнерусских времен. до наших дней, полностью их оцифровали и вычитали. В интернете многое отсканировано, но чаще пиратским образом — из-за очень плохого качества такими словарями иногда просто опасно пользоваться, по крайней мере для научной деятельности.
Наш словарный фонд будет бесплатным и доступным для всех. Человек сможет в него «нырнуть на разную глубину» в зависимости от своих потребностей. Можно будет, скажем, ввести слово, которое хочется проверить, выбрать один из тридцати словарей и посмотреть статью. Это самый банальный способ использования фонда. Дальше мы хотим, чтобы он давал возможность изучить динамику описания слова в языках. Поскольку у нас используются словари совершенно разного времени, есть возможность создать инструмент для сравнения того, как менялось написание или значение слова, например, от древнерусской эпохи до нашей. Сейчас мы даже не подозреваем, что некоторые слова совсем недавно имели другое значение. Например, слово «бахилы», которое сейчас для нас — «пластиковый мешочек на грязную обувь», на самом деле означает «охотничьи сапоги», и таких примеров много. Люди смогут увидеть всю историю языка сквозь призму этих словарей.
О пользе монотонного труда
Я всегда наблюдала, как мой муж пишет статьи. Вот он сел и начинает: ругается, стирает, опять пишет и так далее. У меня совершенно не такой тип мышления. Сначала я все создаю в голове: мою ли посуду, поливаю ли цветы, глажу ли белье, я думаю об одном и том же. Причем чем монотоннее задачи, тем лучше результаты умственного труда. Когда я сажусь за компьютер, мне остается только записать то, что уже сформулировано в голове.
О том, зачем заниматься фонетикой

Из чисто субъективных и эгоистических соображений — это нужно для удовольствия, а вообще фонетика полезна во многих областях, особенно в наше время. Мы знаем, что есть огромное количество систем, которые могут перевести звучащую речь в письменную, а письменную — в звучащую. Эти задачи по синтезу и анализу звукового сигнала возможно выполнить только тогда, когда детально описаны закономерности произношения. Любая наша ошибка даст сбой в реализации этих программ. Таких примеров применения фонетики в нашей жизни все больше и больше.
Привлечь в область фонетики можно только собственным примером. Когда тебе нравится то, чем ты занимаешься, когда ты балдеешь от процесса (извините за непарламентское выражение), это очень заразно: мы с моими сотрудниками несколько раз в день звоним друг другу и с неподдельным восторгом в голосе рассказываем о
О перестройке и новых границах
Я помню, как Михаил Викторович Панов никак не мог поверить в реальность перестройки. Он все время намечал следующий рубеж (например, если
О сожалениях
Я жалею о том, что очень много лет потратила на административную деятельность в Институте русского языка. Я работала в дирекции шестнадцать лет. Понимаю, сколько людей (это я говорю без рисовки) мне благодарно за эти годы, но время было во многом не на пользу моей научной деятельности. Был момент, когда хотелось все бросить. Ощущение, что за тобой институт, за который ты ответственен, взаимодействие с чиновниками часто вызывали такие мысли, но я понимала: если не готов, не надо браться, а если взялся, так держись.
О самом счастливом дне
Когда я собиралась защищать докторскую, удалось уговорить Михаила Викторовича быть моим оппонентом. Он обычно этого не делал и не любил, но согласился. Мы с ним в то время работали в одном институте. Иногда так бывает, что








