Ольга Попова: «Искусство позволяет понять внутренний мир человека того времени»
В новом выпуске цикла «Ученый совет» специалист по древнерусскому и византийскому искусству — о неудобной польской национальности, младенчестве в Бутырской тюрьме, старинных шкафах в отделе рукописей Ленинской библиотеки, древнерусских фресках из Старой Ладоги и домашнем спецсеминаре

Искусствовед, доктор искусствоведения, профессор кафедры всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Один из крупнейших в мире специалистов по древнерусскому и византийскому искусству, ученица Виктора Никитича Лазарева. В 1968 году окончила аспирантуру на кафедре всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ. В 1973 году защитила кандидатскую диссертацию «Искусство Новгорода и Москвы первой половины XIV века, его связи с Византией».
Научные интересы: проблематика древнерусского искусства в его связях с византийским, стиль византийского искусства как выражение его содержания и смысла, аскетическое направление в византийском искусстве разных периодов, типология образов византийского искусства как отражение различных вариантов религиозного сознания, переходные художественные процессы в византийском искусстве разных периодов.
Об аресте мамы и рождении в Бутырской тюрьме

Родилась я в 1938 году в Москве, в месте весьма необычном: первые несколько месяцев своей жизни я провела в Бутырской тюрьме. Мама была арестована, когда была беременной, причем в самом начале. Правда, ее не пытали: без конца допрашивали, но не били и не пытали. Пытали тех, кто должен был давать на нее показания, — они избитые приходили на очные ставки. Почти вся мамина беременность протекла в «Бутырке». И я считаю, что некоторые из приобретенных мною болезней (а я осаждена недугами) — от тюрьмы.
Обстоятельства маминого ареста были для того времени обычными. Она работала в газете «Труд» — кажется, в библиотеке. «Труд» был тогда крупным изданием — из тех организаций, на которые в те годы ежедневно обрушивались кампании по поиску и разоблачению врагов народа. Один сотрудник по фамилии Туманов дал показания, и так в редакции газеты обнаружилась группа вредителей, в которую входила и моя мама. Пришли за ней, когда она была в ванной, и это ей запомнилось на всю жизнь.
Обвинения всем предъявляли примерно одинаковые, но мама была полька. На допросе следователь назвал ее шпионкой самого Пилсудского. Она на это рассмеялась: «Что вы говорите глупости: где Пилсудский и где я?» А второе обвинение, которое ей предъявляли, — это намерение убить Сталина.
Мама сидела в большой, многолюдной камере вместе с очень разными людьми — и из простого народа, и с женами крупных партийных и политических деятелей. Поначалу она очень проклинала редактора, который дал на нее показания. Но потом им устроили очную ставку. Когда он вошел, она увидела, как страшно, смертельно он был избит. И его очень пожалела. Она поняла, что он не виноват. Никто не виноват.
Потом мама вместе со мной была отпущена. Она никогда не понимала, каким чудом она оттуда выбралась. Много лет спустя мы узнали, что в это время из НКВД убрали Ежова и некоторых арестованных освободили. В нашем случае сыграло роль то обстоятельство, что мама не подписала ни одной бумаги, где обвинение требовало от нее признания.
Очень долго я ничего об аресте не знала: мама скрывала. Я узнала случайно, когда была уже взрослая и все понимала. Проговорился мой дядюшка, и так я узнала не только это, но и другие подробности жизни родителей и семьи, как их преследовали при советской власти.
Мама была очень яркой фигурой. Она была крутая антисоветчица и всему давала очень реальную оценку — в отличие от многих других в ее поколении, завороженных советской властью.
О 5 марта 1953 года
Смерть Сталина для меня одно из самых важных событий. Моя мама, когда это случилось, сказала: «Все кончено: бандит сдох». Она его никогда не называла Сталиным, она всегда говорила «этот бандит». А потом я услышала по радио, что точно такую же фразу сказали в семье Майи Плисецкой: «Бандит сдох».
Об именах
Об отце и его смерти
Первое мое воспоминание — об отце. Я, маленькая, иду по коридору в квартире, а рядом папа. Еще не война. И я иду, а он меня в шутку дразнит и говорит: «Оля-шмоля, Оля-шмоля!» — и смеется, и я смеюсь. Это мое единственное о нем воспоминание: он погиб в начале войны, когда мне было три года.
Отец был поляк и политэмигрант. Приехал в СССР в юности: ему, как и многим тогда, казалось очень романтичным то, что происходит в Советской России, хотелось посмотреть, поучаствовать в строительстве невиданной и прекрасной новой жизни. Тогда так приезжали многие, приехал и он. А выехать обратно было уже нельзя. Здесь он получил высшее образование и стал журналистом. Знаю, что он был в Испании.

Мне всегда было жалко, что я про него слишком мало знаю. Сейчас особенно жалко. Я внешне необыкновенно на него похожа и подозреваю, что я сколок с него во всех смыслах. Но это непроверяемо. Погиб он очень быстро, осенью 1941 года. Страшные открытки присылал: «В окопах сидим — так холодно, что даже мысль о предстоящей атаке утром не согревает». Эта предстоящая атака,
О трех годах в гипсе
Мы с мамой остались вдвоем: отец погиб, бабушка умерла во время войны. Мы жили в Москве и в эвакуацию не уезжали. Когда мне было два года, я упала, катаясь на велосипеде. Заболело бедро. Так как у мамы был туберкулез легких, мне тут же поставили диагноз «костный туберкулез». И уложили в гипсовую кровать — это когда по форме тела отливают гипс и ребенок лежит в него закованный. Так что мама, конечно, не могла меня тащить и
О пятой графе
Все мое поколение пошло в первый класс в 1945 году, как только кончилась война. У многих, как и у меня, не было папы. Люди ко всему тогда привыкли — к горю, к страху. Я знала, что у мамы очень большие трудности — это она не скрывала. Она, например, долго не могла устроиться на работу из-за национальности. Куда бы ее ни приглашали — например, ее звали в университет, на филфак, преподавать
Об увлечении геологией, домашнем образовании и «Истории живописи» Александра Бенуа

Когда я училась в школе, я хотела быть геологом и ездила в геологический кружок на двадцатом этаже университета. Искусствоведом я решила стать уже классе в десятом. Мама видела, что я увлекаюсь живописью, и
О древнерусских фресках, проникнувших в душу

На втором курсе у нас вел древнерусское искусство Михаил Андреевич Ильин. Он был очень импозантный человек, такой барственно-вальяжный, из прошлого человек. Однажды он повез нас в только что открывшийся Музей Андрея Рублева. Привел нас в Андроников монастырь,
О Византии и защите диплома

В общем, я заинтересовалась, стала в этом копаться и понемногу познавать ранний древнерусский мир. Тогда я не понимала, что на самом деле это была часть мира византийского. А на следующий год у нас был небольшой курс о Византии — всего шесть лекций. Но о том, чтобы заниматься Византией, в советское время и речи не могло быть, поэтому я стала специализироваться на древнерусском искусстве, на средневековой Руси.
В конце четвертого курса мы должны были выбрать специализацию и объявить тему диплома. И я выбрала те самые фрески из Старой Ладоги, а научным руководителем — профессора Виктора Никитича Лазарева. Кафедрой тогда заведовал Алексей Александрович Федоров-Давыдов, человек очень суровый. И в перерыве он в буквальном смысле слова схватил меня за воротник: «Думаете, я не понимаю, почему вы берете такую тему? Это для вас форма отказа от советской идеологии!» Для него я и мое искусствознание были представителями гнилого индивидуалистического мира. Но все обошлось, и диплом я защитила. Лазарев приглашал меня в аспирантуру, но Федоров-Давыдов сказал (на удивление миролюбиво): «Я бы вас, конечно, взял, но вы же понимаете, какое сейчас время — о ваших темах и речи быть не может». Это был 1960 год: с одной стороны, разгар оттепели, с другой — новый виток борьбы с Церковью, клерикализмом и религией.
О попытках устроиться на работу
В общем, в аспирантуру меня не пустили, и я стала устраиваться на работу. Это было трудно. Однажды я встретила в Ленинской библиотеке знакомую, которая работала в Кремле. И она предложила мне пойти работать к ним. Я о таком даже не мечтала: там изумительная коллекция икон. Когда я рассказала об этом маме, она сказала: «Ты совсем с ума сошла. Ну куда ты лезешь, какой Кремль? Не надо даже пробовать — тебе, конечно, откажут». Почему? Она говорит: «Потому что в Кремле не нужны поляки, там нужны русские и украинцы». Мама была права — конечно, в отделе кадров мне отказали.
О «древней группе» и старинных шкафах с рукописями

Устроиться на работу мне помог сосед по дому, филолог Игорь Катарский, специалист по Диккенсу, очень интеллигентный человек и наш близкий друг. Он сказал: «Знаете, Оля, есть место для вас подходящее — отдел рукописей Ленинской библиотеки. Там начальником отдела работает мой друг». Он позвонил, и в итоге меня взяли в так называемую «древнюю группу» — описывать художественные элементы древнерусских рукописей. Я была ужасно рада и, конечно, согласилась. Кругом стояли старинные шкафы, в них горками были сложены книги, а на столах горками же лежали древние рукописи. Можно было взять любую из них, подержать в руках, рассмотреть… Я стояла там и думала, что не хочу уходить отсюда и буду тут ночевать.
Я пришла туда молоденькой девочкой с косичками, ничего не зная про рукописи и про древнерусскую филологию. Но я не стеснялась спрашивать, и все в моей «древней группе» меня учили. У нас было двое филологов, историк, двое лингвистов и искусствовед (то есть я). Боже, как это было интересно! Кончался рабочий день, но мы не уходили и сидели там до тех пор, пока нас не выгоняла охрана. Я проработала там пять счастливых лет, а потом Лазарев все-таки призвал меня в аспирантуру, и я ушла в университет.
Об открытиях



Такого, чтобы мне случилось открыть
О смысле искусствоведения
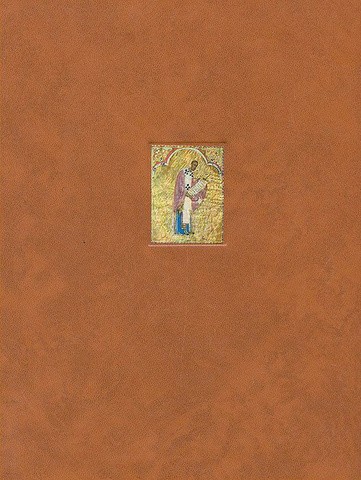

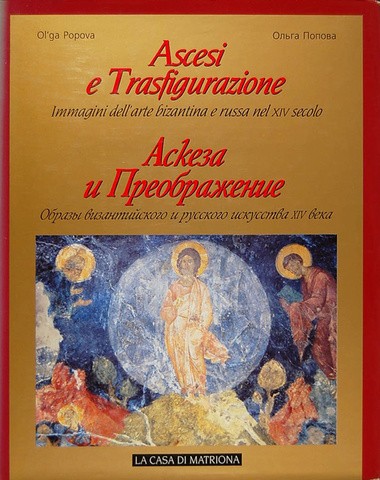
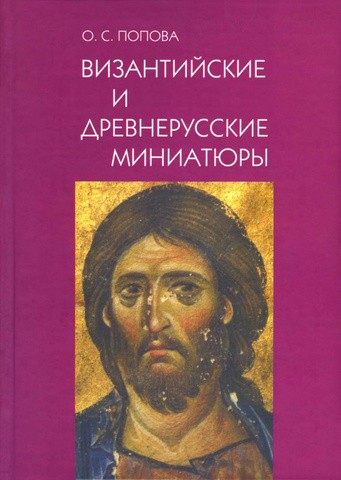
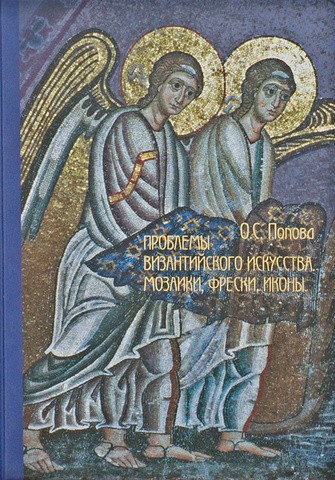
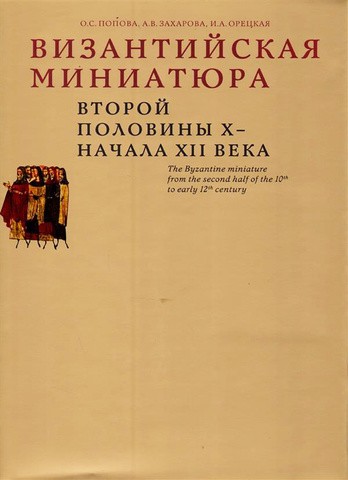
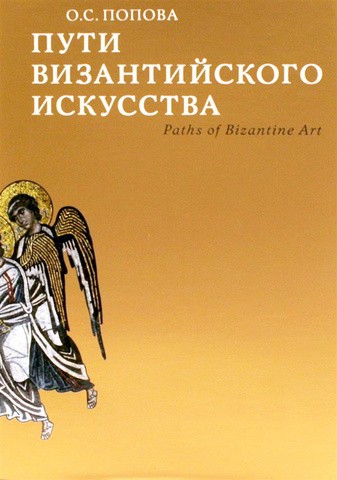

Я очень много занималась XIV веком, то есть концом византийского художества, а потом переключилась на XI век — период расцвета Византии и ее искусства. Но каким бы периодом я ни занималась, больше всего меня всегда волновали идеи и средства, которыми они были выражены. Как отражались в искусстве идейные переживания времени, каким было содержание того времени, а каким — сознание людей, как они воспринимали действительность. В одном веке были одни интересы, в другом — другие. В Средневековье люди, конечно, были сосредоточены на божественном. Искусство позволяет понять, каким был внутренний мир человека того времени. Во всяком случае, мы пытаемся понять его с помощью искусства. Может, мы в
Больше всего я люблю заниматься образными характеристиками. Почему в XI веке создавали один образ, а в XIV — другой? В искусстве мы соприкасаемся с чужим для нас духовным миром. Он много сложнее, чем тот материальный мир, который мы видим. Там другие ценности и другие способы достижения этих ценностей. И мы — те, кто старается к нему пробиться, — чужаки. Но мы все равно очень хотим. Конечно, описать образ сложно: он непонятен, потому что содержит в себе элементы духовного мира.
О первых поездках за границу



Куда мы могли ездить при советской власти? На Соловки, в Новгород. Но мы не ездили в Европу и могли пользоваться только картинками или снимками знакомых иностранцев, коллег, которые приезжали сюда. Когда начали выпускать, я стала очень много ездить. И вот при встрече с искусством я так переживала, что плакала. Например, я плакала, войдя в Шартрский собор. И в Лувре, когда увидела галерею с Ранним Ренессансом. Конечно, западный искусствовед, которому все это доступно, этого не поймет: он привык, а привычка отбивает
Когда стали выпускать за границу, я приобрела фотоаппаратуру — самую лучшую, какая тогда была. Мы все снимали, и история искусств предстала совсем в новом плане, лекции изменились, предмет очень обновился с этими поездками и новой аппаратурой.
О преподавании и домашнем спецсеминаре

Я закончила аспирантуру в 1968 году и после этого читала курсы лекций по искусству Византии и западному Средневековью, вела спецкурсы. Спецкурсы обычно были связаны с моими поездками. Например, я ездила на Восток, на конференции в Сирию и Ливан.
Сейчас я читаю мало — я все-таки очень устала и уже в преклонном возрасте. Так что новых спецкурсов не организую. Но я
Об одном разговоре в Уффици

Если бы мне предложили заниматься







