История, Литература, Антропология
Татьяна Никольская: «Я занимаюсь сужением белых пятен»
Танец с черным пуделем, дружба с последним обэриутом, Новый год у Довлатова, знакомство с Бродским, влюбленность в Грузию и несостоявшаяся греческая свадьба. Новая героиня рубрики «Ученый совет» — Татьяна Львовна Никольская, филолог, специалист по русской и грузинской литературе начала XX века

Филолог, член международной научной организации NIAS Fellows Association при Нидерландской академии наук с 1996 года. Автор книг «Фантастический город» (2000), «Авангард и окрестности» (2002), «Спасибо, что вы были» (2014), «Еще раз — спасибо» (2017), «О Грузии» (2021) и более 250 публикаций по истории русской и грузинской литературы XIX–XX веков и сравнительному литературоведению.
Научные интересы: история русской и грузинской литературы начала XX века, творчество Константина Вагинова, грузинский футуризм.
О танце с черным пуделем
Когда я была совсем маленькой, мы снимали дачу в Погулянке. У хозяев был черный пуделек, и я прекрасно помню, как танцую с пуделем под патефон. Пудель был, видимо, дрессированный: ему это нравилось, я его не заставляла. Музыка играла, я говорила ему: «Давай потанцуем», а он становился на задние лапы, подходил ко мне, клал передние лапы мне на плечи (или я его обнимала, вот этого не помню), но то, что я кружилась по комнате, танцевала под патефон, а взрослые смотрели, умилялись, смеялись, — это одно из моих первых детских воспоминаний, очень яркое.
О детстве между блинной и пирожковой

Я родилась в Ленинграде после войны, в тот день, как мне говорили родители, когда лошадок поставили на пьедестал на Аничковом мосту. Это было 2 июня. С тех пор я здесь и живу. Жили мы в очень интересном месте — Невский, 74. Это место — от Литейного до Московского вокзала — называлось Брод. Когда я приглашала в гости ребят, своих одноклассников, я им называла адрес «между блинной и пирожковой». Дело в том, что с одной стороны от парадной находилась блинная, и там были очень вкусные блины, за которыми меня посылала бабушка. Я приносила домой в судочке блины из гречневой муки, которых тогда не было в общепите. А с другой стороны была пирожковая, куда я тоже часто заходила.

Мама с папой работали. Когда я родилась, мама сказала бабушке: «Это вот тебе подарок». И бабушка с этим подарком возилась. Она рассказывала мне, что именно в этом доме жила со своей мамой до революции. Такое удивительное совпадение.
О родителях
В детстве я больше общалась со взрослыми, а с детьми в основном летом на даче: мама с папой снимали нам с бабушкой дачу в Пушкине. Мама, Мария Вячеславовна Кропачёва, была школьной учительницей, преподавала историю. Еще до войны она училась в Институте истории искусств — сначала на литературном отделении, а потом на историческом. Она очень увлекалась поэзией, и у нас дома было две полочки книг со стихами футуристов. Помню сборник «Ряв!» Имеется в виду первый сборник стихов Велимира Хлебникова «Ряв! Перчатки (1908–1914)., «Взорваль» Кручёных и еще сборник, где был Вадим Шершеневич Вадим Габриэлевич Шершеневич (1893– 1942) — поэт, переводчик манифестов итальянского поэта-футуриста Маринетти и участник футуристической группы «Мезонин поэзии», один из основателей и главных теоретиков имажинизма.. Так что я с детства иногда читала футуристические книжки у себя дома. Еще у родителей было два тома старой литературной энциклопедии: один том — от Грига до Даля, а другой — от Евангелия до Ишке. Класса с восьмого-девятого я очень любила читать ее чуть ли не подряд и тоже много всего узнавала.

Мама, к сожалению, рано умерла, я еще школу не окончила. Папа, Лев Моисеевич Никольский, тоже работал в школе — библиотекарем. Еще до войны он окончил Институт живого слова Всеволодского-Гернгросса Институт живого слова — научно-образовательное учреждение, существовавшее в Петрограде с 1918 по 1924 год. Было основано актером и театральным критиком Всеволодом Всеволодским-Гернгроссом в ноябре 1918 года., но так как этот институт лишили статуса высшего учебного заведения, ему пришлось получать диплом снова, и он окончил Библиотечный институт. При школьной библиотеке, где он работал, был кружок юных журналистов, которые выпускали
О лыжах, грибах и мечте вступить в Союз писателей

Папа увлекался спортом и занимался спортивной журналистикой. Он писал книжки про спортсменов — часто в соавторстве, а иногда и один. Семья у меня тоже была спортивная, поэтому лет в пять меня поставили на лыжи. Мы всегда ездили в Комарово и там катались. Одно время родители даже снимали комнату на почте, чтобы там оставлять лыжи и пить чай. Осенью туда же ездили за грибами. А летом, когда мы с родителями ездили в Комарово, то очень часто заходили в Дом творчества писателей: часто у родителей там
О «Повести о 15-летних циниках» и самом счастливом дне
Первый самый счастливый день в жизни был еще в школе. В 15 лет я написала повесть про свою школьную компанию, которая называлась «Повесть о
О 319-й школе у Пяти углов и Наталье Долининой

Я училась в 319-й школе у Пяти углов. С девятого класса литературу у нас преподавала Наталья Долинина, и это было действительно интересно. У нее была своеобразная методика: в первый же день она сказала, чтобы мы выбросили все учебники и в них даже не заглядывали, а вот лекции записывали. Когда мы начали проходить Маяковского, она нам велела надеть белые переднички, как на праздник, и устроила на столе маленькую выставку с различными изданиями Маяковского и поэтов его круга. В десятом-одиннадцатом классах мы делали доклады: одна ученица — обзор журнала «Новый мир», другая — журнала «Октябрь». Тогда было противостояние между Твардовским и Кочетовым, и это делалось, чтобы мы имели разные точки зрения на литературный процесс В начало
На зимние каникулы Долинина возила нас в Москву, и в Москве мы жили в
О знакомстве с Алексеем Хвостенко и битниками

На мои литературные интересы повлияла не только Долинина. Моя самая старая и близкая подруга — Лариса Волохонская, сестра Анри Волохонского. Мы с ней познакомились в первом классе, потом разошлись по разным школам, а с девятого класса снова встретились в 319-й школе, потом параллельно учились в университете и продолжали дружить до ее отъезда. А Анри Волохонский — ближайший друг и соавтор моего родственника Алеши Хвостенко.
С Алешей я познакомилась, когда училась в восьмом классе. Он жил на Греческом, в доме 15, и мы некоторое время не знали, что мы родственники, потом выяснили это случайно. У него был открытый дом, и все к нему приходили, целая компания людей, которые себя считали битниками — вот именно не хиппи, а битниками. Одна из моих любимых книг — «On the Road» Керуака, которую я раз в два-три года перечитываю
О «Кафе поэтов»
Третий источник — это «Кафе поэтов» по адресу Полтавская улица, дом 1, которое организовалось в самом начале 60-х годов. Первое время по субботам туда мог прийти кто угодно и читать свои стихи. И там знакомились поэты и их слушатели. Там я впервые услышала Кушнера, Бродского, Витю Кривулина и Михаила Юппа, который работал поваром и замечательно читал кулинарные стихи. Они назывались «Яичница», «Люля-кебаб», «Пирожки во фритюре», и Юпп издавал все звуки, какие продукты издают на сковородке.
Кафы было самое простое — абсолютно никакого интерьера. По субботам, скажем в шесть или в семь часов, за час до открытия, на ступеньках выстраивалась очередь, потому что количество мест было ограничено, а стоять нельзя. Когда дверь открывали, часто оказывалось, что часть столиков уже заняты теми, кто должен выступать или кого пригласили по знакомству. Видя, что места заняты, я опрометью бежала на кухню — на кухне стояли высокие железные табуреты, — брала первый попавшийся табурет и тащила его к любому близлежащему столу. В совет кафе входили две очень симпатичные девушки-студентки: Рада и ее подруга Ира, которая училась в одном классе с Бродским. Они были как бы хозяйками.
Часто выступали поэты из разных литературных объединений, которых в городе было очень много. Самым известным было Горное, которым руководил Глеб Семенов. Еще было объединение при Союзе писателей, при Доме культуры Нарвской заставы и при Доме культуры Ленсовета — в общем, при каждом доме культуры были свои литературные объединения. И часто в «Кафе поэтов» устраивался вечер того или иного литературного объединения, и они приходили компанией. А у каждого поэта — свои поклонники.
Были поэты, которые выступали очень редко, например Кушнер, Бродский или Бобышев. А были постоянные участники — Виктор Кривулин, Михаил Юпп и Марк Троицкий, поэт, который потом
О Слепом и Хромом
Родители не очень любили, когда я поздно возвращалась, но зато позволяли приглашать к себе, и эти поэты ко мне приходили. Был совершенно уникальный человек — Гриша Ковалев по прозвищу Гриша Слепой, поскольку он почти что ничего не видел с пяти лет. И он собирал стихи, которые слышал с голоса, — у него нюх был на стихи.
О знакомстве с Бродским
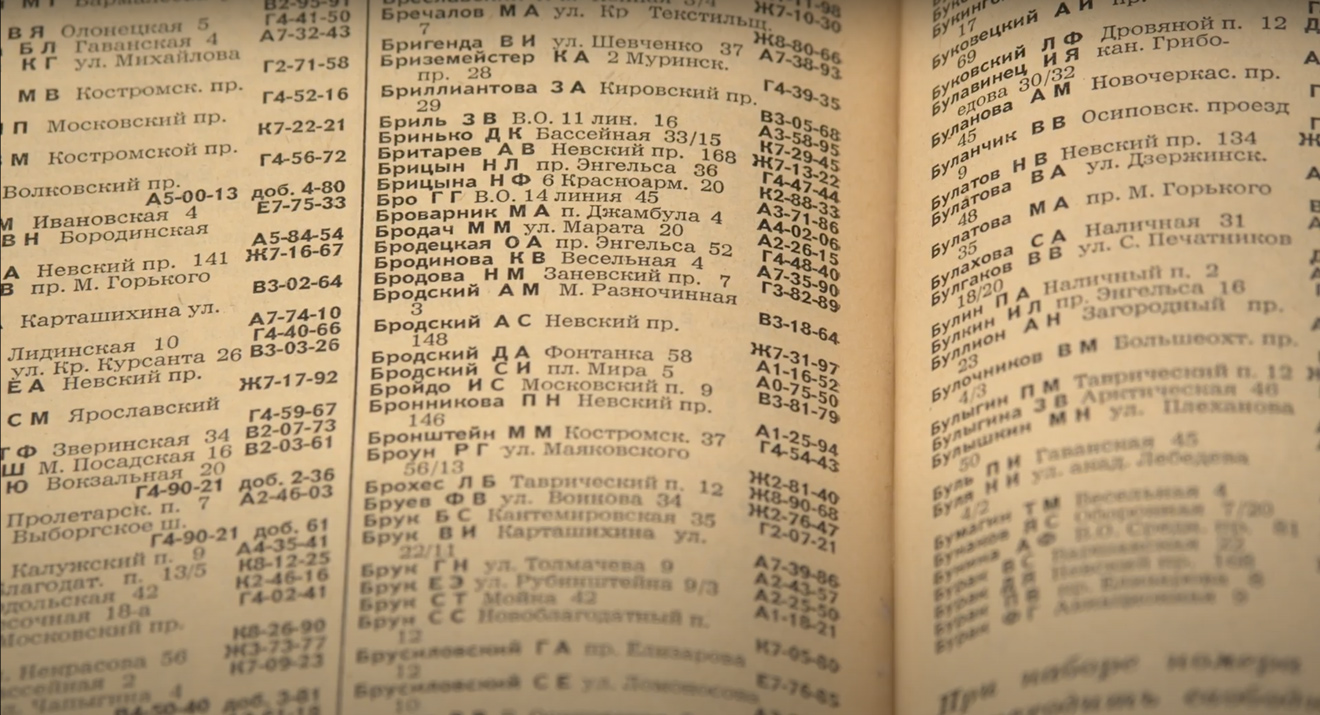
В «Кафе поэтов» Бродский читал свои ранние стихи: «Холмы», «Черный конь». Его манера чтения и эти стихи на меня произвели колоссальное впечатление. И я решила написать статью о молодых поэтах — о Кушнере, Горбовском и Бродском. Взяла телефонную книжку — у меня и сейчас есть эта старая телефонная книжка — и стала всем Бродским подряд звонить. Можно посмотреть по телефонной книге, сколько там Бродских: довольно много. И по одному номеру сказали: «Оси нет дома. А кто его спрашивает?» Я говорю: «Меня зовут Таня». — «А какая Таня? Осе много девушек звонит». В общем, это оказался его папа, Александр Иванович. На следующий день я снова позвонила, подошел Иосиф, и я ему сказала, что слышала его стихи в «Кафе поэтов» и что хочу написать статью. Он говорит: «А для какой газеты? Если для «Смены», то я с вами не буду разговаривать, потому что эта газета меня опозорила». А в «Смене» вышел фельетон «Йоги у выгребной ямы», где Бродский назывался плохим поэтом, «стихотворцем». Я говорю: «Нет, не для «Смены», а для «Комсомольской правды»». Тогда он смягчился и пригласил меня в гости, дал мне свои стихи, спросил, про кого еще я собираюсь писать. Я сказала, что вот про Кушнера и Горбовского. Он говорит: это поэты хорошие, но есть еще лучше — Рейн, Бобышев и Найман. И почитал мне их стихи. Мы договорились, что я к нему еще раз зайду. Я зашла, он мне дал
О поездке к Ахматовой, клубнике с сахаром и ссоре с Бродским
Я увидела Ахматову и потом получила большой нагоняй — просто разнос — от Бродского. А это дело было так. Я еще училась в школе и узнала от Бродского, когда день рождения Ахматовой. И решила ее поздравить с днем рождения. Писатель Илья Бражнин, мой дальний родственник, арендовал в Комарово дачу от Литфонда, и эта дача была рядом с «будкой» Ахматовой Так Ахматова называла свою маленькую дачку, выданную ей в 1956 году. — буквально соседи. Я приехала с букетом цветов. Его жена обрадовалась, говорит: «Танечка, это мне?» Я говорю: «Нет, это не вам — это Анне Андреевне». Она говорит: «То-то ей с утра телеграммы носят». И я попросила: «Дядя Илья, если удобно, мне бы хотелось поздравить Анну Андреевну с днем рождения». А кроме букета у меня была книжка из маминой библиотеки, называлась «Из шести книг» — сборник 1940 года, который очень не любил Сталин и который пошел под нож. Дядя согласился, мы с ним пошли через забор к Анне Андреевне, он меня представил как свою родственницу. У нее уже сидели
О суде

Когда был процесс над ним, мне позвонила Долинина и сказала, что в


Потом Иосифа сослали, и я стала приходить в гости к его родителям. Его папа, когда узнал, что мой папа — журналист Лев Никольский, говорит: «Что же вы мне не сказали, что вы Левы Никольского дочка! Я бы с вами не так разговаривал по телефону!» Выяснилось, что он с моим папой
О поступлении на филфак
Я собиралась поступать в университет, потому что интересовалась литературой: для меня было само собой разумеющимся, что я буду поступать на филфак. Другое дело, что сначала я подавала документы на классическое отделение — хотела заниматься Античностью, чтобы образование было основательное. Но я не прошла по конкурсу. Еще прибавилось то, что у меня сначала умерла мама, а в то лето, когда я поступала, — бабушка. А тут экзамен. У меня было две пятерки и две четверки, а нужно было хотя бы три пятерки. Но с этими же оценками я смогла поступить на русское отделение филфака.
О Тынянове

В университете у меня были замечательные педагоги и учителя. Первая, у кого я писала еще даже не курсовую работу, а реферат, — это Людмила Александровна Иезуитова, которая занималась творчеством Леонида Андреева. У нее был просеминар Просеминар — предварительный семинар, на котором пишут рефераты по книгам, а не курсовые., и первое, что я писала, — это реферат по книге Тынянова «Архаисты и новаторы».
Тынянов в моей жизни — отдельная тема. Когда я еще училась классе в восьмом, мама мне подарила роман Тынянова «Пушкин». Не могу сказать, что он мне очень понравился, но он меня

Как я уже говорила, в университетские годы мне попалась в руки книжка «Архаисты и новаторы», которая определила сферу моей деятельности: или авангард, или хорошо утвержденные архаисты, те, кого считали архаистами, типа Тредиаковского и Хвостова.
О литературе XVIII века и авангардистах
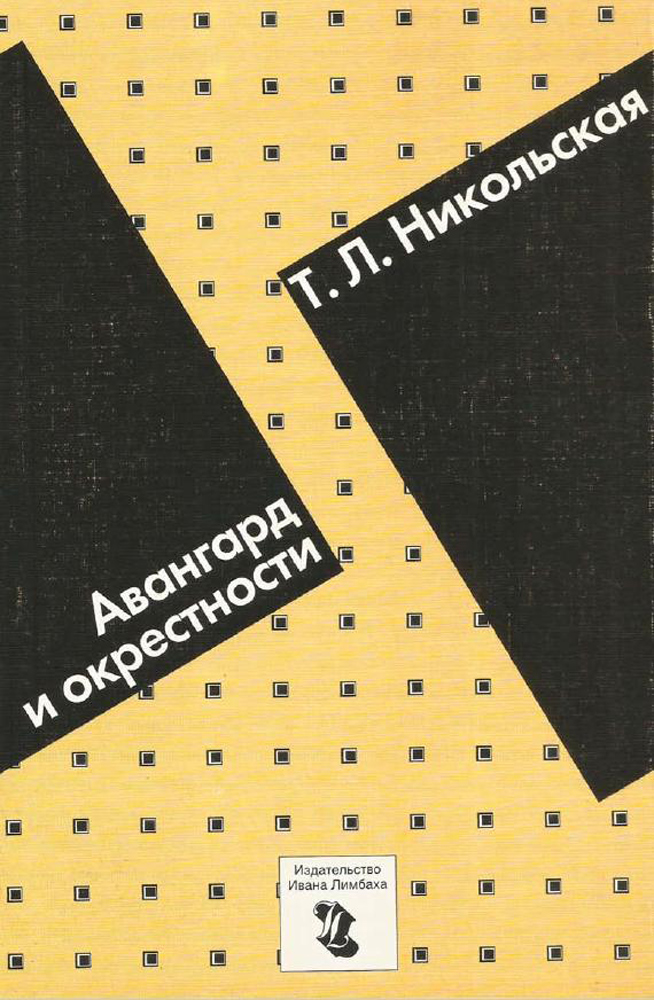
Я не выбирала между авангардом и XVIII веком: занимаясь авангардом, я время от времени заглядываю и в литературу XVIII века. Дело в том, что именно футуристы отрицали предшественников XIX века. Кого сбросим с парохода современности? Пушкина, Толстого, Достоевского, которые уже тогда были не просто мейнстримом, но классиками с хрестоматийным глянцем. Авангардисты обращались к XVIII веку, где все было не прилизано, не гладко. Во всяком случае, на слух человека ХХ века именно в этих текстах была такая первозданная шероховатость. Кручёных говорил, что поэзия должна надеваться туго, как смазной сапог, — не легко скользить, а с усилиями.
Было три классика XVIII века: Ломоносов, Сумароков и Тредиаковский. И Тредиаковский среди них считался самым косноязычным. Многие считали его графоманом. Например, он написал огромную поэму, которая называлась «Телемахида» и которую, как считалось, никто до конца не дочитал. И коллеги, и публика всячески над ним посмеивались. Но в то же время он был очень известен и в определенных кругах популярен. А потом его быстро зачислили в отряд устаревших, каковым он и оставался. В карамзинистском «Арзамасе» над ним смеялись. У них было такое комическое приветствие — строчка Тредиаковского: «Чудище обло, озорно, стозевно и лаяй».
Я занималась трагедией Мариенгофа «Заговор дураков» — Тредиаковский в ней главное действующее лицо — и писала о Тредиаковском в восприятии имажинистов. В этой вещи Мариенгоф под видом Тредиаковского выводит себя: он такой же обиженный, непризнанный, на него так же несправедливо ополчается критика, как в свое время на Тредиаковского.
О Борисе Федоровиче Егорове и настойке по рецепту Аполлона Григорьева

Год я занималась в семинаре у Бориса Федоровича Егорова — это совершенно замечательный человек, который много работал в Тарту с Лотманом, а потом перешел в Ленинградский университет. Он занимался XIX веком, и у него я писала курсовую работу по поэме Аполлона Майкова «Три смерти». Надо ж знать XIX век тоже, а не только ХХ и XVIII. Борис Федорович был такой объединитель — человек, который всех объединял, в то же время с чувством юмора: он любил всякие шутки. Главная его тема была Аполлон Григорьев, и своим студентам он много рассказывал о нем, а весной, когда занятия заканчивались, водил по местам Аполлона Григорьева, показывал Петербург Аполлона Григорьева и даже готовил настойку на спирту по рецепту Аполлона Григорьева. И в
О блоковском семинаре и скандальчике

Дольше всего — три года, наверное, — я занималась в блоковском семинаре Дмитрия Евгеньевича Максимова. Вокруг все Блоком только и занимались, потому что это единственное, что было официально разрешено. А я не хотела и писала работу про Сергея Соловьева, поэта, родственника Блока и родственника философа Владимира Соловьева. Поэт он был не очень яркий, но своеобразный. Он написал заметки о соединении Церквей и книгу «Гёте и христианство». Мне больше интересовало его такое, что ли, религиозно-философское наследие — я все это прочла и об этом писала. Не обошлось без скандальчика. На свой доклад о Сергее Соловьеве я пригласила несколько человек. Это была ошибка, потому что я не посоветовалась и не предупредила Дмитрия Евгеньевича. Я пригласила свою тогдашнюю подругу с классического отделения Лену Рабинович, переводчика Ивана Алексеевича Лихачева и еще двух друзей более старшего возраста, с которыми познакомилась в доме Ивана Алексеевича. Через день или два Дмитрий Евгеньевич остановил меня в коридоре и устроил форменный разнос. Первое — потому что я не предупредила. А второе — что он не знает этих людей. Мало ли кто может прийти и подумать, что мы в семинаре занимаемся новым религиозным сознанием.
О Протесилае
Потом я писала у Максимова работу «Трактовка античного мифа». Хоть я не поступила на классическое отделение, но
О защите диплома и недоразумении

Я хотела написать маленькую, скромненькую дипломную работу об Античности в раннем творчестве Вячеслава Иванова. Но Дмитрий Евгеньевич Максимов мне сказал, что кафедра эту тему не утвердит. Я говорю: «Почему, что в этом такого?» Потому что Вячеслав Иванов в 1924 году уехал за границу. Я говорю: «А что делать? Я все-таки хочу тему «Античность и символизм»». Он говорит: «Ну, тогда пишете про Античность у Брюсова». Поэтому моя дипломная работа называлась «Цикл «Любимцы веков» в сборнике Брюсова «Tertia Vigilia»». Не обошлось без недоразумения. Так получилось, что у меня было не два, а три оппонента, у которых были разные точки зрения, и вместо пятерки мне поставили четверку. Одним из оппонентов была Людмила Александровна Иезуитова, которая отстаивала, что работа хорошая и мне нужно поставить пятерку. Другим оппонентом был Павел Наумович Берков, специалист по XVIII веку. Ему как раз моя работа не понравилась. А третьим оказался Илья Захарович Серман из Пушкинского Дома. Он мне потом рассказал, что два раза ездил к Беркову в Комарово и просил, чтобы он все-таки мне поставил пятерку. Но тот из принципиальных соображений не согласился.
О комнате с коллекцией бисера и человеке в крылатке и шляпе

Еще на первых курсах университета я сама для себя стала заниматься творчеством Константина Вагинова. Был такой Алексей Георгиевич Сорокин, друг Хвоста, по образованию геолог. Он был любителем поэзии и старого Петербурга, прекрасно знал здания, парадные, лестницы, где какие витражи, и любил водить своих друзей по этим местам. Алексей Георгиевич жил с мамой и тетей в коммунальной квартире на Измайловском проспекте. У них была большая комната, в которой он себе отгородил маленький кабинетик с разными предметами старины. Например, бисерные подстаканники и портрет XIX века, весь сделанный из бисера. Тогда, в 60-е годы, многие переезжали в маленькие квартиры, выбрасывали старую мебель красного дерева и стояли в очереди за
Алексей Георгиевич как бы жил в том времени и одевался соответственно — крылатка, шляпа, как носили в начале ХХ или в конце XIX века, трость. И манера речи тоже. Внешне он был мало того что некрасив — у него была экзема, потому что он злоупотреблял некоторыми средствами, а именно принимал кодеин. Есть история о том, как его вызвали на суд и спросили, курит ли он марихуану. Он говорит: «Как вы можете так говорить! Вы же знаете, что я употребляю только таблетки кодеина!» И вот он ходил с томиком стихов Константина Вагинова «Опыты соединения слов посредством ритма». Я помню, как мы с ним в белые ночи гуляли по Марсову полю, вот он идет, держит книжку и читает. И вот впервые я услышала стихи Вагинова от этого Алексея Георгиевича Сорокина. Потом взяла книжку в библиотеке, почитала — мне понравилось. Потом узнала, что у него есть романы, и романы почитала — так я стала им заниматься.
О башне из слоновой кости и гибели цивилизации

Вагинов — ровесник века и певец уходящего Петербурга. Он умер рано — в 1934 году. Его стихи и романы — это та переломная эпоха, когда Петербурга уже не было, Ленинграда еще не настало — был Петроград. Сборник стихов «Петербургские ночи» — то, что потом Топоров назвал «петербургским текстом» Владимир Николаевич Топоров (1928–2005) — лингвист, филолог, один из основателей Московско-тартуской семиотической школы.. Ночь, одинокий человек гуляет по Петербургу, видит памятники старины — и это такая перекличка с Античностью, перекличка с Бодлером, мироощущение гибели цивилизации. И он это в своем молодом возрасте замечательно воплотил в стихах и прозе. Его первый роман «Козлиная песнь» — о гибели петербургской интеллигенции. О том, как люди, которые оканчивали классические гимназии и были воспитаны в традициях той культуры, после революции волею судеб попали совсем в другой мир и как они пытаются сохранить свои старые ценности, пытаясь при этом выживать и
О Косте Ротикове и Мише Котикове
Переводчик Иван Алексеевич Лихачев, о котором я упоминала, охотно признал тот факт, что в романе «Козлиная песнь» он выведен под именем Кости Ротикова — молодого человека, который собирает безвкусицу и граффити. А прототипом Миши Котикова, друга Ротикова, был писатель Павел Лукницкий. В отличие от Ивана Алексеевича, который признал: «Костя Ротиков — это я», Павел Николаевич сказал: «Знаете, я не читал романов Вагинова, но мне говорили, будто бы я там выведен». А он там выведен как человек, который собирает стихи поэта Заэвфратского (Заэвфратский — это Гумилев, путешествовавший в Африку) и в процессе сбора этого материала знакомится и вступает в интимные отношения со всеми многочисленными любовницами Гумилева. «Вы знаете, нет, это не я. Дело в том, что их было, во-первых, очень много, во-вторых, они были намного, намного меня старше». То есть таким образом отбоярился. Но надо отдать ему должное: через несколько лет я ездила к нему в Переделкино и он сказал, что нашел у себя на чердаке дневники тех лет, где есть и про Вагинова. Пригласил в гости и дал прочесть эти записи 20-х годов. Хотя продолжал отрицать, что Миша Котиков — это он.
О знакомстве с современниками Вагинова

Тогда еще были живы люди, которые его знали, и я познакомилась с Идой Моисеевной Наппельбаум Ида Моисеевна Наппельбаум (1900–1992) — поэтесса, мемуаристка, ученица Николая Гумилева, дочь фотографа Моисея Наппельбаума. — она жила буквально в двух шагах от моего дома, на Невском, в «Слезе социализма» (это первый кооперативный дом, построенный для писателей на углу улицы Рубинштейна, тогда Троицкой, и Графского, а потом Пролетарского переулка). Ида Моисеевна дружила с Вагиновым, а еще больше с ним дружила ее сестра Фредерика, но Фредерика уже к этому времени умерла. И Ида Моисеевна мне много рассказала о Вагинове, а потом у них была очень хорошая библиотека поэзии
И Иван Алексеевич Лихачев тоже его знал. То есть я ходила по людям и собирала биографический материал. Собрала,
О том, как записывать тех, кто не хочет, чтобы их записывали
У меня не было диктофона, да и вообще мало у кого он тогда был. Кроме того, многие люди не согласились бы говорить на диктофон — они стали бы себя сдерживать, выбирать, что говорить. Люди не любили, когда видели, как за ними записывают. Поэтому я слушала, а когда приходила домой, уже записывала. К сожалению, всего не запомнишь, многое потерялось. Приведу пример. Я через мужа была знакома с коллекционером Моисеем Семеновичем Лесманом. И Рома Тименчик тоже с ним был знаком. Моисей Семенович показывал
О дружбе с последними обэриутами
Вагинов входил в группу обэриутов. Тогда из них оставалось двое живых — Бахтерев и Разумовский. И к обоим я ходила, а с Бахтеревым мы потом подружились. Когда я перешла в десятый класс, папа подарил мне пишущую машинку, и я перепечатывала стихи, которые я брала в «Кафе поэтов». И ко мне пришел в гости Бахтерев и попросил разрешения, чтобы я перепечатала его стихи. Они назывались «Лавка старьевщиков». Он мне диктовал, а я печатала. Помню, Игорь Владимирович мне диктует: «Здесь бесы белями страдают». В это время мимо проходил мой папа — и так… удивился.
Есть еще один смешной эпизод, связанный с Бахтеревым. Он курил, а я тоже покуривала, но мне не разрешали. И вот сидим мы
О тете Симе из Москвы и Александре Введенском

В науке самое удивительное, что на ловца и зверь бежит. Только начинаешь
О знакомстве с Леонидом Чертковым

Это знакомство как раз связано с Вагиновым. Дело в том, что Чертков сам по себе стал заниматься Вагиновым, и мы с ним занимались этим параллельно. А познакомились мы в Москве. Я была в гостях у такой Светы Купчик, она жила в центре, на улице Кирова Сейчас это улица Мясницкая.. А меня к ней привела хорошая знакомая Минна, жена Валентина Хромова, который был другом Черткова. И вот мы сидим у этой самой Светы Купчик, и приходит Леня Чертков. Минна обратила мое внимание на него: это Леня, он, говорит, очень интересный человек, очень эрудированный, много знает. Я с ним познакомилась, потом мы вместе вышли, обменялись телефонами, адресами. И потом, приехав по своим делам в Ленинград, он ко мне стал приходить — принес неопубликованный роман Вагинова «Гарпагониана» и дал почитать. Примерно на втором курсе университета мы поженились, и постепенно он переехал в Ленинград.
Леня учился в Московском библиотечном институте и входил в компанию, которая собиралась в мансарде у Галины Андреевой Галина Петровна Андреева (1933–2016) — поэтесса, переводчица, редактор. В середине 1950-х годов входила в «группу Черткова». Ее квартиру на Большой Бронной, где собирались поэты, участники группы, называли «Монмартрской мансардой». на Большой Бронной. Туда входил Валентин Хромов, студенты иняза Станислав Красовицкий и Андрей Сергеев, переводчик англо-американской поэзии, большой друг Бродского, и еще много других людей. В книге памяти Черткова его друзья вспоминают, что он отличался тем, что был самый эрудированный, перепахал всю Ленинку и приносил выписки, знакомя всех с творчеством малоизвестных тогда поэтов и писателей. У него была тяга к собирательству материала.
О друзьях из ссылки
В 1956 году Черткова посадили за антисоветскую пропаганду и агитацию. Он говорил, что Октябрьская революция, возможно, не была исторической необходимостью, а учение Маркса только про экономику говорит, а про духовную жизнь ничего не говорит и поэтому устарело. Он это говорил не только в компании, но и в
В Мордовии он познакомился с разными интересными людьми, которые сели за аналогичные вещи. Например, с поэтом Михаилом Красильниковым, известным всякими хэппенингами. Еще при жизни Сталина они устроили такую акцию: пришли в университет в русских рубашках, тюрю сделали, накрошили лук, хлеб в миску с квасом и запели «Лучинушку». И в перерыве между первой-второй парой приглашали присоединиться к ним других студентов. Их выгнали, а через год восстановили.
Потом он устраивал то, что сейчас называется монстрациями. Студентов насильно посылали на демонстрацию, и, когда они проходили мимо Дворцовой площади, Красильников кричал: «Да здравствует предатель венгерского народа Имре Надь!» А
В Мордовии Леня познакомился с очень интересным человеком Борей Пустынцевым, который вместе со своим другом Аликом Голиковым слушал Би-би-си или «Голос Америки» (признано иностранным агентом). Когда наши танки были введены в Венгрию, они расклеивали листовки против введения наших войск, за что получили большой срок. И еще с переводчиком, собирателем фольклора Кириллом Косцинским, который гордился тем, что спас будущее социал-демократическое правительство Австрии от расстрела. В 1945 году он был в Австрии и вдруг увидел, что советские солдаты собираются расстреливать
О знакомстве с Довлатовым, салате оливье и аргентинском танго
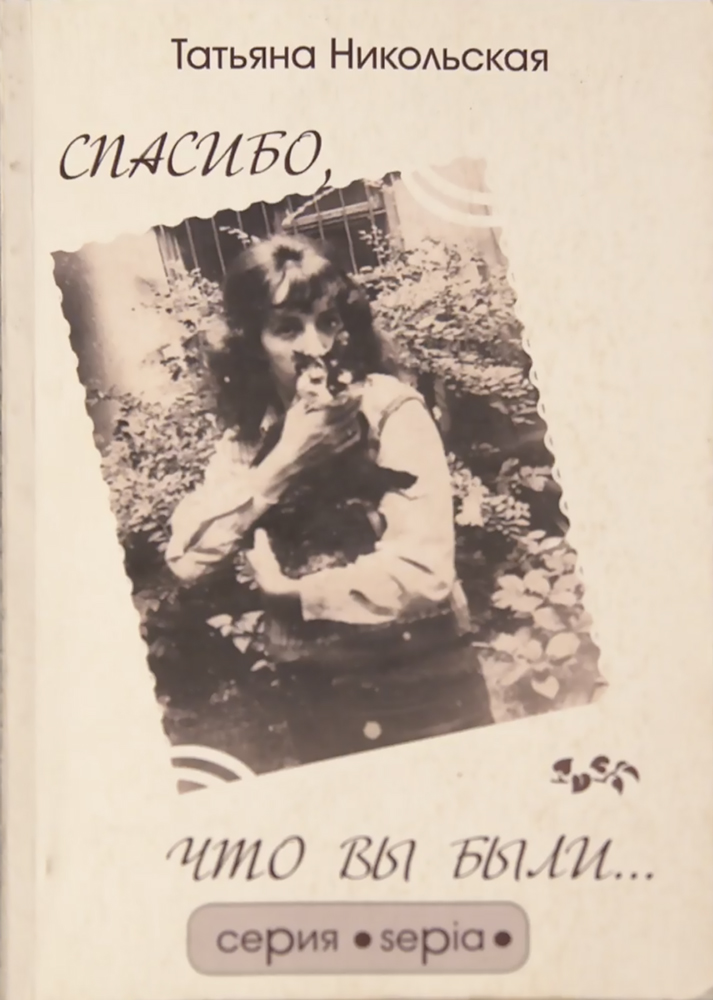
Одно время мы с мужем жили на Рубинштейна, на углу Пролетарского переулка, и на Рубинштейна же жил Довлатов. Мы с ним познакомились 29 декабря на дне рождения у Жени Рейна, и буквально через день Довлатов звонит и приглашает нас с мужем к себе на Новый год. Они с Леной жили в очень большой коммунальной квартире с очень длинным коридором. В комнате — немаленькой — собрались его друзья, многих из которых мы знали. Люда Штерн с мужем, Игорь Ефимов с женой, друг Довлатова Грубин. Этот Грубин оккупировал моего мужа и говорил: «Вот, Леня, вы сидели, а я хочу сесть, поэтому расскажите подробно, а как там?» И всю новогоднюю ночь задавал вопросы, как было в тюрьме, а как в лагере, а какая там работа. Я, говорит, должен все знать, потому что я хочу сесть, а для того, чтобы сесть, мне нужно подготовиться. Просто допрос с пристрастием.
Стол, как писал Вагинов, «был ни беден ни богат, картофельный белел салат». Картофельного салата, может, и не было, а был салат оливье. Стол как стол — нормальный, никаких особенных изысков, потому что все жили тогда довольно бедно. Мне запомнилась мама Сережи — Нора Сергеевна, такая высокая, стройная, строгая и властная армянка.
Тогда танцевали в основном под пластинки и была такая пластинка — «Аргентинские танго». Особенно «Ё кис а, ё кис а фае!». Под такую любили танцевать. Фокстроты
О прогулке по улице Рубинштейна и комплексах
Когда мы жили на Рубинштейна, мы часто сталкивались с Довлатовым. Однажды приходим к нему, разговариваем и вдруг видим записку: «Живи один, гадина». Это жена ему написала. Он говорит: «Вот, от меня жена ушла». Ну, мы посидели час-полтора, поговорили о литературе, о том о сём, и он пошел нас провожать — в тапочках на босу ногу, дело было летом. Вышли, идем, и вдруг Сережа около одного из домов останавливается и кричит: «Лена! Иди домой!» Видимо, они не первый раз ссорились, она уходила к подруге, которая жила буквально через дом. Мы с мужем засмеялись и пошли домой, не дожидаясь, пока Лена выйдет от подруги.
С одной стороны, Сережа был очень красивый человек, с другой — крайне закомплексованный. У него, например, на стене висела такая бумага — какой рассказ куда и когда он послал и когда ответ. Так вот, когда послал, это всё заполнено, а когда ответ — далеко не всё. И какой ответ — положительный или отрицательный. На 99 % ответ был отрицательный. Довлатов очень хотел издать свою книгу — это была такая идея фикс. Но у него ничего не получалось, потому что даже рассказы не печатали. И от этого комплекс. Конкретно он выражался в том, что он снизу вверх смотрел на людей, которые были буквально на два-три года его старше и у которых публиковались хотя бы детские рассказы и повести. Например, Игорь Ефимов и Сергей Вольф. Он всё время ходил к Игорю Ефимову, который жил рядом, на Разъезжей, показывал ему свои рассказы, деньги одалживал.
Мой сосед Ефимов Игорь —
Чемпион азартных игр.
Пусть выигрывает вдвойне,
Коль одалживает мне.
Дело в том, что Игорь увлекался бриджем: в Эстонии были соревнования по спортивному бриджу, он туда ездил. Бридж или покер — боюсь наврать.
О конференциях в Тарту, Лотмане и Минц

Я — то, что сейчас называется независимый исследователь. Еще в студенческие годы я начала ездить в Тарту на конференции и там училась уму-разуму. Первый доклад назывался «Жизнь и творчество Константина Вагинова», и я сделала его на студенческой конференции в 1967 году. Потом я делала доклады и на другие темы тоже — касательно символизма, о Блоке, о любимой жене Вячеслава Иванова, Зиновьевой-Аннибал, и ее повести «Тридцать три урода» и про жизнетворчество символистов. Зара Григорьевна Минц как раз занималась темой жизнетворчества символистов, которая меня очень заинтересовала. Лекции Лотмана я тоже слушала, но отношения у меня были ближе с Зарой Григорьевной, потому что, во-первых, она занималась именно символизмом, а во-вторых, Юрия Михайловича я с удовольствием слушала, но побаивалась. Не могла к нему запросто подойти,
О карнавале и костюме из колготок
Однажды по случаю конференции устроили настоящий карнавал, и все должны были прийти в маскарадных костюмах. У меня костюма, естественно, не было. Моя тогдашняя подруга Белла Улановская, которая потом стала известной писательницей, из подручных средств сделала себе
О студенческом кафе в Тарту, свиных карбонатах и конференциях-праздниках
В Тарту была совсем другая обстановка, чем в Ленинграде. У нас все было строго — между лекциями мы собирались в Академичке Академичка — столовая при филфаке Лениградского университета. Там был хороший кофе, но больше ничего. А студенческое кафе в Тарту было расписано абстрактной живописью. Для нас это было потрясением. Не говоря о больших свиных карбонатах, которые подавали в студенческой столовой. Мы жили в студенческих общежитиях, и по дороге к университету на улицах были кафе, где собирались люди очень преклонного возраста, завтракали вместе и общались. А у нас бабушки ходили в платочках. То есть в Тарту все было ближе к Западу — другой стиль. Это с одной стороны, а с другой стороны — такие учителя, как Юрий Михайлович и Зара Григорьевна. Так что поездка в Тарту на конференцию была праздником.
Попозже в Таллине тоже стали проводить конференции, и однажды я делала доклады «Футуризм и фольклор», «Тредиаковский и русский авангард» — про Маяковского и Тредиаковского. А уже в 80-е годы Мариэтта Чудакова организовала Тыняновские чтения в Резекне, на родине Юрия Тынянова. Я была там начиная со вторых чтений и до самых последних, которые, к сожалению, три года назад проходили уже не в Резекне, а в Москве. Там сложилась хорошая, теплая компания: Георгий Левинтон, Александр Долинин, Юрий Цивьян по кино, Омри Ронен и масса всяких других людей. Так что моя конференциальная жизнь до перестройки связана с Тарту, Таллином и Резекне, то есть Эстонией и Латвией.
Об отъезде Черткова

После университета я четыре года проработала, даже заведовала библиотекой
О поездке в Грузию и новой книге
К этому времени я заинтересовалась русской эмиграцией в Грузию, что тогда было как бы под запретом — не явно, но фактически. Впервые о литературной жизни Тбилиси периода независимой Грузии я узнала из воспоминаний Паустовского. У него есть текст «Бросок на юг», где он пишет, как в 1920 году сам оказался в Грузии, и рассказывает про квартиру Зданевичей. Илья Зданевич был поэтом и написал первую книжку о Михаиле Ларионове и Наталии Гончаровой, его брат Кирилл — художник, а их отец, преподаватель французского, каждое лето ездил во Францию,
О «Фантастическом кабачке», кафе «Химериони», ланях и концертно-кафейной жизни в Тбилиси начала 20-х

культурная жизнь в Тбилиси (1917–1921)». Москва, 2000 год © Издательство «Гилея»; Издательство «Пятая страна»
С 1918 по 1921 год в Грузии существовала независимая социалистическая республика под руководством известного меньшевика Ноя Жордании. В эти три года в Грузию приехало, просто спасаясь от голода, холода и властей, огромное количество русских поэтов, писателей, художников. Из совсем известных фигур — художник Сергей Судейкин с женой Верой, которая потом стала женой Стравинского, его друг, художник Савелий Сорин, поэты Василий Каменский, Сергей Городецкий, поэты Алексей Кручёных, Илья Зданевич, который, впрочем, там родился, а потом учился в Петербурге на юриста, и так далее. В Грузии было стабильное правительство, тепло, особенно летом, фрукты дешевые. И все они там творили свои произведения.
А главное — это то, что у них была очень бурная концертно-кафейная жизнь. Было там кафе поэтов «Фантастический кабачок», где собирались и русские, и грузинские поэты. Грузинские поэты еще организовали себе кафе «Химериони», которое расписывал Судейкин вместе с Ладо Гудиашвили. В этом кафе ходили живые лани и потихонечку покусывали зелень со столов посетителей. Потом грузинское правительство выдало художникам Ладо Гудиашвили, Давиду Какабадзе, Елене Ахвледиани и еще некоторым стипендию, чтобы они поехали в Париж получить образование. И они поехали. Самое интересное, что все потом вернулись обратно в Грузию, где у каждого были свои неприятности. Но грузины живут дольше, чем жители Ленинграда и Москвы, и многие люди, ходившие в «Фантастический кабачок», еще были живы. Например, я подружилась с Ниной Николаевной Васильевой, которая была секретарем «Фантастического кабачка» и подарила мне свою поэму об этом. Постепенно я собрала материал и написала книжку — по сути, хронику литературной жизни того времени (в основном русской, но про грузинскую там тоже есть). Была группа футуристов «41°», футуристы-заумники, было два «Цеха поэтов», была «Академия стиха», содружество «Альфа-лира» и так далее и тому подобное. И вот я написала про все эти группы, цитировала там стихи, приводила данные из газет и журналов того времени. По сути дела, получился такой библиографический справочник.
О терпении и втором самом счастливом дне в жизни
Что нужно в нашей стране, так это терпение, терпение и еще раз терпение. Сначала, в 1973 году, я написала небольшую статью про «Фантастический кабачок» в журнал «Литературная Грузия» и отдала ее редактору Цицишвили. Он сказал, что это интересно, напечатаем, но надо подождать — у нас даже статьи Евтушенко по два года лежат. Ну, я не Евтушенко — ждала-ждала. В конце концов Цицишвили ушел со своего поста, и редактором стал Гурам Ахвледиани. Стали разбивать портфель журнала и нашли мою статью. По счастливой случайности я тогда как раз была в Грузии, и такой Гия Маргвелашвили, который написал массу статей про грузинскую литературу, мне говорит, что вот мы нашли, Таня, твою статью и хотим ее напечатать. Я говорю: «Конечно, печатайте». В
Книга у меня была закончена году в 1977–1978-м. Но в издательстве «Мерани» ее испугались печатать, послали рукопись в Москву на рецензию Енишерлову, который занимался Городецким. Каждый раз, когда я была в Москве, я звонила Енишерлову, а он говорил: «Книжка хорошая, мне нравится, но всё равно они не напечатают». Все экземпляры были напечатаны на машинке, и я просила мне их вернуть, но Енишерлов и книжку не отдал, и рецензию не написал. Книжка вышла только в 2000 году в Москве, в издательстве «Гилея». Но за это время я много всего нового нашла и много доработала, так что книжка за это время улучшалась. И вот когда я была счастлива — когда эта книжка вышла в свет.
О голодовке в Тбилиси

В 1990 году я приехала в отпуск в Тбилиси и вижу около Дома правительства и Дома кино палатки с голодающими. А почему голодают? Из солидарности со студентами Тбилисского университета, которые тоже голодали за признание независимости прибалтийских республик и за альтернативную воинскую службу. И мне тоже захотелось поголодать. Я написала на картонке
Люди к тому моменту уже голодали пять дней, и я помню, как им приносили родниковую воду. А потом ночью на проспекте Руставели около палаток остановилась машина со свежим хлебом. С другой стороны проспекта Руставели стояла машина скорой помощи — мало ли
О несостоявшейся греческой свадьбе
Будучи на Крите, я узнала, что в Миртье есть дом-музей писателя Никоса Казандзакиса, который посетил Грузию, и захотела туда поехать. Но тут произошла мистическая история. Я приезжаю в Ираклион, прихожу на автобусную станцию и спрашиваю, есть ли автобус в Миртью. Мне говорят, что есть. Хорошо. А когда оттуда обратный автобус в Ираклион? Говорят: «А обратно автобуса нет». Как нет? Короче говоря, не получилось. Дальше я познакомилась с одной гречанкой, которая возила экскурсионные туры на катере, и рассказала ей, что не смогла попасть в Миртью. Она говорит: «Я живу в соседней деревне. Вот будет плохая погода — я поеду и вас завезу в Миртью. В Миртье очень много мужчин, которые с удовольствием женятся на русской, вы выйдете замуж, найдете себе
О ляпах и свежей голове
Самая моя распространенная ошибка — это ляпы. Например, в прошлом году я заканчивала статью «Грузинский авантюрный роман о Петербурге» для сборника Пушкинского Дома. И написала — человек должен был прийти и забрать машинопись. Хорошо, что дня через три я все еще раз прочла и выяснила, что вместо «Феликс Юсупов» написала «Григорий Распутин». Перепутала жертву и палача. Хорошо, что успела исправить. Потому что это смех был бы. Ляпы и проглядывания — это мой бич. Поэтому:
а) Обязательно нужно, чтобы полежало, а потом еще раз прочесть на свежую голову.
б) Нужен хороший корректор — институт, который сейчас исчезает. Даже не редактор, а хороший корректор, чтобы внимательнейшим образом прочел.
Потому что у автора замыливается глаз и он может пропустить ошибку в самом очевидном месте — именно очевидное и не замечается.
О достоинствах пишущей машинки и DVD-плеера

Встаю я обычно в полдевятого — в девять утра. Обязательно гимнастику делаю для глаз, для шеи, растяжки и обязательно дыхательную гимнастику. Пока все было нормально, я занималась йогой, но сейчас с этим несколько сложно. Потом я завтракаю — меня с детства родители научили плотно завтракать — и иду в библиотеку, где у меня уже заказаны
У меня нет компьютера. Я работаю на пишущей машинке, а кому надо, тот сканирует. Те, с кем я работаю, уже отвыкли удивляться — знают, что это данность. Если меня просят
О белых пятнах и лесе

Я занимаюсь, если высокопарно говорить, удалением или, точнее, сужением белых пятен. Потому что литература — это лес, а не клумба. Это не я сказала — это Юрий Михайлович Лотман сказал, а до него такую же мысль высказал Юрий Николаевич Тынянов. Нужно заниматься не только Маяковским, Блоком и Пушкиным, но и людьми, которые составляли и первое, и второе, и третье, и четвертое окружение. Это то, что делает, например, Роман Давидович Тименчик, и делает очень успешно. Потому что из всего этого и получается массив литературы. На пустом месте ни Блоки, ни Маяковские не растут: нужно знать и окружение, и окружение окружения.
Как-то на Тыняновских чтениях в Резекне Тименчик делал доклад о письмах поэтов к Блоку и показывал, что Блок читал







