Книжная полка Владимира Познера
Скоро Arzamas и Центр «Слово» на ВДНХ откроют библиотеку. Чтобы заполнить книжные полки, мы попросили музыкантов, ученых, поэтов и других читающих людей посоветовать свои любимые тексты. В новом выпуске рубрики — журналист Владимир Познер
Для меня книга как таковая — сущность, для которой даже слово «любимая» не подходит. Это часть меня, без которой я не мыслю жизни. Я сижу в комнате среди книжных полок, и мне от этого просто хорошо, здесь книги, которые я обожаю.
В пять лет мама читала мне «Приключения Тома Сойера» — это была первая толстая книга в моей жизни. Туда входили не только «Приключения Тома Сойера», но и «Гекльберри Финн», многие рассказы Марка Твена — особенно я любил «Лягушку из округа Калаверас» В переводе на русский язык рассказ публиковался под названиями «Знаменитая прыгающая лягушка округа Калаверас» и «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса».. Наверное, с этого момента книга стала для меня
Исключение — книга Алана Александра Милна о Винни-Пухе. В первой книге, которая называется
Важно понимать, что русская и советская детская литература прошли мимо меня. Мои детские книги — англо-американские и частично французские. Русского языка я не знал,
Жил да бы
Крокодил.
Он по улице ходил,
Папиросы курил,
П
Крокодил Крокодил Крокодилович.
А первой русской книжкой, как ни странно, стал «Тарас Бульба» — его мне читал папа, когда я уже начал учить русский, в 16 лет. Мне очень, очень понравилось.
Александр Дюма. «Три мушкетера»
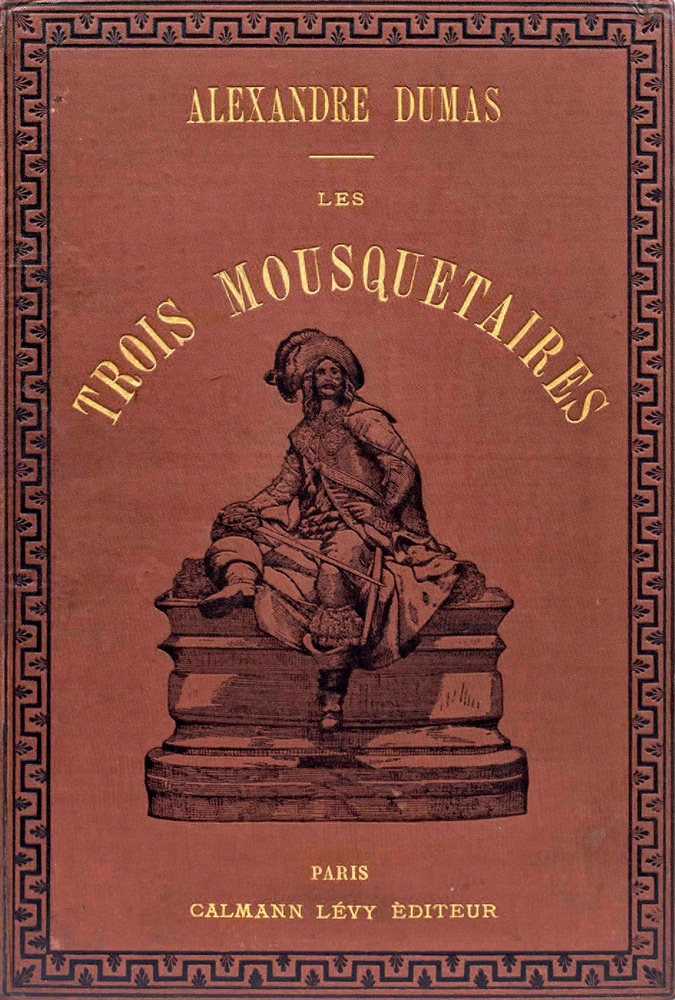
«Трех мушкетеров» я впервые услышал на французском: сначала мне читала мама, потом читал сам — сто или сто тысяч раз. Знаете, я часто задумывался, почему это, с моей точки зрения, великая книга. Совершенно уверен, что Дюма к этому не стремился, но получилось так, что она учит. Не люблю слово «учит», но «Три мушкетера» вводят в твою жизнь такие понятия, как отвага, преданность, верность, любовь, товарищество — в лучшем смысле этих слов.
Меньше всех в детстве мне нравился Арамис — уж очень он казался хитрым. Я, конечно, хотел быть д’Артаньяном, что понятно. Но
Все это вместе создавало такой мир, что я долго мечтал родиться в то время: тоже пошел бы в мушкетеры, даст бог, встретил бы их всех, было бы нас не четверо, а пятеро.
Алан Александр Милн. «Винни-Пух»
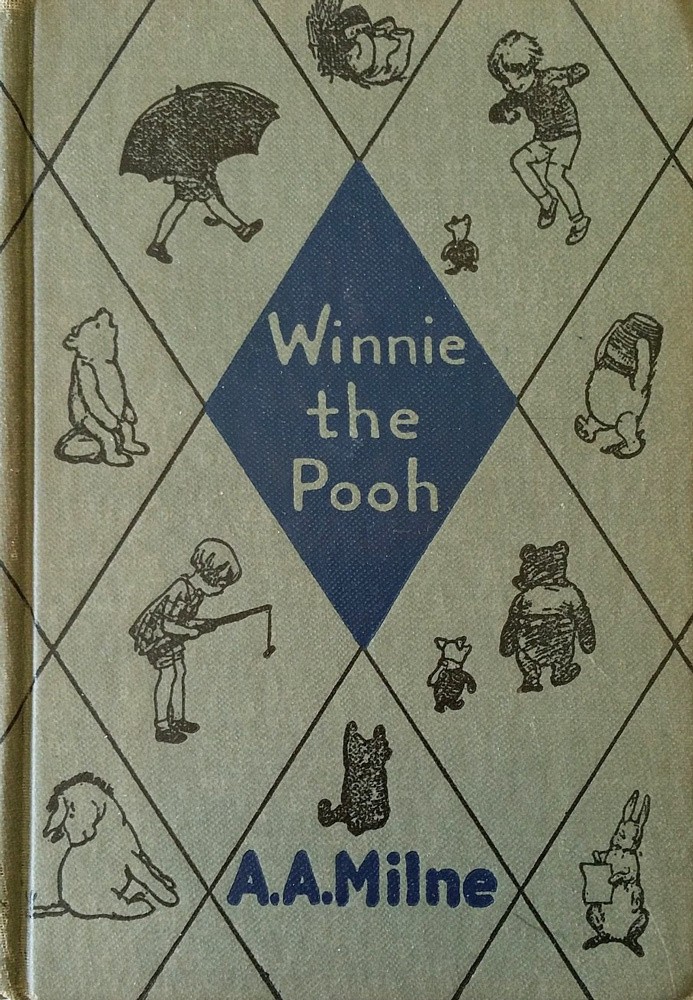
Здесь на книжке пишут: «Переведено Борисом Заходером», хотя Заходер позволил себе довольно много вольностей, особенно в стихах. Это, собственно, вообще стихи не Милна, а самого Заходера, которые имеют мало общего с первоисточником, что никак не умаляет моих симпатий — просто это не та книжка, которую я читал в детстве.
Прежде всего, «Винни-Пух» — очень английская история. У меня такое ощущение, что все-таки у англичан особое отношение к животным, они для них совершенно как люди. Собак там называют Джорджами, и никому не придет в голову выбрать иностранное имя, чтобы не обидеть тезок-британцев.
За что я люблю Винни-Пуха? Ну, во-первых, за то, что это про меня — я в детстве тоже очень любил мед и до сих пор люблю. Мама моя всегда завтракала тостами с медом.
Во-вторых, за невероятное чувство юмора. Возьмите сцену, когда ночью приходит Тигра — большой, скачущий,
И то, что Кристофер Робин такой же мальчик, как я, и он с ними дружит — все это
Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»
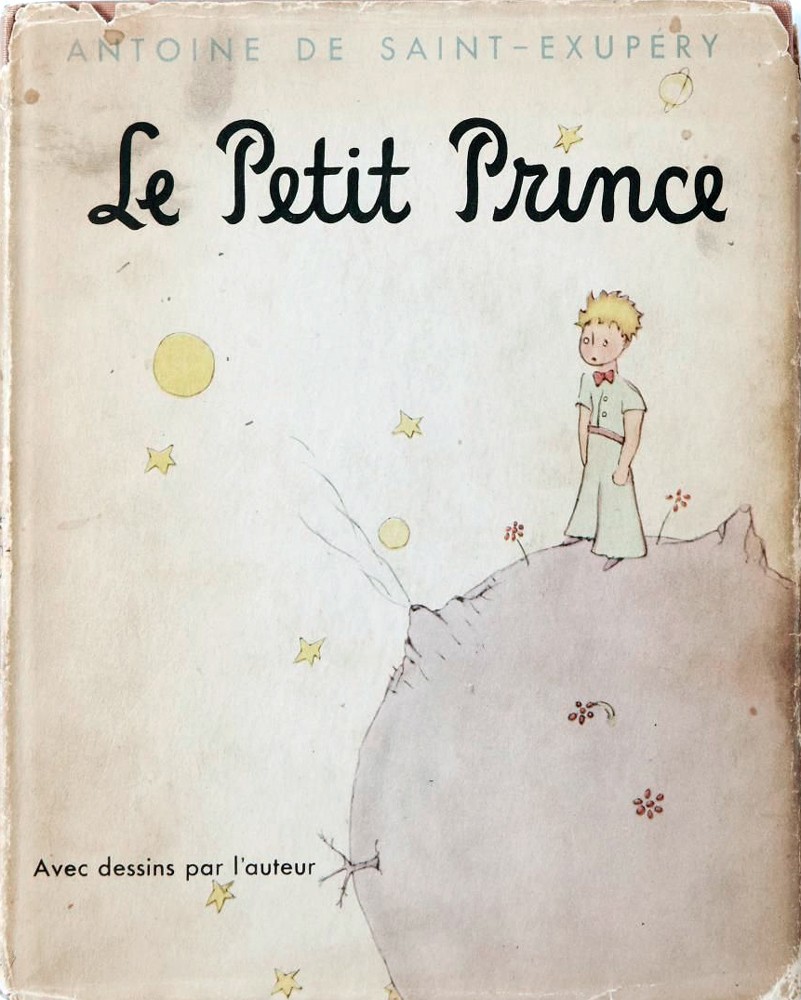
Это, конечно, особая книга. Помню, как меня поразила знаменитая фраза о том, что мы отвечаем за тех, кого приручили. Я стал думать, что она значит, и решил для себя, что это и есть любовь. А рисунки какие потрясающие! Ты думаешь, что нарисована шляпа, а там вовсе не шляпа — просто удав проглотил слона. И мальчик с этой копной светлых волос, и мантия, и одинокая звездочка над ним… Экзюпери, конечно, великий писатель, который смог передать главное — уровень восприятия мира, во многом поганого, который предстает здесь просто как печальный, очень печальный.
Это книга об одиночестве — может быть, первая философская книга, которая побуждает задуматься, что ценно на самом деле. Будучи ребенком, ты, конечно, не формулируешь это именно такими словами, и все же у тебя возникает чувство прикосновения к
Марк Твен. «Приключения Тома Сойера»
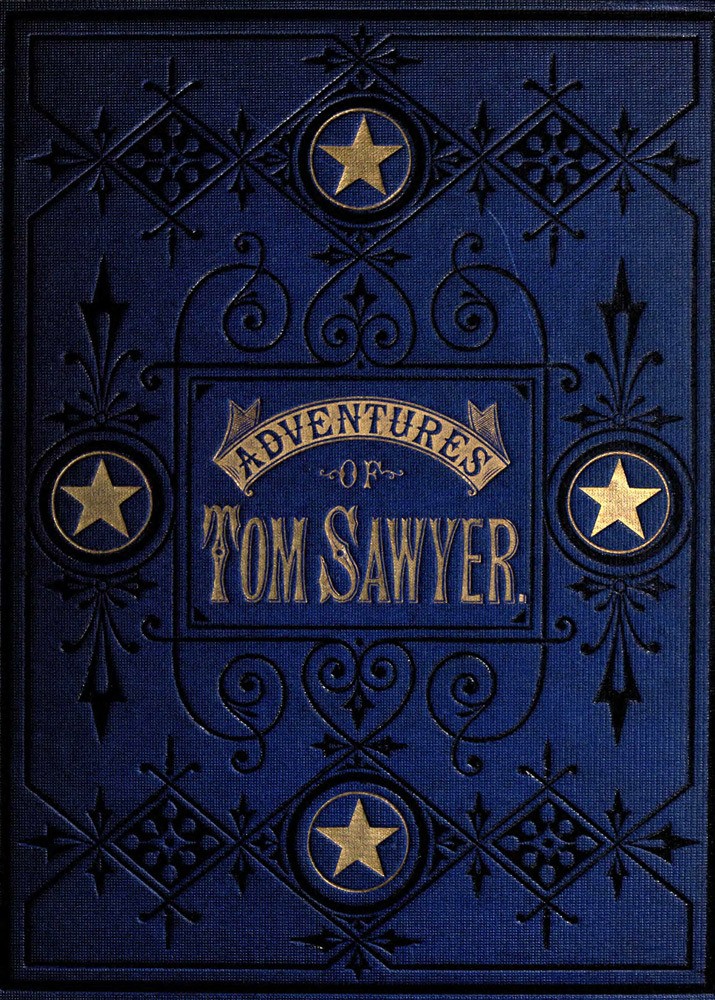
Это первая книга, которую я физически помню, она у меня до сих пор стоит на полке. Помню восхищение, с которым я слушал маму, когда она ее читала, — мне было тогда пять лет.
Ну и конечно, для маленького, растущего человека самое главное — когда ты в книге находишь себя. Я хотел быть Томом Сойером, я был такой же, как он, — с этим забором, и с крысой на веревочке, и со стеклянными шариками в карманах. А его невероятная отвага — как он защищает Бекки! То, что Марк Твен
В этом смысле, к примеру, «Остров сокровищ» — не про меня. Это замечательные приключения, но Джим Хокинс — не я, нет у меня к нему такой любви. Там все невероятно увлекательно, но сам мальчик не вызывает таких чувств. Мне интереснее даже Джон Сильвер, который написан так, что прямо возникает перед глазами. А в «Томе Сойере» есть совершенно особое ощущение: «Да это же я!»
Я уж не говорю об их речи, о диалогах: они ведь южане, и если тебе знаком американский Юг, у Твена ты немедленно его узнаешь и почувствуешь. Я сам довольно часто бывал на Юге — сначала два, а потом четыре моих двоюродных брата жили в Вирджинии. Я слышал их речь, ел их еду, это все мне очень памятно.
И как же Марк Твен, белый американец с Юга, кстати говоря, из штата Миссури, сумел воспитать во мне абсолютное неприятие расизма! Абсолютное настолько, что слово «ниггер», которое на русский можно перевести как «черномазый», вызывает у меня бешенство. Это, конечно, дружба Тома Сойера с Джимом — именно из-за него я уже тогда понимал, что нельзя быть расистом, поскольку Джим лучше, умнее и добрее многих остальных.
Редьярд Киплинг. «Just So Stories»
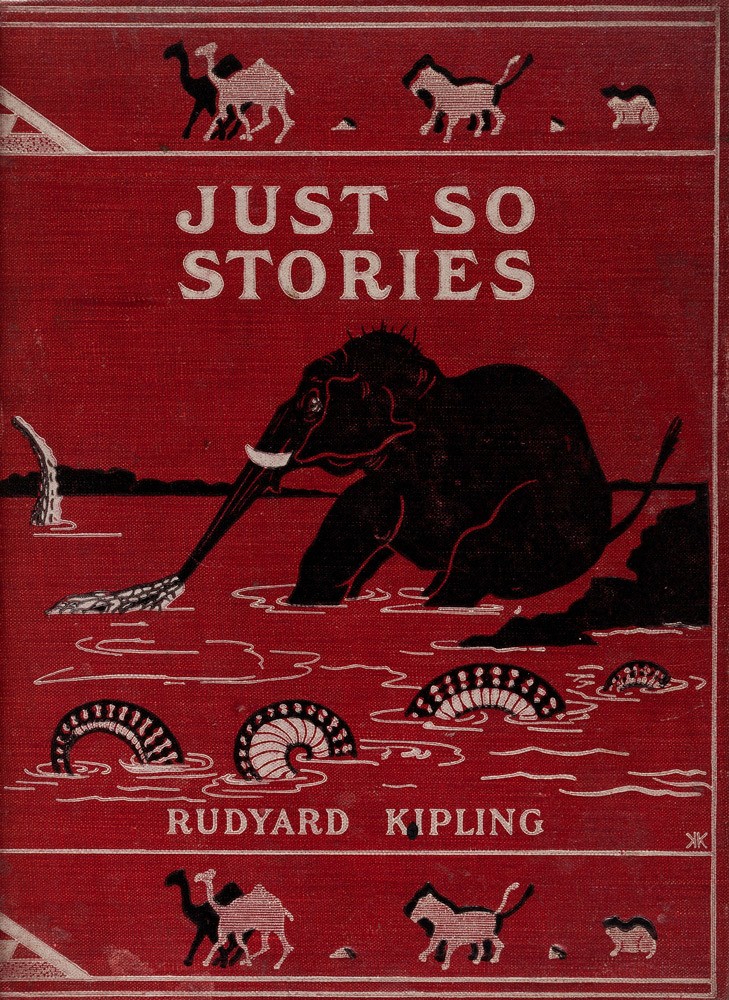
По-русски эта книга должна была бы называться «Рассказы просто так». У нас она переведена очень плохо, хотя переводил ее Корней Чуковский На русском языке книга Киплинга выходила в разных переводах (Александры Рождественской, Евгении Чистяковой-Вэр, Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Раисы Померанцевой, Ксении Атаровой) и под разными названиями: «Необыкновенные сказки», «Просто сказки», «Сказки и легенды», «Вот так сказки», «Сказки просто так», «Сказки слово в слово», «Случилось именно так: сказки для малых детей», «Маленькие сказки». . Он счел, что книга сугубо для детей, и надо сделать все максимально просто. А у Киплинга это абсолютно взрослые рассказы и непростой язык.
Вообще, я думаю, что в английской литературе лучшего рассказчика, чем Киплинг, просто нет. Именно по умению рассказать story История (англ.).. Про кота, который гулял сам по себе, — это же исключительная история, хотя на русском кот превратился в кошку. А «Откуда у слона хобот» — мой любимый рассказ! Когда крокодил берет за нос маленького слоненка, у которого нет еще хобота, и начинает его тянуть. И как все это комментирует питон — таким витиеватым языком, сложноподчиненными фразами: «Если ты, о мой юный друг, тотчас же не отпрянешь назад, сколько хватит у тебя твоей силы, то мое мнение таково…» В детстве это вызывало у меня дикий восторг, да и сейчас вызывает.
Или «Бабочка, которая топнула» —
«Легенды о Робин Гуде»

У них нет одного автора, это просто легенды, которые
Эта книга, конечно, в
Робин Гуд еще и из лука стреляет как никто. Хотя когда он сражается на палках с Большим Джоном, то проигрывает — то есть он не непобедим, он не супермен. Но он все равно лучше всех. И его любовь с Мэриан, и его смерть — в детстве я рыдал над этим. Вся эта книга — настоящий гимн мужеству, дружбе, справедливости. Вообще, мне кажется, в детях изначально очень велика жажда справедливости. Если ребенок взрослеет рядом с несправедливостью, неизвестно, каким он вырастет. А эта книга — заряд справедливости навсегда.
«Король Артур и рыцари круглого стола»
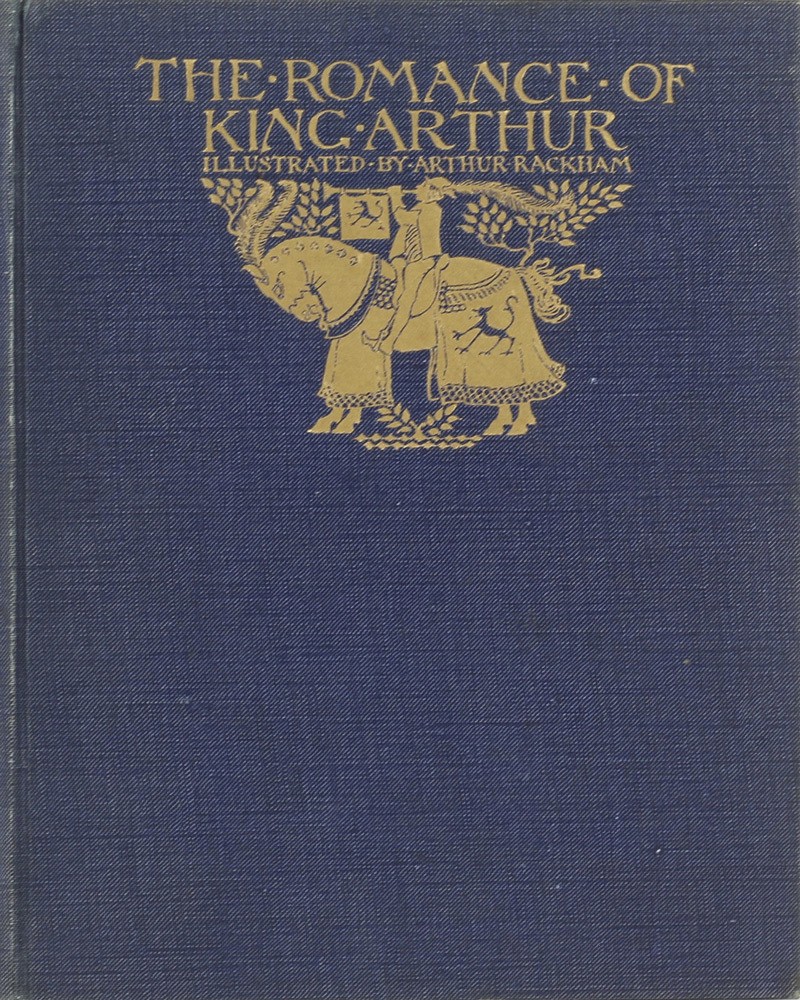
Это сложная вещь, тема, за которую много кто брался: и Вальтер Скотт, и Томас Мэлори, даже у Стейнбека есть три тома по поводу короля Артура и Гвиневры, да и Марк Твен написал «A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court» («Янки при дворе короля Артура») — частично с издевкой, частично нет, но Ланселот у него все равно замечательный. Это еще одна книга о мужестве, о том, что такое настоящий рыцарь, о том, что главное — не врать, всегда быть верным, не бояться. Книга, которая воспитывает в человеке лучшие качества. Великая легенда, на мой взгляд, великая совершенно.
Не помню, чтобы эта книга входила в обязательную программу, но в школе была потрясающая библиотека, где стояли очень удобные плетеные кресла с подушками. Мы всегда стремились туда, и библиотекарь могла ко мне подойти и шепотом сказать: «Есть одна книга, она для более взрослых, но я знаю, что
А еще у нас были ручные печатные станки, мы печатали и переплетали книги, для нас Гутенберг был абсолютно живым человеком. Все это вместе взятое — прежде всего, конечно, книги — вводило нас в разные эпохи, невероятно привлекало к истории, вызывало желание знать, что и как было. Сочетание чтения обязательного и необязательного, работа руками, погружающая в то время, — это было
Джозеф Конрад. «Сердце тьмы»
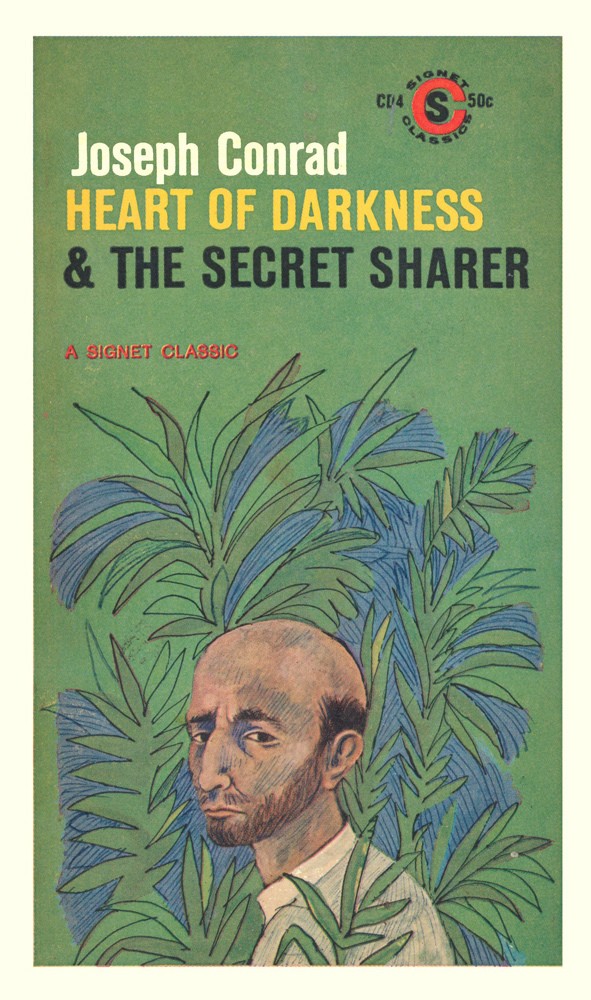
Джозеф Конрад — поляк, который переехал в Англию и стал величайшим англоязычным писателем. Для меня «Сердце тьмы» —
«Сердце тьмы» у меня и сегодня стоит на полке — тоненькая книжечка, написанная сложно, но ты не продираешься сквозь текст, а — как бы это сказать точнее — обсасываешь каждое слово, следуя за тем, как медленно-медленно развивается действие. Это очень страшная книга, и при этом — то, что у французов называется tour de force, демонстрация невероятного, вызывающего восхищение мастерства.
Говорят, по ней снят фильм, но я его не видел — есть экранизации, которые я не хочу смотреть. Просто понимаю, что мне дороги образы, которые сложились в моем воображении, и не хочу сравнивать их с экранными. Кстати, именно поэтому я категорически против того, чтобы дети смотрели телевизор: читая, мы создаем в голове образ, а как только его нам показали, нашу фантазию убили. Я помню, как жил этой фантазией, как жил с ними со всеми, как был там, черт возьми! Помню запах палубы на этом корабле, точно знаю, каким было небо, как двигались волны в море, — нет, лучше фантазии нет ничего на свете.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Великий Гэтсби»
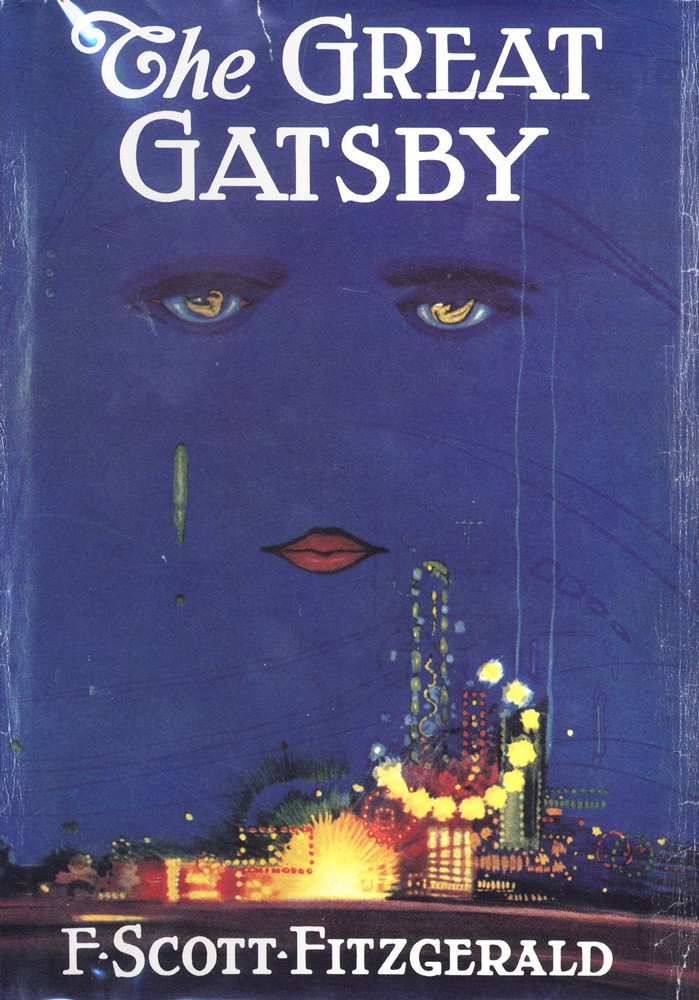
Книга, которую я перечитывал, наверное, раза три. Это, конечно, великая трагедия о несоответствии человека тому, к чему он стремится и к чему его устремления приводят. Ты ведь с самого начала чувствуешь, что не будет того, что он хочет, и что, скорее всего, изъян — в нем, в этом человеке, который вызывает большую симпатию. А дальше ты понимаешь: мир устроен так, что неверный шаг не просто опасен, а приводит к беде, настоящей большой беде. Героя «Великого Гэтсби» губит даже не самомнение, но
У Ганса Фаллады есть роман «Каждый умирает в одиночку». Это название очень точно сформулировано: как бы там ни было, любой из нас одинок. «Великий Гэтсби» — об этом, а еще о том, что очень часто за осуществление своих желаний ты платишь слишком высокую цену. В этом смысле книга на меня произвела очень сильное впечатление.
Первый раз я прочитал ее, думаю, лет в двадцать и был потрясен обаянием образа и невероятным состраданием этому человеку. Когда ты уже не ребенок, начинаешь понимать, что мы не всегда поступаем как Робин Гуд, или как д’Артаньян, или так, как хотелось бы, —
Знаете, Фицджеральд очень дружил с Хемингуэем, и
Гюнтер Грасс. «Жестяной барабан»
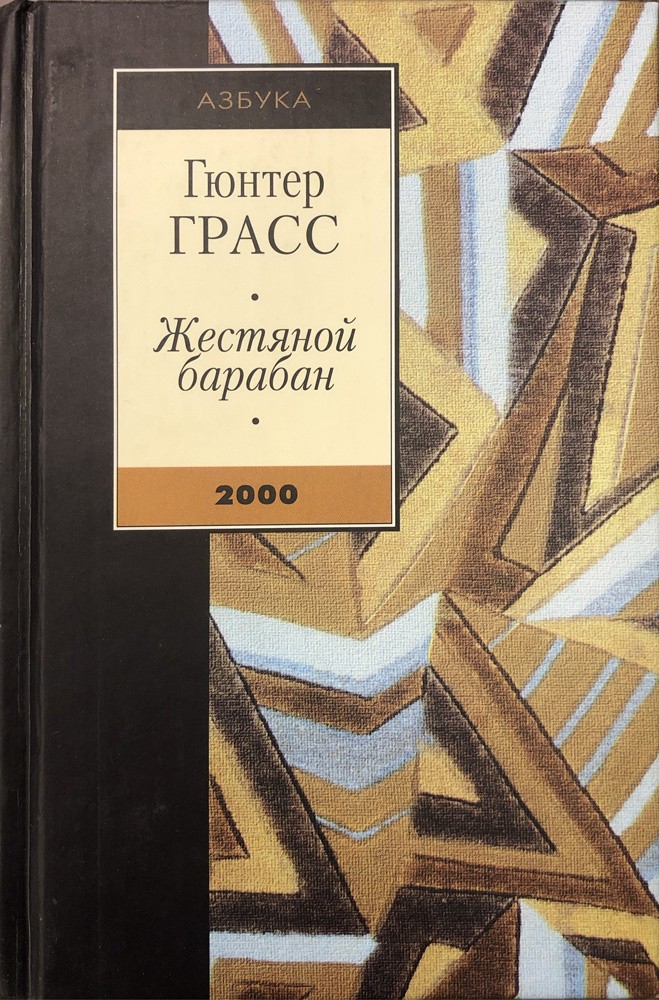
Книга о фашизме и нацизме. У меня особое отношение к этому: я все-таки военный ребенок и очень хорошо помню войну, хотя был совсем маленьким. Папа мне показывал документальные ленты, которые демонстрировали на Нюрнбергском процессе, то, что немцы снимали в лагерях — они ведь очень тщательно все фиксировали. Думаю, так он меня воспитывал — смотри, что люди могут делать с другими людьми.
Для меня это перекликается с великим фильмом «Кабаре». Помните эпизод: загородная пивная, крупным планом — прелестный подросток, блондин, который начинает петь невероятно красивым голосом. Камера отходит, мы видим на его руке повязку со свастикой. Постепенно он становится в своем пении все более агрессивным, посетители и хор начинают ему подпевать — тоже все более напористо — и в конце вскидывают руки в фашистском приветствии.
А за одним из столов сидит пожилой человек, который, видимо, прошел Первую мировую — сидит, уткнувшись лицом в ладони, в полном отчаянии перед накатывающимся фашизмом. Так вот, «Жестяной барабан» — невероятно сильно написанная книга. На первый взгляд — не о нацизме, но для меня — именно о нем. Лучшей книги на эту тему я не читал.
Томас Манн. «Признания авантюриста Феликса Круля»
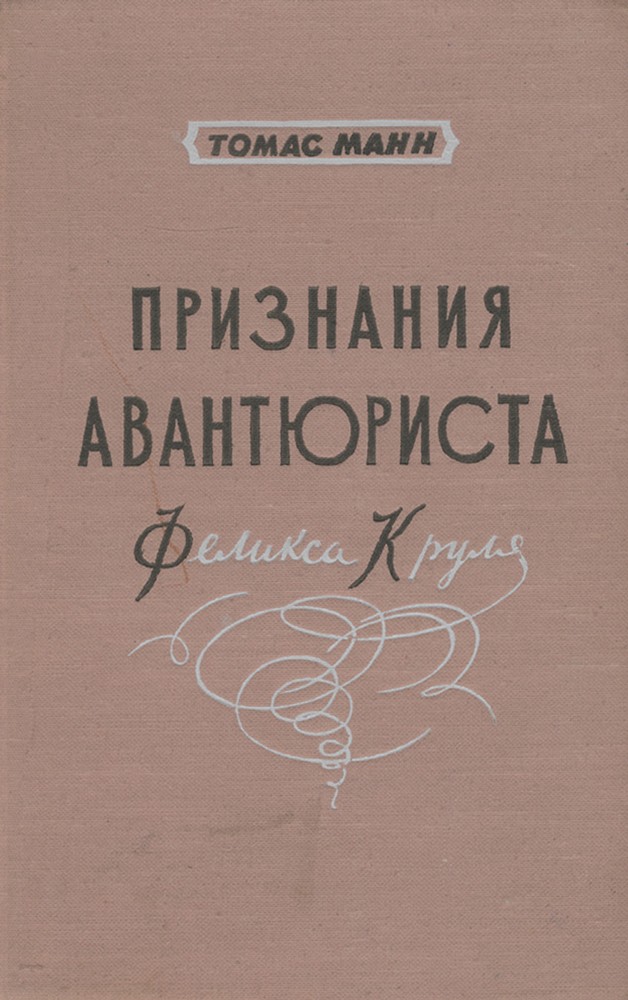
«Признания авантюриста Феликса Круля» — о том же, хотя и совсем
Когда мы жили в Америке последние два года, у папы не было работы — он был в черных списках Владимир Александрович Познер (1908–1975) в 40-х годах жил в США и работал в прокатной компании MGM International в Нью-Йорке. В эпоху маккартизма, время борьбы с коммунистами, Познер попал в черные списки и был уволен с работы. По данным Министерства обороны США, рассекреченным в 1990-е, примерно в то же время был завербован советской разведкой, на которую работал под псевдонимом Платон, а в 1948 году он вместе с семьей был вынужден покинуть США. , — и нам пришлось выкатиться из нашей шикарной квартиры в маленькую. Меня определили жить к женщине по имени Мария-Луиза Фалькон, она работала у моего отца в кино. Всегда улыбаюсь, вспоминая один случай. На тот момент мне было лет четырнадцать, я уже довольно сильно интересовался сексом и покупал такой полупорнографический журнал. Он стоил 50 центов — по тем временам дорого. Женщины там были не голые, а в лифчиках и в трусиках, но в разных позах — в общем, для меня тогдашнего это было «ого!». Я втихаря этот журнал читал и прятал под кроватью. Но однажды, придя домой после школы, я обнаружил всю эту стопку у себя в изголовье кровати, поверх одеяла: Мария-Луиза нашла и выложила, но не сказала мне ни слова.
Эрнест Хемингуэй. «По ком звонит колокол»
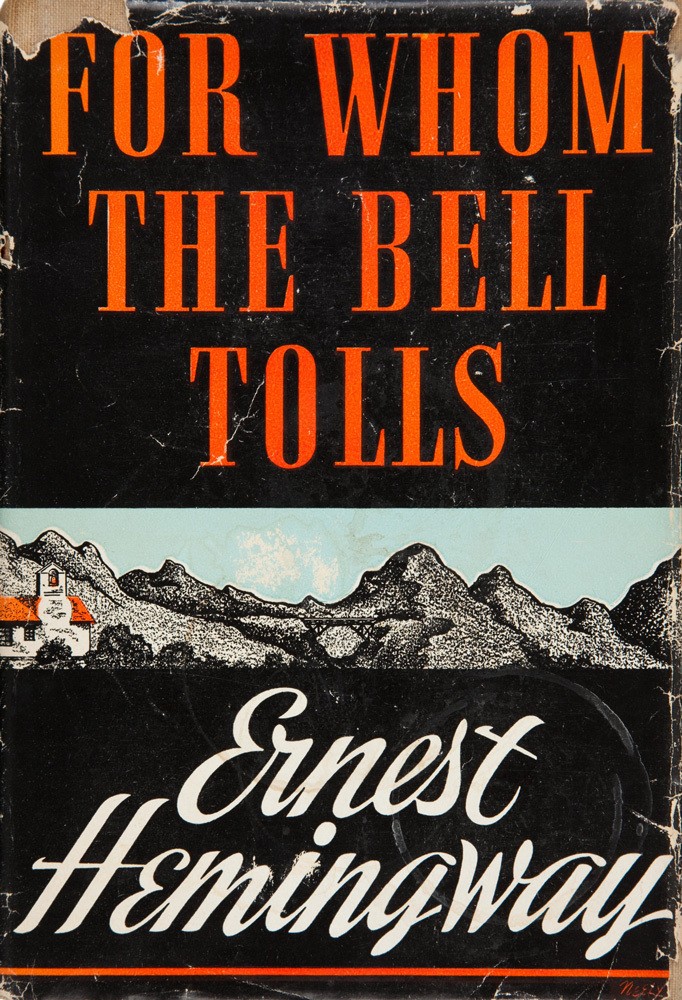
Эта Мария-Луиза была из республиканцев, которые бежали от Франсиско Франко Франсиско Франко (1892–1975) — глава испанского государства с 1939 по 1975 год. В 1939-м он стал вождем фашистской партии «Испанская традиционалистская фаланга», или «Национальное движение», и возглавил мятеж против Испанской республики. В результате установилось авторитарное правление Франко, обладавшего неограниченными полномочиями. . Она рассказывала мне о войне, и я тогда впервые прочитал «По ком звонит колокол». Меня совершенно потрясла эта книга, этот главный герой, эта любовь — когда он описывает их близость и то, как двигается под ними Земля. Образ страстной, невероятной любви и ее физического воплощения на меня очень сильно действовал. И то, как история ужасно кончается, и то, что делает война с людьми: не то что одни плохие, а другие хорошие — нет, просто невероятная жестокость с обеих сторон.
Если говорить об антивоенной книге — вот она, пожалуйста, читайте. Там есть и очень смешные вещи для подростка — например, как они матерятся. Кстати, любопытно, что если русский мат в значительной степени имеет татарское начало, то у испанских ругательств начало мавританское. И это такой очень усложненный мат, не то что прямолинейный американский: когда их бомбят немецкие самолеты, один из солдат орет — дословно перевожу: «Я *** молоко твоих моторов!» Мальчиком я думал — ну вот как это может быть, как можно было так написать? Подобные вещи, конечно, врезаются в память навсегда.
Еще меня всегда поражал один из персонажей, Карков, русский, довольно активная и неприятная фигура. Только много позже я узнал, что его прототип — Михаил Кольцов Михаил Кольцов (1898–1942) — писатель, журналист, один из сооснователей журнала «Огонек», активно участвовавший в Февральской и Октябрьской революции. Кольцов работал военным корреспондентом во время Гражданской войны в Испании
Эрнест Хемингуэй. «Старик и море»
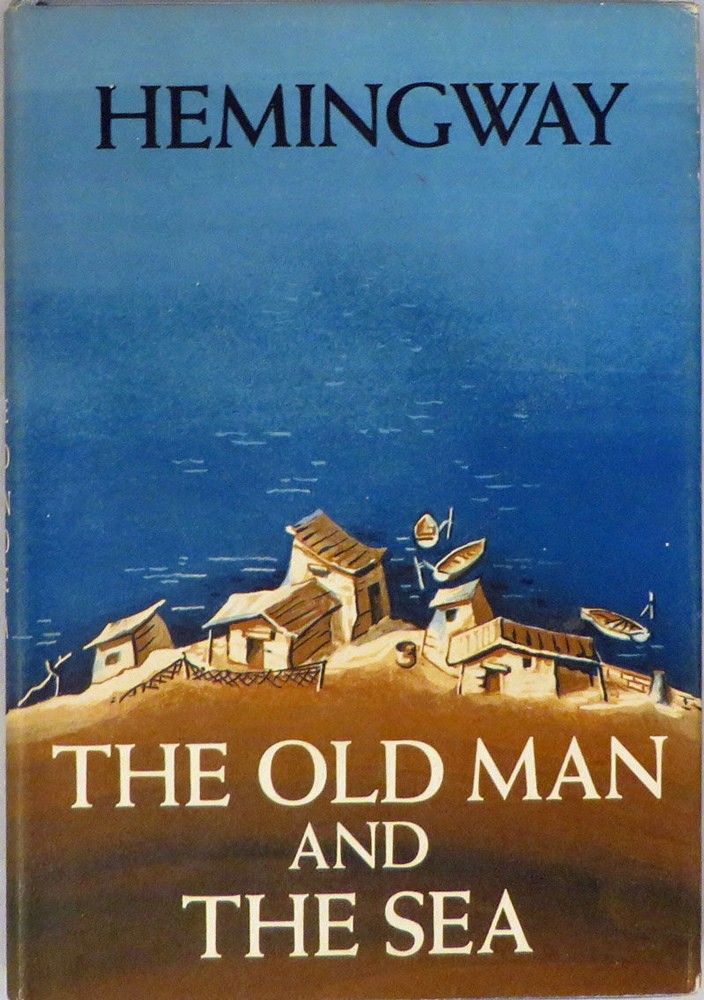
Если говорить совсем уж ходульными словами, это книга о двух вещах: о величии человеческого духа и о полной безнадеге. Уильям Фолкнер в своей нобелевской речи сказал: «Я верю в то, что человек не только выстоит — он победит», и вот эта убежденность в величии, в непобедимости человека и есть суть «Старика и моря».
Ну а безнадега — потому что мы все умираем. Все равно в конце концов придет смерть, как бы там ни было. Думаю, то, с чем человек не может примириться и откуда, собственно, берет свое начало религия и многое другое, — это невозможность принять страшный факт: мы родились, чтобы в конце концов умереть. Это и есть безнадега. Так как я атеист и абсолютно не допускаю возможности
Джозеф Хеллер. «Уловка-22»
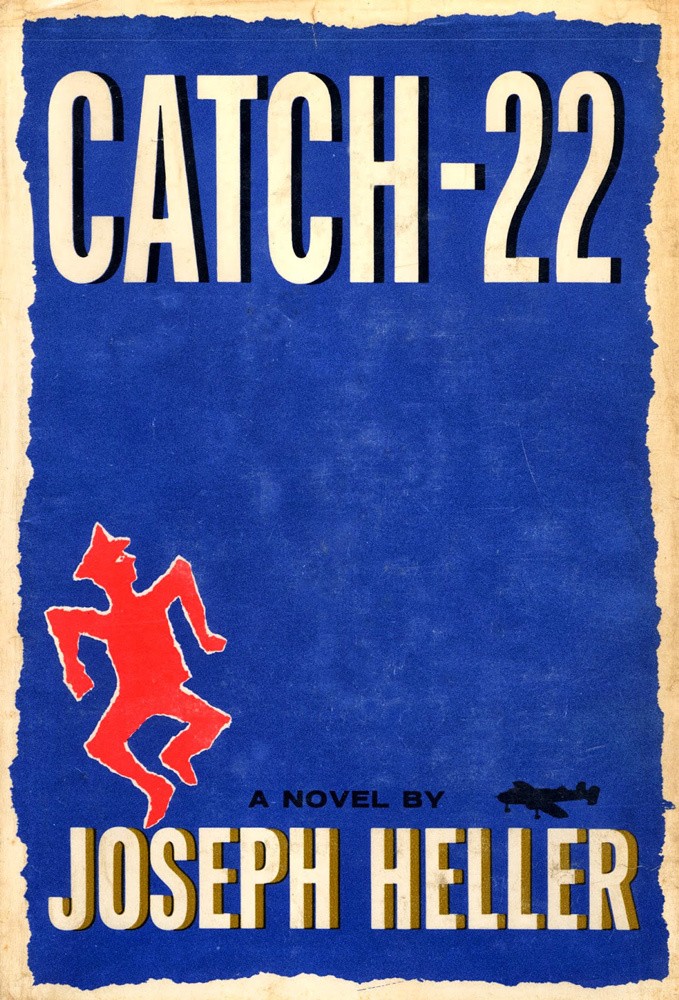
Обожаю эту книгу. В ней заключена невероятная издевка над истеблишментом, над тем, как мы живем, над правилами, которые придумываем, над вздорностью нашего существования.
Когда я снимал фильм о Скандинавии, то разговаривал с одним эмигрантом — их в Швеции очень много. Он рассказывал: «Понимаете, как здесь все устроено? Я хочу легально жить в этой стране, но для этого мне нужен соответствующий документ. Я за ним обращаюсь. Мне говорят: „Мы вам его выдадим с удовольствием, но для этого вы должны работать“. Обращаюсь к потенциальному работодателю. Мне говорят: „С удовольствием вас наймем, но нужно, чтобы у вас был документ о легальном проживании“».
Вот и все, это и есть «Уловка-22», она постоянно преследует нас. Ну это же очевидный бред, над которым ты, с одной стороны, хохочешь, с другой — он вызывает дикую ярость. Ребята, что вы делаете? Неужели непонятно, что так жить нельзя? Джозеф Хеллер написал совсем немного книг, но эта — абсолютный шедевр.
Гомер. «Илиада»
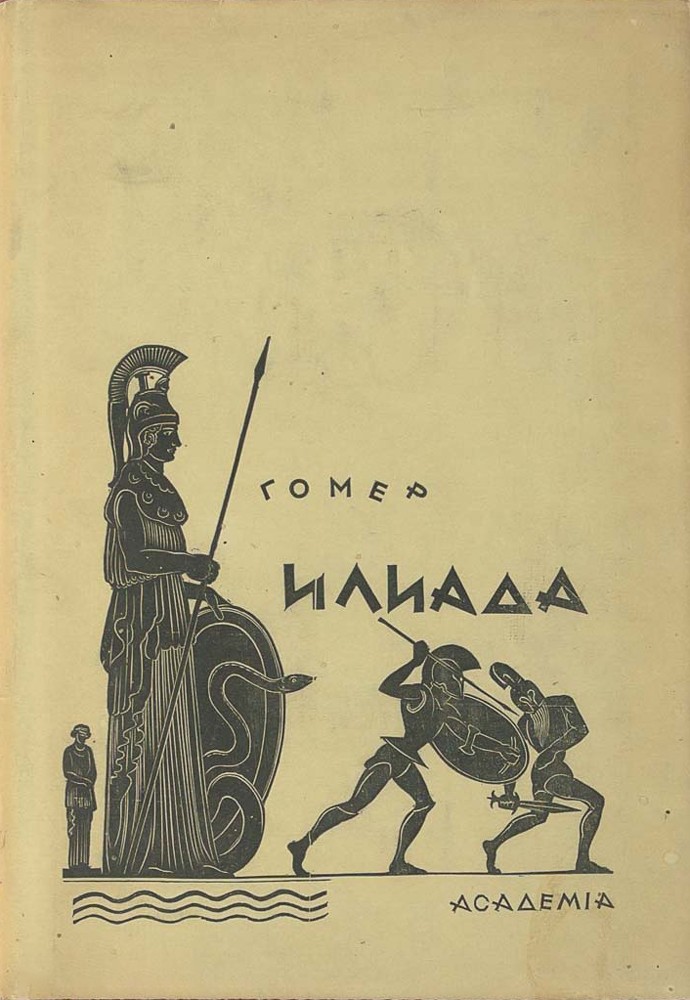
Когда мама читала мне легенды Древней Греции, я был пленен. Картинка, которая возникала у меня в голове тогда и возникает до сих пор всякий раз, когда я начинаю об этом думать, — яркий свет, синее небо, ослепительное солнце. Это
Ребенком я часто думал: вот бы пожить и тогда тоже. Я был бы в Афинах, я бы все это видел, во всем бы участвовал. Конечно, тогда я не думал о том, что там были рабы, что не все было так восхитительно, что они делали страшные вещи — вся эта история с Парисом, с тремя богинями и, конечно, с Еленой. И как же мне жалко Трою. Как там у Вергилия: «Timeo Danaos et dona ferentes» — «Бойтесь данайцев, дары приносящих»
Позже я стал читать и читаю до сих пор древних греков, философов, вот недавно перечитал «Орестею» Эсхила. Читаешь и думаешь — ну как это может быть? Две с половиной тысячи лет тому назад — и ничего не изменилось, мы сегодня такие же абсолютно. Страсти, благородство, подлость — все это в нас как было, так и есть. «Илиаду» я впервые прочел
Дэвид Лоуренс. «Любовник леди Чаттерлей»
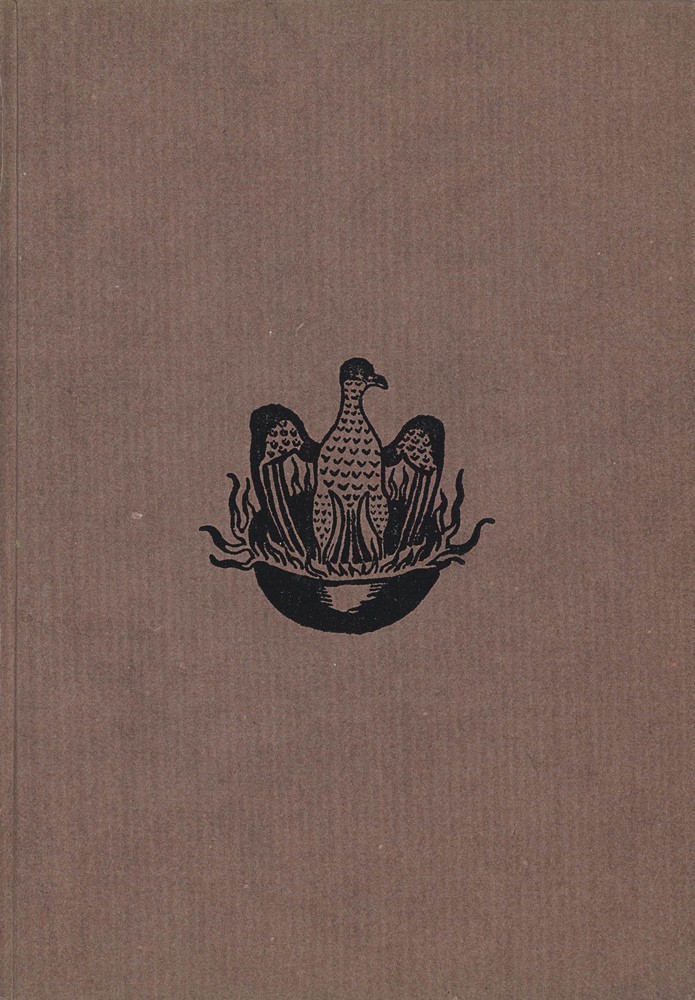
Я очень чувственный человек и здесь впервые, а может, пожалуй, и единственный раз — больше я такого не встречал — столкнулся вот с таким описанием чувственности, физического обладания, стремления людей друг к другу. Это, конечно, очень эротический роман, но в нем нет ничего грязного, ничего развращающего. Я поражался, почему книга была запрещена, ну почему? Она так прекрасна! Это рассказ о любви, которая абсолютно противоречит правилам, нашему представлению о том, что такое измена, что можно и чего нельзя. Она аристократка, он садовник, но чувство, которое между ними появляется, сильнее и главнее всего. Это желание, это телесное совпадение для меня, может быть, самая важная вещь. Помню, на меня книга произвела очень сильное впечатление именно потому, что касается важнейшей части нашей жизни, ее сексуальной составляющей. Ничего подобного я больше не читал.
Уильям Шекспир. «Король Лир»
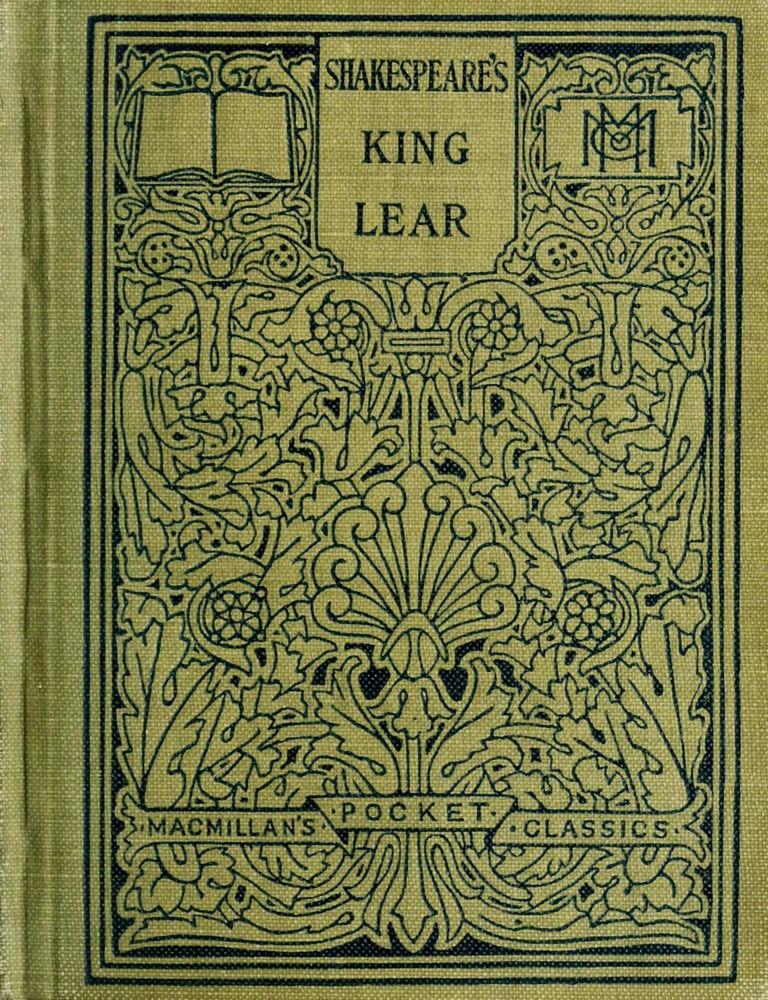
Ну что тут скажешь? Буря, буря. Страшная расплата за самомнение, за непонимание самых основных вещей, а в конце — прозрение. Лир для меня фигура в некотором смысле абсолютная: есть в литературе несколько образов, которые являются сгустком того, что представляет собой человек, и Лир — один из них. То, что есть в нем, сидит в каждом из нас. Одна дочь говорит ему правду, но неприятную, а две льстят, и он на это, как бы сейчас сказали, ведется. Что из этого получается и через что он проходит, прежде чем приходит к пониманию? Я просто вижу, как Шекспир грозит нам пальцем и говорит: «Смотри, человек, бойся самого себя». Бесподобная вещь.
Вообще, пьесы читать довольно трудно, но я хорошо помню, как прочел ее и тут же начал читать снова. Я видел «Короля Лира» в кино, и не один раз, видел в театре. Не то чтобы я остался равнодушным, просто… Играли потрясающие актеры, но все-таки им приходилось играть то, чего сыграть нельзя, — так мне кажется. Сыграть невозможно, но нашему воображению это подвластно. И вот здесь литература абсолютно побеждает любые визуальные искусства.
Федор Достоевский. «Братья Карамазовы»
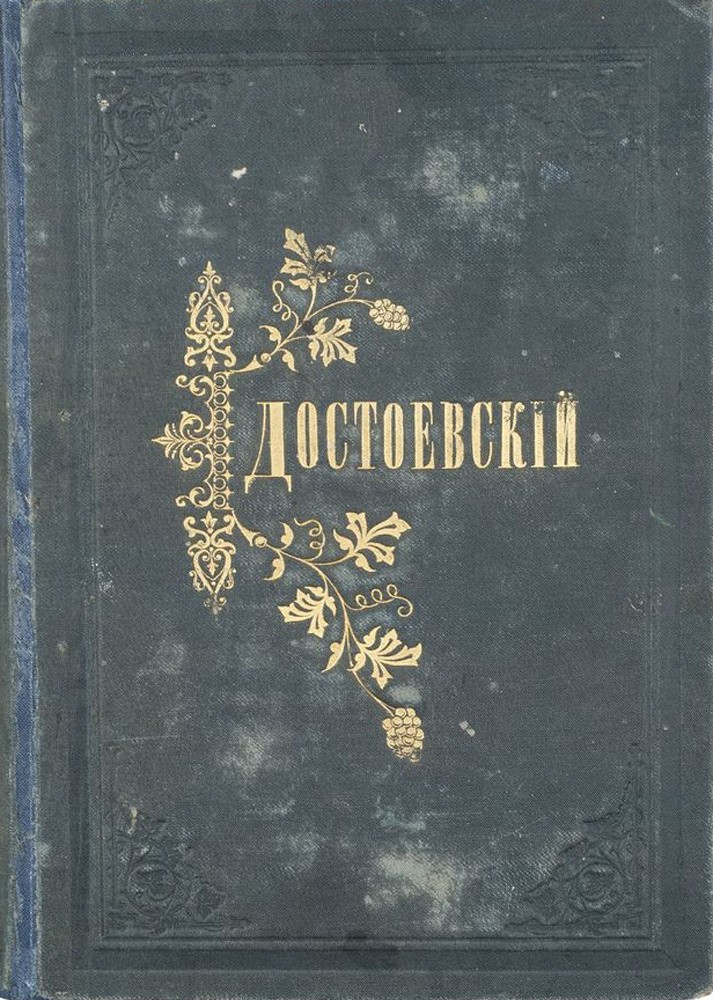
Есть только два человека в литературе, которые
Меня в свое время абсолютно поразило, как же эта сволочь Достоевский нас понимает. Он, наверное, был плохим человеком, потому что так понять, сколько в нас, извините, говна, может мало кто. Не знаю, насколько Достоевский был религиозен, но вспомните, как он описывает старца, который умер: такой чистый, такой невероятно светлый — но на третий день начинает пованивать. Это же с ума сойти! Или великий инквизитор, который Иисусу Христу говорит: ты, мол, впредь не появляйся здесь, я тебя отпускаю, но ты больше никому не нужен.
Гениальность Достоевского в понимании происходящего просто поражает: это и есть человек, это и есть мы, это и есть ты — такой, которого сам знать не хочешь. И только великая книга выворачивает тебя наизнанку — на, погляди, дорогой, какой ты хороший.
Джером Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи»

Это просто про меня, это моя жизнь в 14–15 лет. Невероятная нежность, тонкость, ранимость подростка в мире, в котором нет нежности, нет тонкости, нет ранимости, но в нем надо существовать. Исключительно точна каждая реакция героя, и я его дико поддерживаю, сочувствую ему, сострадаю, смеюсь с ним и даже сейчас улыбаюсь, вспоминая это.
А Нью-Йорк! Это же мой Нью-Йорк, и музей мой, и стена, где написано fuck you, тоже моя, и «Радио-сити» «Радио-сити» (Radio City Music Hall) — театральный и концертный зал в Нью-Йорке., и утки в Централ-парке… Это ведь страшно интересно — читать про себя, когда ты довольно симпатичный, да что там, просто очень хороший. Великая книга, и я горжусь, что на русском языке она появилась благодаря мне.
Я ведь хотел быть переводчиком, и у меня были
И она-таки перевела замечательно. А ведь эту книгу, между прочим, десять лет в Америке не брало ни одно издательство. Считалось, что она
Сол Беллоу. «Приключения Оги Марча»
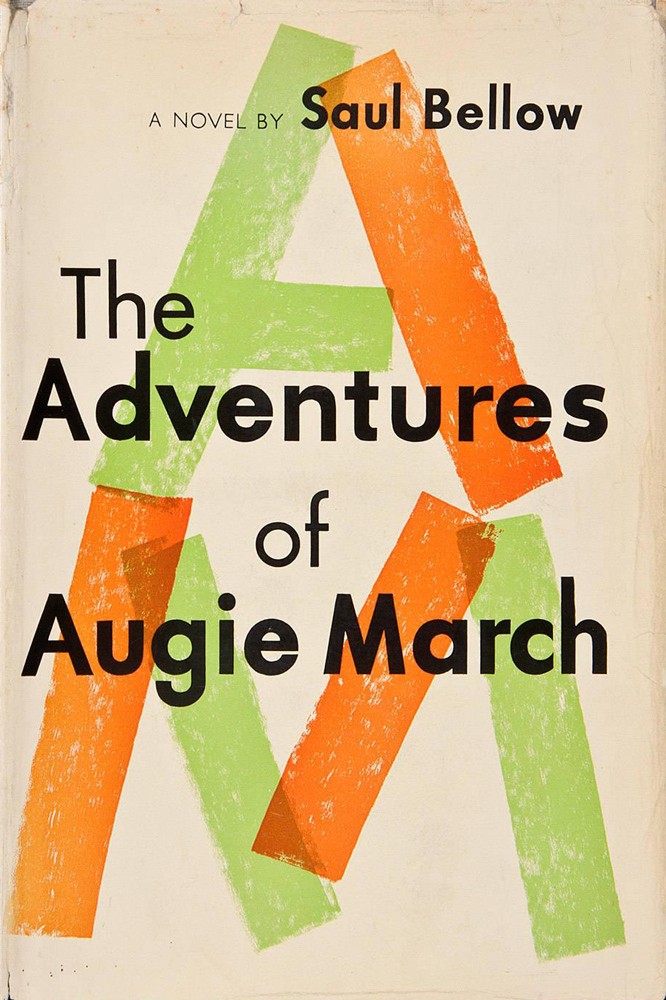
Это и история взросления, и одновременно панорама американской жизни. Понимаю, что прозвучит странно, но для меня это такая «Война и мир» об Америке и о человеке, который в ней растет. Гигантский совершенно роман Сола Беллоу, который в
Герман Мелвилл. «Моби Дик»
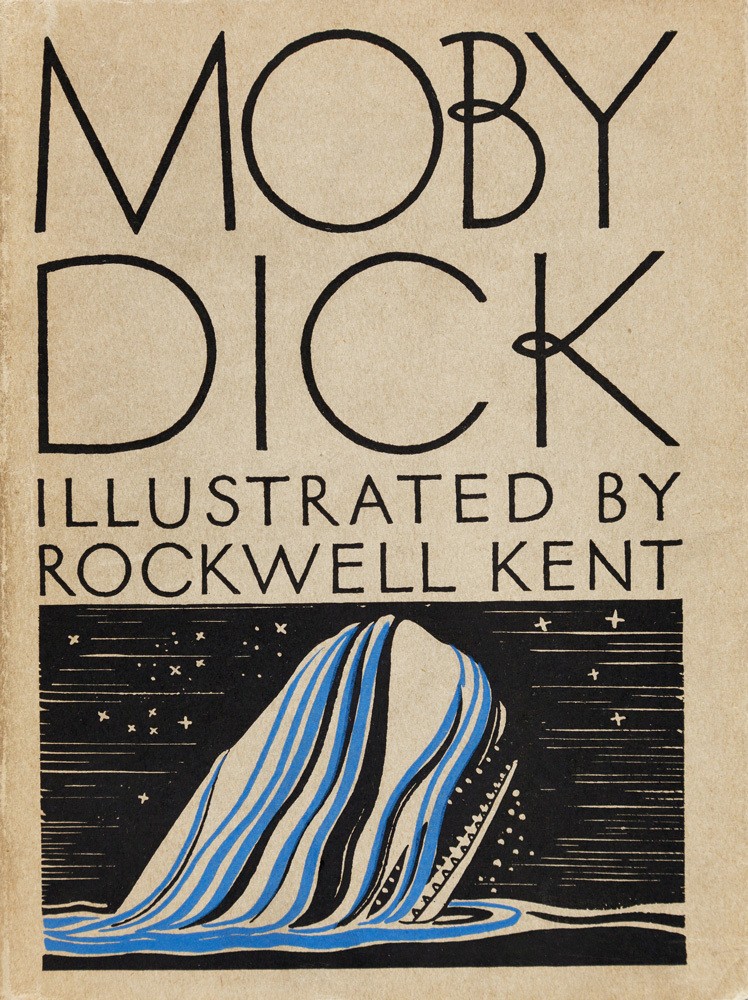
«Call me Ishmael» («Зовите меня Измаил») — так начинается эта книга. Даже не знаю, с чего начать ею восхищаться. В ней есть вещи совершенно очевидные. К примеру, ты многое узнаешь о китах, о ловле китов, о том, как их разделывают, — очень-очень подробно. Чрезвычайно детально описаны корабельные снасти. Казалось бы, скучно. Но вот появляются два образа, Белый кит и капитан Ахав, два вечно борющихся начала. Не побеждает ни тот ни другой — обоим суждено погибнуть. А вокруг — образы людей, матросов, китобоев, целый мир, о котором ты до этого вообще ничего не знал. У меня было полное ощущение, что я как сел на этот корабль, так и забыл себя настоящего. Снова — умение написать так, что ты физически ощущаешь происходящее.
Ну и конечно, это книга о добре и зле, о борьбе двух начал. Книга о жизни, о том, кто мы, зачем и как живем, что нас ожидает, куда нас тянет и где мы в конце концов оказываемся. Когда я читал «Моби Дика» в первый раз, я просто терпеть не мог капитана, а позже, когда перечитывал, он вызывал у меня совершенно другие чувства — пожалуй, я ему сострадал. Он одержим, и эта одержимость уносит с собой других, ведь в конце концов гибнут практически все. Последняя картина — мачта, уходящая с человеком под воду. Выживает один, который и рассказывает эту историю.
Это книга о трагедии жизни и смерти, о величии человека и его ничтожности перед природой. Нантакет, где происходит действие, был вообще очень богатым городом: пока не начали добывать нефть, китовый жир являлся основой для свечей, и капитаны-китобои были людьми состоятельными. Там до сих пор стоят их большущие дома, у которых крыша кончается не острым гребнем, а таким углублением, по которому можно ходить.
Уильям Фолкнер. «Поселок», «Город», «Особняк»
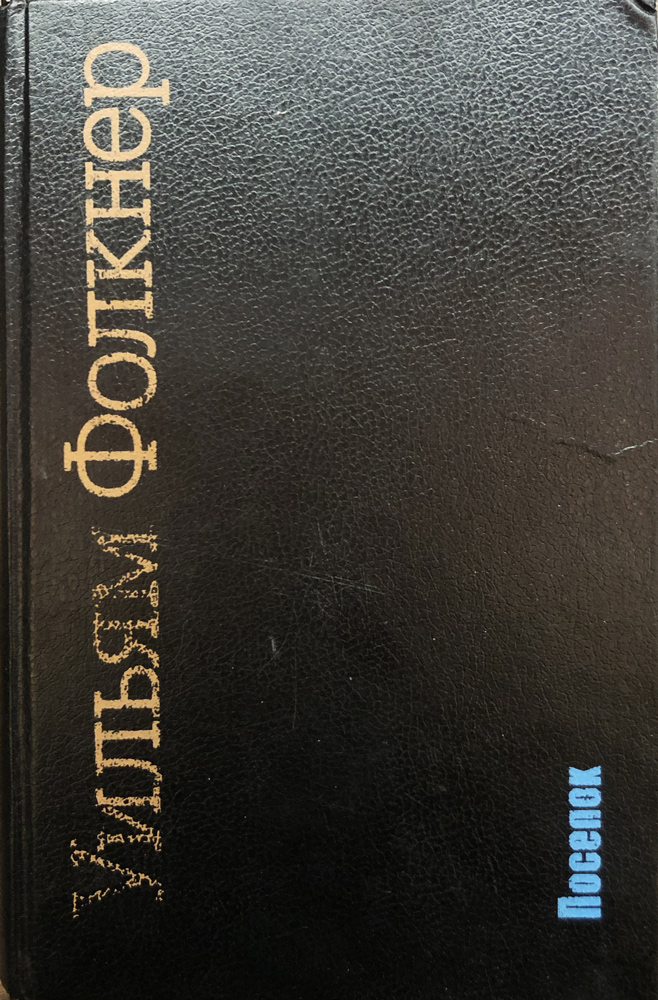
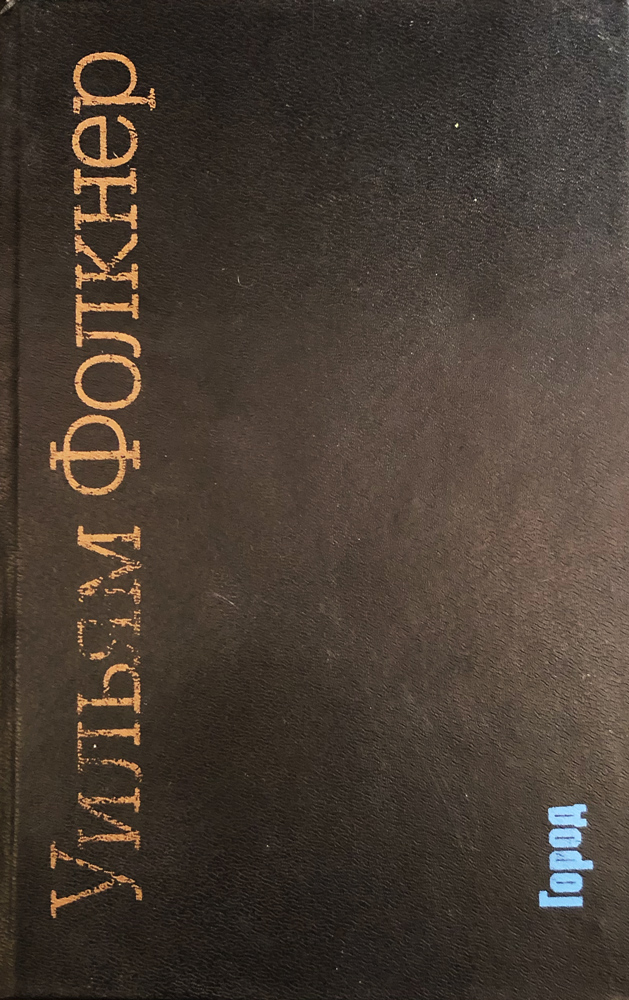
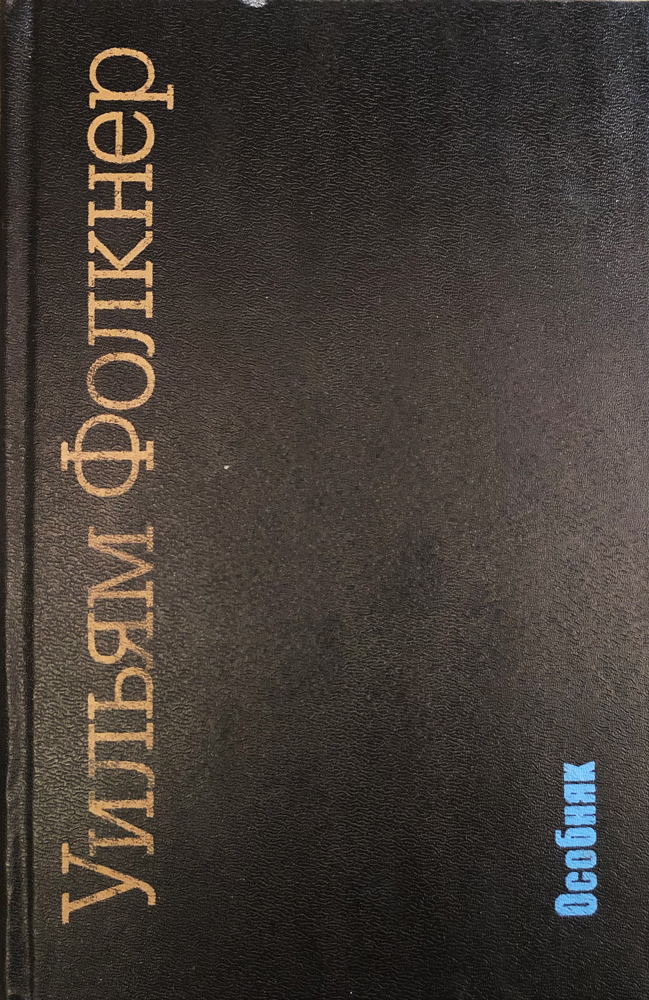
Это, в сущности, одна книга, хотя по факту — трилогия. Если
И блестящий перевод Риты Райт и Виктора Хинкиса. Хинкис на этой почве сошел с ума — реально сошел с ума, пытаясь передать Фолкнера
Это полотно о жизни американского Юга, о Гражданской войне, о том, что она сделала с людьми, и о том, что такое расизм. И Сноупсы эти, вся семья — я их как будто бы очень хорошо знаю. Когда я приезжал к своим двоюродным братьям в Вирджинию, там еще действовала сегрегация Расовая сегрегация в США — отделение белого населения США от других этнических групп, прежде всего афроамериканцев и индейцев. Существовали отдельные школы, общественный транспорт, отели и мотели, кафе и так далее. Официально сегрегация существовала с 1865 года, когда было отменено рабство.. Я прилетал или приезжал на поезде в Вашингтон, где сегрегации не было, и садился в автобус, чтобы ехать дальше. Черные сразу садились сзади, зная, что после пересечения границы Вирджинии, южного штата, им будет запрещено сидеть впереди, на местах для белых.
Я, как борец за права человека, один раз сел сзади, не вызвав этим, кстати, у черных никакого удовольствия. Мы пересекли границу округа. Водитель, здоровый, мясистый белый человек, остановил автобус, медленно подошел ко мне и тихо, не повышая голоса, сказал: «Ищешь неприятностей?» По тому, как он на меня смотрел, было понятно, что он может меня просто убить — его совершенно не волновало, что я ребенок. Мне было лет двенадцать, и я по-настоящему испугался, молча встал и пересел вперед. Водитель, не сказав больше ни слова, вернулся за руль, мы поехали дальше. Во всем этом была тихая, но несгибаемая готовность в случае чего тебя уничтожить — не из ненависти даже, а потому, что ты нарушаешь
В общем, понять те характеры, ту жизнь мог только Фолкнер. Это целый мир, в котором я никогда не хотел бы остаться, — не мой мир совсем. Когда мы делали фильм об Америке и ехали через южные штаты, я все время говорил своей съемочной группе: «Осторожно, осторожно», хотя это был уже 2006 год.
У меня есть приятель в штате Луизиана. Однажды мы пошли перекусить в местную харчевню. За соседним столом сидела пара — мужчина и женщина,
Александр Пушкин. «Повести Белкина»
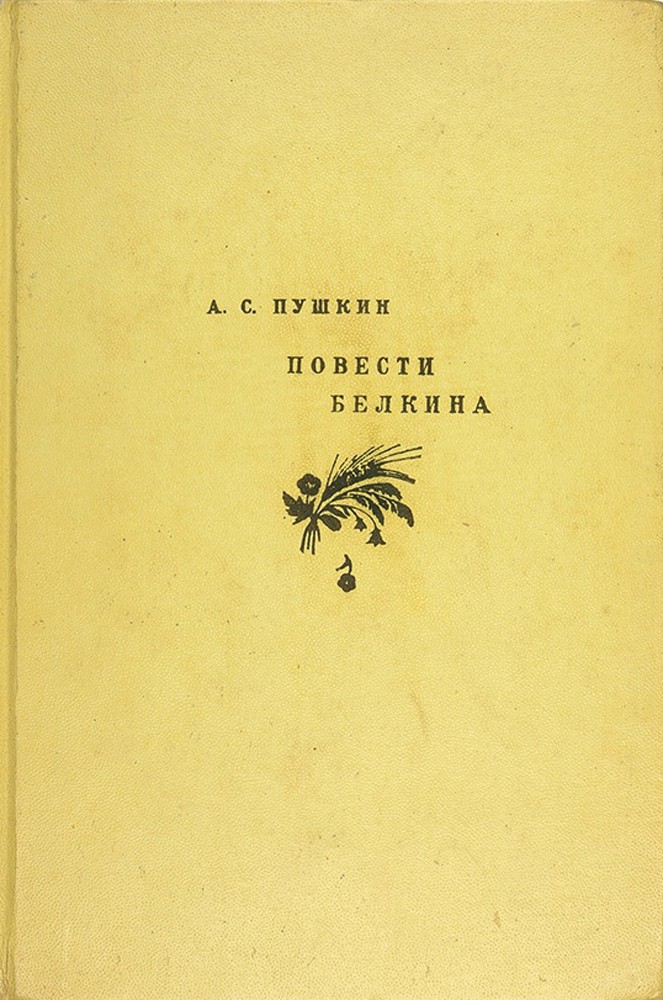
Почему из всего Пушкина — именно они? Конечно, я обожаю «Евгения Онегина», «Медного всадника», в меньшей степени «Годунова», хотя и восхищаюсь им. Но я не стал выбирать стихи. Хочу сказать одну вещь, понимая, что наверняка не всем она понравится. Я считаю, что Пушкин — не русский писатель, хотя
До Пушкина не было живого литературного русского языка. Был Державин, был Жуковский — но это все напыщенно, тяжеловесно. И вдруг из этого, в общем, не очень яркого и живого способа складывать слова возникает
Уж не знаю, сколько раз я читал «Повести Белкина». Каждый раз я думал: с каким же удовольствием он, наверное, это писал, как сам радовался. Действительно, «ай да Пушкин, ай да сукин сын!» В 1825 году, завершив работу над «Борисом Годуновым», Пушкин в письме своему другу, поэту Петру Вяземскому, написал: «Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши, и кричал, ай да Пушкин! ай да сукин сын!». Меня иногда спрашивают, у кого я хотел бы взять интервью, если бы можно было выбирать не только среди живущих. Так вот, Пушкин, конечно, будет в числе первых, с кем я хотел бы поговорить. Наверняка разговор шел бы трудно — он был, конечно, человеком сложным, порой очень злым. Но, с другой стороны, я уверен, что это был бы такой искрометный разговор! Какой же он был умный, как он все понимал. «…Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом!» Из письма Наталье Пушкиной в Петербург. 18 мая 1836 года.
Да, он прекрасно чувствовал и описывал русского человека, но для меня нерусскость Пушкина — именно в радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве
Николай Гоголь. «Петербургские повести»
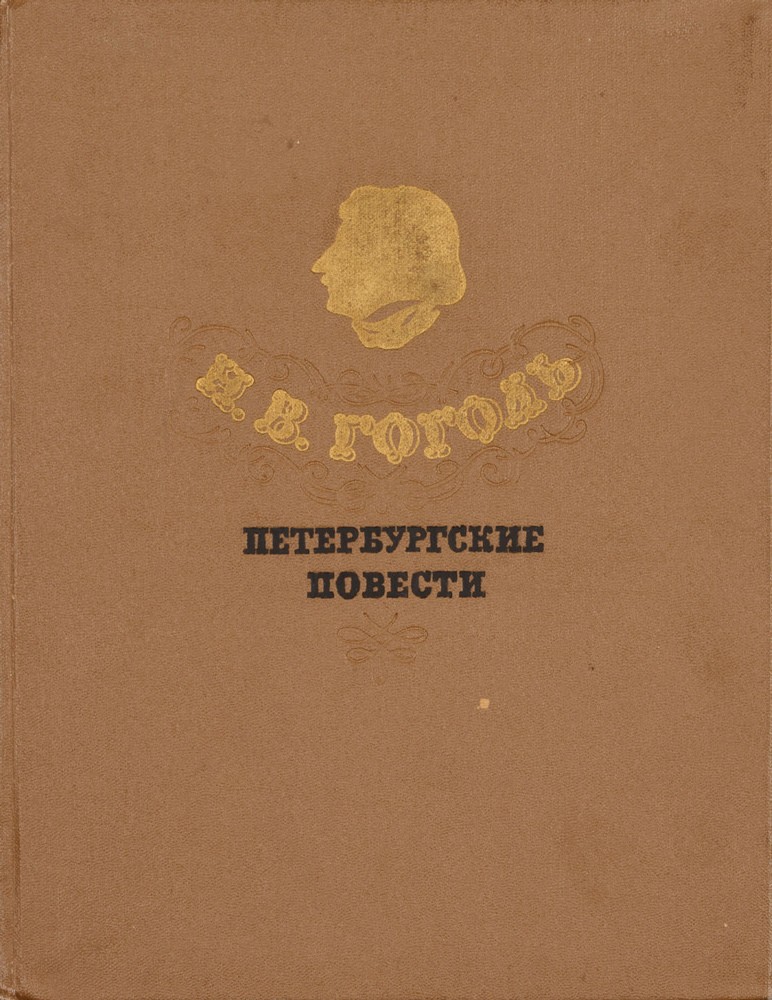
Я перечитывал их, думаю, раз сто и каждый раз поражался, как же это написано, какой Гоголь рассказчик — для меня нет второго такого в русской литературе. Знаете, есть картина, написанная крупными мазками, а есть работа тоненькой кисточкой, филигранная, когда выписан каждый штрих, прорисован каждый завиток. Я просто не понимаю, как можно так писать. Вопрос даже не «О чем?», хотя там есть и «О чем?». Ну как можно было придумать «Нос»? Как, скажите на милость? Как надо ненавидеть
Не так давно умер мой друг Алеша Букалов. Он много лет заведовал корпунктом ТАСС в Италии и при этом был очень уважаемым пушкинистом. Когда ему исполнялось 75 лет, встал вопрос, что дарить. Я разыскал в букинистическом магазине первый номер журнала «Современник»: главный редактор — Пушкин, а в номере — два рассказа Гоголя. Я прямо представил себе, как он приходит к Пушкину и говорит: «Александр Сергеевич, тут у меня пара вещиц — может, посмотрите?» А Александр Сергеевич: «Ну, оставьте, я почитаю». И потом: «Знаете, неплохо. Пожалуй, да, напечатаем». Скажу честно, стоил это журнал недешево, но я, конечно, купил. Привез Букалову — он просто сошел с ума и потом мне написал, что чуть ли не спит с этим «Современником» в обнимку.
Лев Толстой. «Анна Каренина»
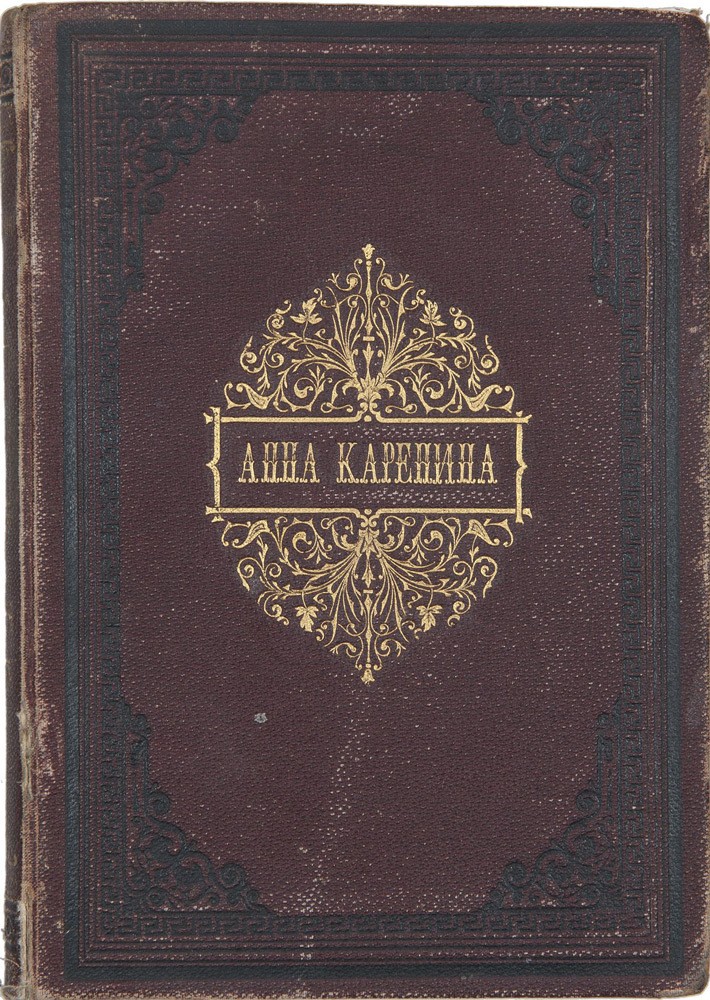
Аукционный дом «Империя»
Не знаю никого — кроме, может быть, Флобера, — кто бы понял женщину так, как Толстой. Мужчины ведь женщин не понимают, и обратное тоже справедливо. Я считаю, что женщины тоньше и интуиция у них гораздо богаче, но все-таки мы разные, и разные очень основательно. Перелезть в другую шкуру невозможно. А Толстой сумел —
Анна истерична, и вообще вся история с этим Вронским — ну господи боже мой, что она в нем нашла? Мачо-шмачо, ни ума особого, ничего в нем нет, такой *****, извините за выражение. И что в результате? В результате она бросается под поезд. Дура же, просто дура! Я часто встречал это у женщин, и Толстой это тоже показал: они не понимают, что не надо дальше. Ну не переходи эту границу, остановись, дальше будет плохо. Он
Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»
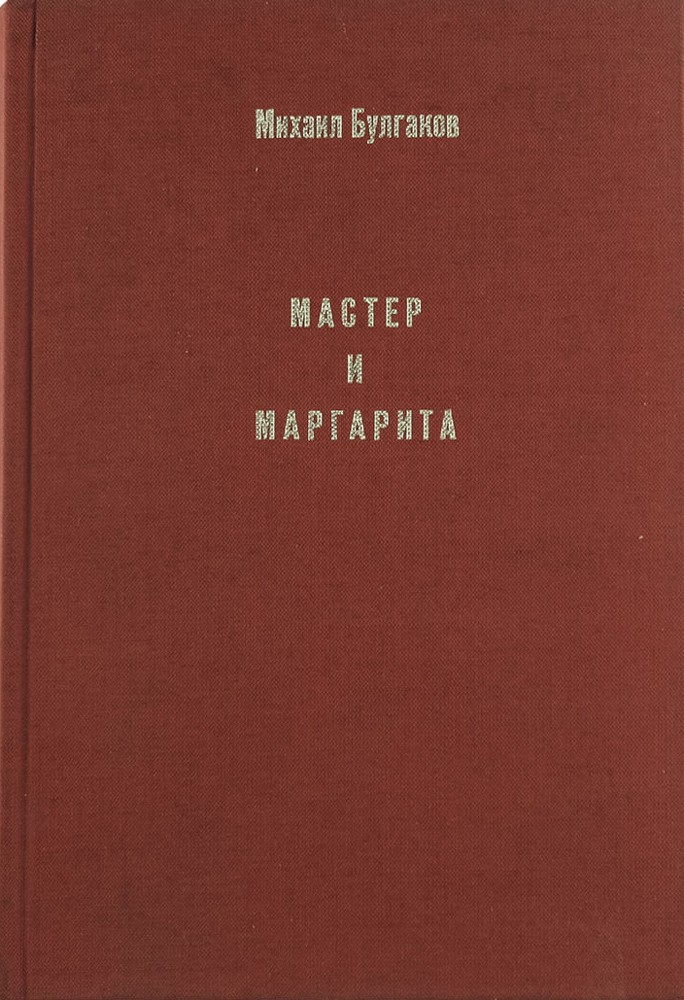
«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город». Ты просто сразу видишь, как эта тьма движется. Невероятно сильная часть, связанная с Римом и с Иешуа, — и вдруг из этого вырастает фантасмагория на Патриарших. Я обожаю всю эту компанию, а больше всего Коровьева: «Подумаешь, бином Ньютона!» Что ни реплика — чистый восторг.
Если Анна Каренина про жизнь и она реальная, то Маргарита, конечно, идеальный образ — и красавица, и сексуальна, и умна, и сильна. Так можно написать женщину, только будучи в нее влюбленным. Там ведь есть замечательный момент, когда Мастер забывает имя бывшей жены, потому что после встречи с Маргаритой прежняя жизнь уже не имеет никакого значения. Как же это точно. Я это очень хорошо понимаю. Наверное, такое больше свойственно мужчине, чем женщине, — не знаю, может женщина подобное забывать или нет.
А вся эта история с балом и эти слова: «Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас». Да что тут говорить! Я влюбился в Маргариту, когда впервые прочитал роман в 1968 году в журнале — конечно, с купюрами. Потом — не знаю, сколько раз, — я уже перечитывал полное издание. Магия этой книги в том, что на каком бы месте ты ее ни открыл — все, ты прилип, пропал, время пошло, а тебе уже не вынырнуть.
Томас Манн. «Смерть в Венеции»
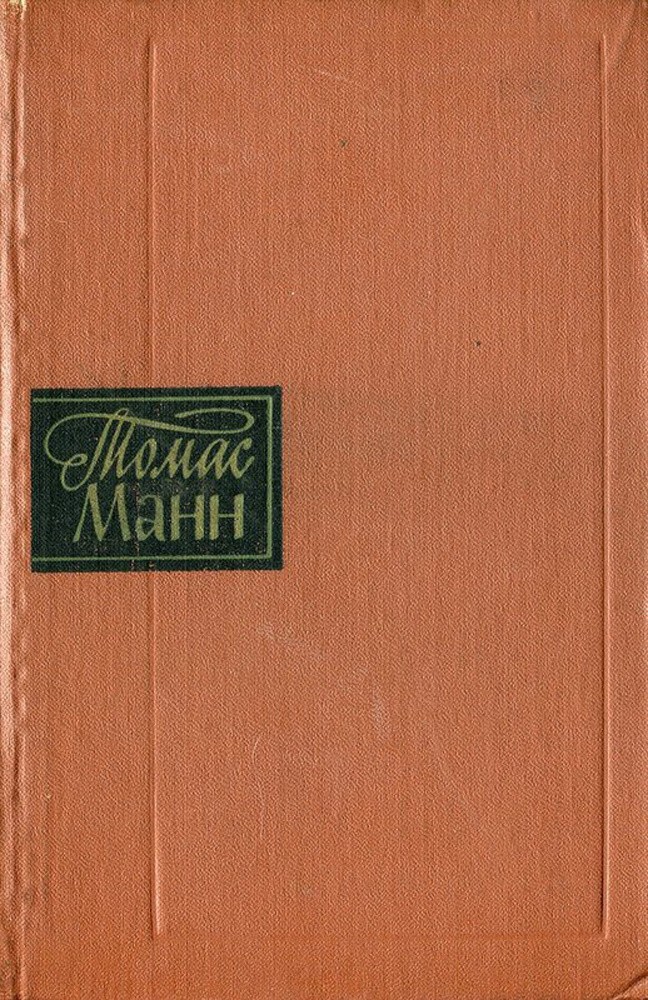
Книга, которая впервые дала мне понимание однополой любви. То есть я знал, что она существует: в Нью-Йорке у моих родителей были друзья-гомосексуалы, гей-пара, как сказали бы сегодня. Я был воспитан вполне толерантно — ну да, мужчина с мужчиной, что такого. Но понять это до конца, почувствовать не мог никогда, да и сейчас не могу. Как мужчине мне идея целоваться с другим мужчиной неприятна. Но там это так написано!
В этой страсти нет ничего, за что ее можно осудить, и для меня это было откровением. Я тогда понял и считаю по сей день, что очень важно — особенно в нашей стране, но и не только в ней — такие вещи обсуждать, чтобы понять, насколько мы сложные, неоднозначные, не черно-белые, какое бесконечное количество всего в нас намешано. Зачастую мы этого не понимаем, сами с собой не справляемся, и внутри нас происходят
Силой описания непобедимого, запретного желания «Смерть в Венеции» напоминает мне «Лолиту», хотя у Набокова речь о разнополых отношениях. И, конечно, как же это красиво! Я прямо вижу этот пляж, вижу невероятно прелестного мальчика. И как страшно и точно описана смерть.








