Книжная полка Андрея Зорина
В 2020 году Arzamas откроет библиотеку в Центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Чтобы заполнить книжные полки, мы попросили музыкантов, ученых, поэтов и других читающих людей посоветовать свои любимые тексты. Во втором выпуске рубрики филолог Андрей Зорин рассказывает о важнейших для него книгах, находящихся между fiction и non-fiction
Я предлагаю тематический принцип подборки книг для полки: библиотека русской «промежуточной литературы», по определению Лидии Яковлевны Гинзбург, за 300 лет. То есть это тексты, которые находятся в своего рода серой зоне между fiction и non-fiction. В другой перспективе это произведения, написанные людьми, которые считали, что они имеют право говорить публике о своем собственном опыте, и считали этот опыт достойным публичного обнародования. Во всех этих книгах для меня важно то, что превращает их в собственное литературное событие, вклад в историю литературы.
«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»

Это самая старая русская книга, которую может читать любой современный человек. Все, что написано раньше и в течение ста лет после нее, понятно только специалистам. «Житие» Аввакума может взволновать любого минимально подготовленного читателя. Это документ поразительный по воплощенной в нем страсти, ярости, ненависти, боли, любви, нежности. Я даже не говорю о феноменальных характерах, описанных или созданных Аввакумом, — невозможно оторваться даже от его описаний сибирской природы, притом что к пейзажной литературе я довольно глух. Как человеку, прошедшему эту немаленькую страну ногами в обе стороны, ему действительно есть что рассказать. И прежде всего, об альтернативной, несостоявшейся России, которая была задавлена, загнана в скиты и отдаленные деревни. Я думаю, что это вообще одна из лучших книг,
Николай Карамзин
«Письма русского путешественника»

Проблематика этой книги — Россия и Запад, русский человек на Западе, Запад, адаптированный к восприятию русского человека. Карамзин, с одной стороны, хочет познакомить образованного русского человека с Европой, привезти домой своего рода образцы восприятия, чувствования, переживания, но, с другой стороны, в процессе он создает и свой собственный образ русского европейца, который знает и понимает европейскую культуру и чувствует себя в ней как у себя дома. Для Карамзина Россия и Европа составляют органическое культурное единство, в котором он переводит спутникам с немецкого на французский, объясняет парижанам в парижском театре, как надо слушать современную оперу, разговаривает с Кантом и тому подобное. «Письма», пожалуй, не захватывают так, как «Житие» Аввакума: чтобы освоить этот текст, требуется некоторое усилие, но дело того стоит.
Александр Герцен
«Былое и думы»
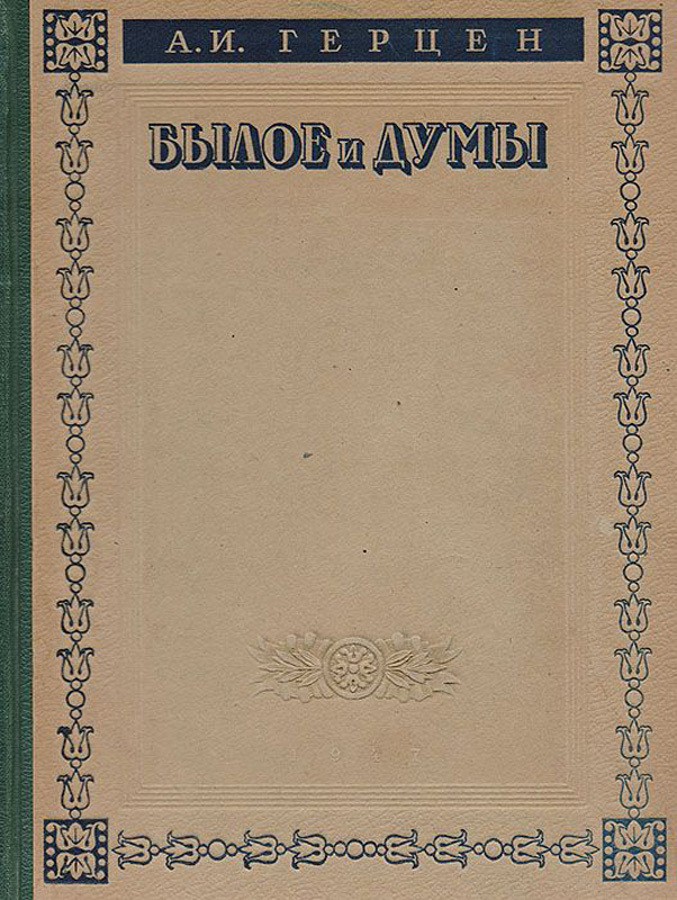
Конечно, такой феномен, как русская интеллигенция, вышла не из гоголевской «Шинели», а из «Былого и дум». Здесь можно увидеть все ее симпатичные и не очень симпатичные свойства: болезненный интерес к себе, готовность рассказывать о свой душевной жизни urbi et orbi, понимание собственной судьбы как важнейшего исторического свидетельства и проявления монументальных исторических закономерностей.
Герцен действительно был свидетелем важнейших исторических событий, но в центре его внимания — он сам, через эти события проходящий. В
«Былое и думы» — очень специфическое явление. Герцен прекрасно писал и был очень глубоким человеком, но в то же время это чтение мучительное и местами неприятное. Я не поклонник Герцена, но в библиотеке русской «промежуточной литературы» именно эта книга будет главной, потому что именно такому способу говорить о себе было уготовано будущее. Аввакуму сам Господь дал это право, Карамзин писал от лица европейской культуры, а здесь человеческую судьбу оправдывает история: все, что со мной случилось, имеет историческое значение, поэтому это надо знать.
Петр Вяземский
«Старая записная книжка»

Это менее известная книга, чем первые три. Она поразительна тем, что старый человек (она в основном написана в последние пятнадцать лет жизни Вяземского, а по стандартам XIX века он жил неприлично долго — до 86 лет) рассказывает о временах собственной молодости (пушкинская эпоха), которую он описывает как золотой век. При этом облик эпохи воссоздается не через личные мемуары, не через биографии великих людей прошлого, а через байки, анекдоты, хохмы, смешные истории, описания чудаков и эксцентриков. Это не последовательное повествование, а короткие эпизоды, зарисовки, которые очень хороши для устного пересказа. В рассказе автора нет сюжета и хронологической логики, он постоянно перескакивает с одного на другое, но в результате возникает ярчайшая и увлекательнейшая панорама.
Федор Достоевский
«Записки из мертвого дома»
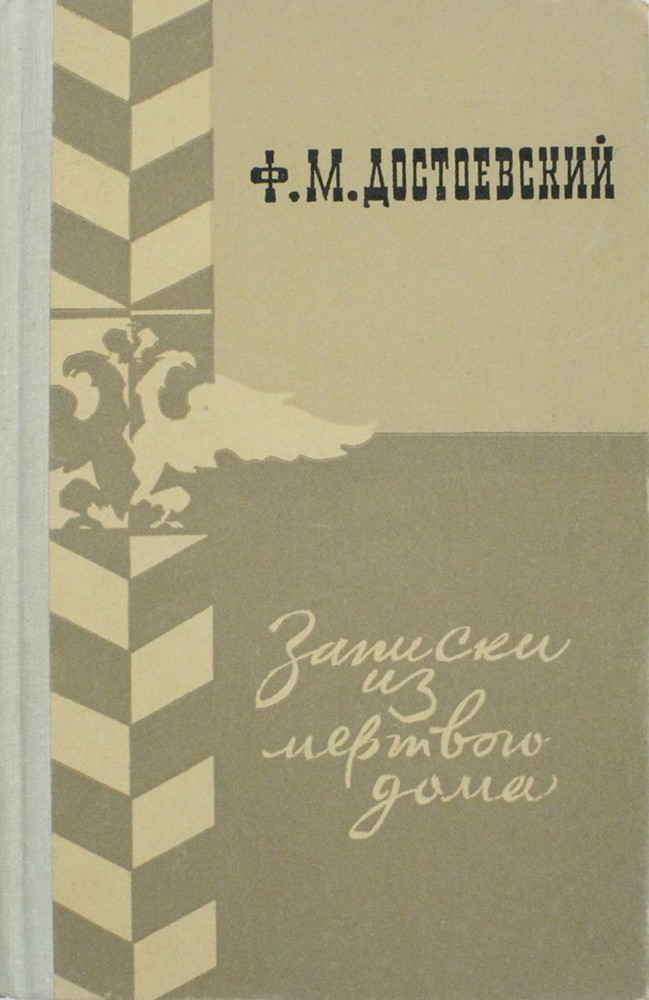
Думаю, что Достоевский не имел возможности написать настоящий нон-фикшн, поскольку цензура не пропустила бы рассказ о политическом заключенном. Поэтому он делает своего автобиографического альтер эго уголовным преступником. Но в сущности это, конечно, книга о собственном опыте. Толстой не любил Достоевского как писателя и при этом многократно говорил, что из того, что написано
Это новая тема в моем списке. Здесь писатель получает право говорить о себе, потому что он страдает вместе со своим народом. С этого момента каторга, лагерь, зона становятся одной из центральных тем русской литературы не только потому, что через этот опыт проходят миллионы, но и потому, что здесь наконец интеллигент и народ живут одной жизнью. Став каторжанином или зэком, писатель может рассказывать о себе как о простом человеке и претендовать на понимание его жизни и его души.
Антон Чехов
«Остров Сахалин»
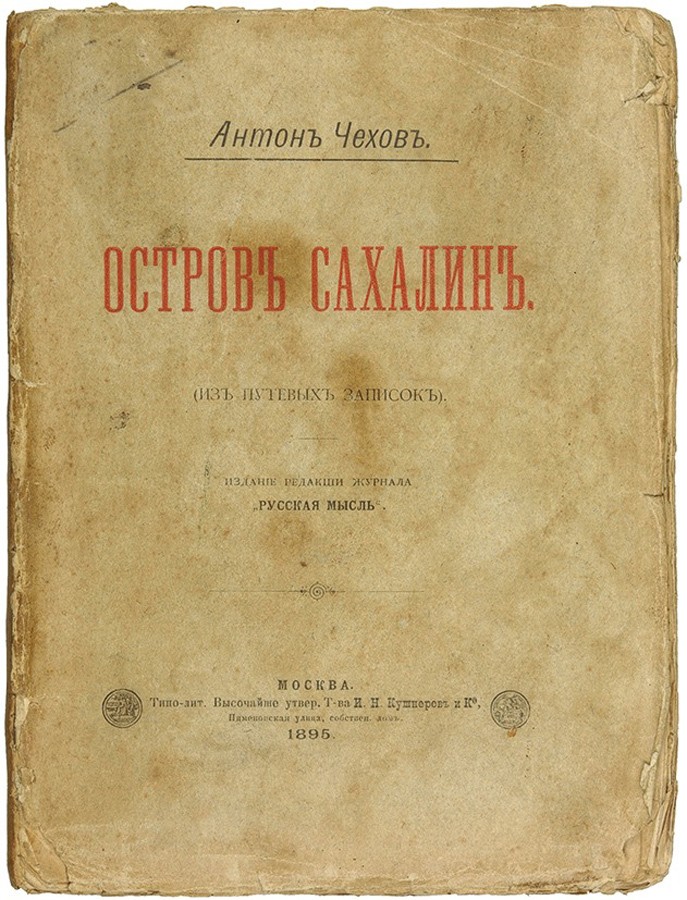
Чехов, в отличие от Достоевского, Солженицына или Шаламова, на каторгу не попал, а специально поехал с миссионерскими целями. В этой книге интересно сочетание рассказа о собственном путешествии с уникальным опытом литературной этнографии, обретающей почти научную строгость.
Василий Розанов
«Опавшие листья»

Вяземский с помощью фрагментов и анекдотов создал образ эпохи, а Розанов нашел уникальный и совершенно новаторский подход рассказать о себе, собственной личности и своем существовании на земле без связного повествования — через фрагменты, случайные записи, набор моментальных впечатлений, наблюдений, вздохов. При этом он часто фиксировал обстоятельства появления тех или иных записей.
Михаил Зощенко
«Перед восходом солнца»

Это своего рода научный эксперимент, поставленный на себе самом. С опорой на Фрейда, которого Зощенко в основном критикует, он докапывается до истоков собственной личности, сдирая один за другим налипшие за жизнь слои. Эту работу он проделывал с психотерапевтической целью, но как раз она не была решена. Зощенко не удалось излечить себя от неврозов, но выдающееся художественное произведение он создать сумел. В отличие от Розанова, видевшего в собственной личности набор случайных и минутных впечатлений, Зощенко был уверен, что внутри его памяти есть ядро, просто до него нужно дойти, погружаясь в собственную память все глубже и глубже и извлекая из нее фрагменты дорефлексивного опыта. Этот процесс он воссоздал в своем романе с необыкновенной силой.
Лидия Гинзбург
«Записки блокадного человека»
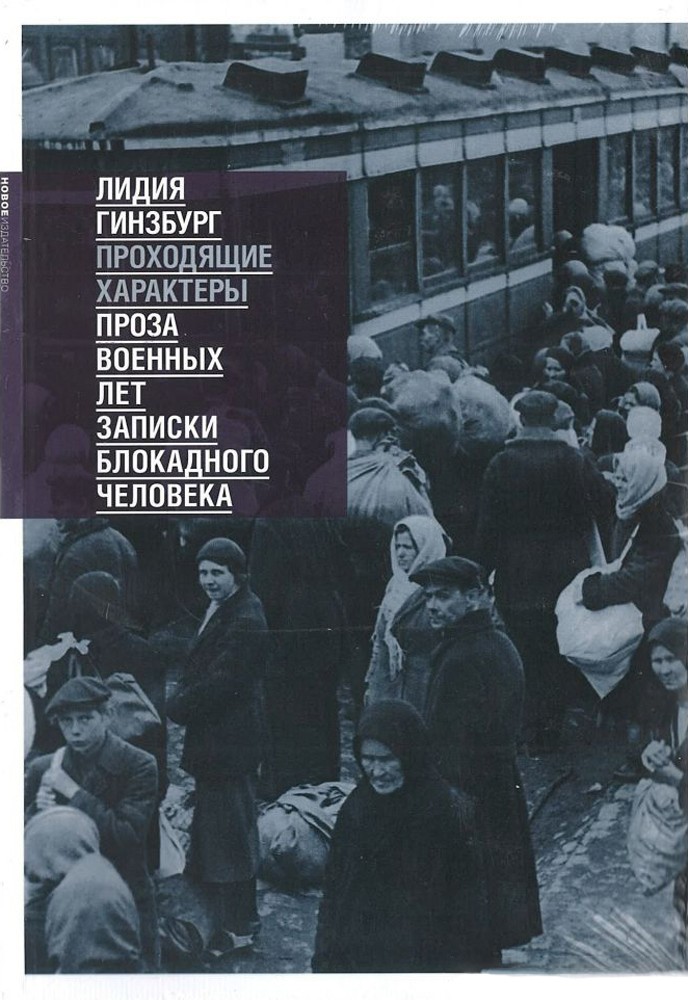
Дальше по хронологии идут «Записки блокадного человека» Лидии Гинзбург, хотя это «повествование», как она его называла, было опубликовано только через сорок лет и в радикально переработанном варианте. Лучше взять сборник «Проходящие характеры», изданный в «Новом издательстве», потому что там есть обе версии — и 1943–1944, и 1984 годов.
Во время блокады Лидия Гинзбург описала опыт фиксации человеком одного дня своей жизни в экстремальных условиях. Текст назывался «День Оттера». А потом в 1962 году появился «Один день Ивана Денисовича». Это произвело на нее очень тяжелое впечатление, и она написала: у книг, лежащих в столе, появляются предшественники так же неотвратимо, как у напечатанных книг — последователи. И взялась переделывать текст. Опыт одного человека в течение одного дня — от пробуждения до укладывания в постель — она перестроила в тотальное повествование о блокадном Ленинграде. Новая версия стала называться «Записки блокадного человека» и была напечатана в 1984 году. И вот я не понимаю, это две книги или одна. Большая часть текста совпадает, но композиция и структура разные.
Что здесь важно? Это анализ базовых социально-антропологических механизмов человеческой жизни (Гинзбург считала себя ученым, социологом и психологом). По собственному опыту Гинзбург пишет о человеке, физически находящемся на грани голодной смерти. Согласно Гинзбург, в условиях тотального голода и голодной дистрофии у человека больше нет сил скрывать социальные механизмы, и они работают с особой наглядностью. То, что в обычной жизни закамуфлировано, выходит на первый план и становится доступным анализу.
Александр Солженицын
«Архипелаг ГУЛАГ»
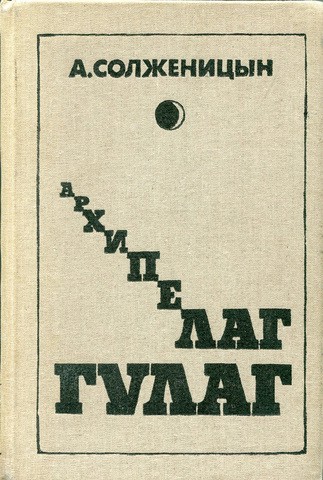
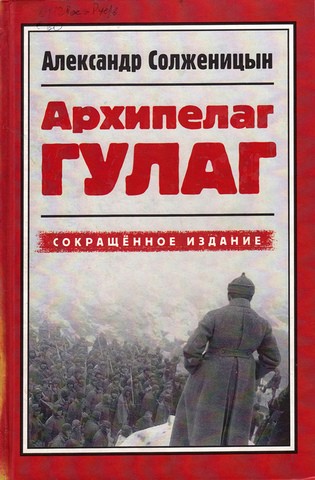
По воздействию на исторический процесс это, возможно, самое значимое произведение в истории русской литературы. С одной стороны, это еще одна книга о каторге. С другой — она основана на идее вовсе отстраниться от индивидуального, растворив его в массе других голосов. То есть фигура автора сохраняется как композиционное единство — вначале он вводит читателя в проблематику книги, потом комментирует и рассуждает, но его собственное свидетельство оказывается лишь одним из сотен других. Это уже не столько личный опыт, а речь от лица всех, кто не дожил.
Я бы поставил «Архипелаг ГУЛАГ» на полку в двух вариантах — в полном, трехтомном, и однотомном, сделанном Натальей Солженицыной. Это поразительно тактичная, аккуратная и профессиональная работа, сделанная для школьников и оставляющая достаточно полное представление о книге.
Венедикт Ерофеев
«Москва — Петушки»
Сергей Довлатов
«Чемодан»

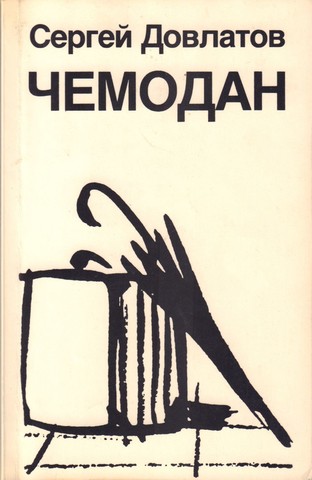
Конечно, «Москва — Петушки» и «Чемодан» выбиваются из этого ряда. Это не промежуточная литература, а полноценный fiction. И все же он организован вокруг фигуры биографического автора, входящего в текст со своим окружением и множеством вполне узнаваемых биографических подробностей собственной жизни. Они, с одной стороны, все время отсылают к внелитературной реальности, с другой — мы понимаем, что ими нельзя пользоваться для биографических реконструкций. В «Москве — Петушках» повествователь вообще погибает в финале, что делает любой разговор об автобиографизме абсурдным. Но важно, что обе эти книги «пародичны» в тыняновском смысле этого слова к промежуточной литературе и должны восприниматься на ее фоне.
Михаил Гаспаров
«Записи и выписки»
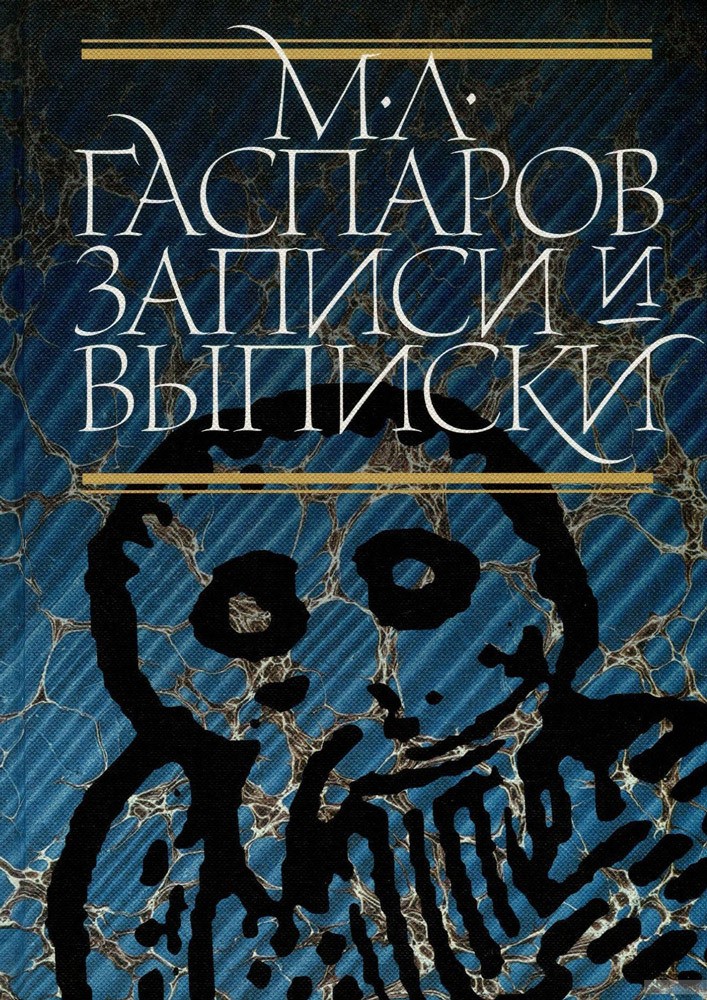
Собственная жизнь здесь становится предметом филологического анализа. Можно сказать, что если «Москва — Петушки» и «Чемодан» превращают, окончательно всасывают реального автора в сферу литературы, то здесь, наоборот, жизнь — через выписки, через записи, через языковые конструкции — становится книгой. Значительная часть ее построена в форме словаря, автор деконструирует себя как продукт своего собственного круга чтения и научных занятий. В самом конце поняв, что превратился в текст, автор физически исчезает — в
Александр Жолковский
«Эросипед и другие виньетки»

Чтобы добавить оптимизма, хотелось бы поставить на полку книгу живого автора. Я очень ценю эту книгу и даже сам пытался писать в том же духе. Это тоже разговор о своей жизни через байки и истории, однако отличающийся от документальной фрагментарности Розанова тем, что каждая из «виньеток», как их называет автор, представляет собой законченный анекдот с пуантом.
Как пишет Жолковский, документальность является условием на входе, а на выходе факт необходимо преодолеть литературной конструкцией. Расположение материала, композиционные ходы, эффектная концовка и другие литературные приемы оказываются способом справиться с текущей фактурой реальности, превратить ее в текст, взять, как штангист берет рекордный вес.








