Морж Стравинский и грядки Эйнштейна: 14 цитат из мемуаров Наталии Сац
120 лет назад родилась Наталия Сац, режиссер и первая в мире женщина, поставившая оперу. Публикуем цитаты из ее воспоминаний — о прополке клубники с Эйнштейном, необычной внешности Паустовского, человеке-острове Рахманинове и знакомстве со Станиславским
Наталия Сац родилась в 1903 году в семье театрального композитора Ильи Саца и певицы Анны Щастной. Уже в 15 лет она возглавила созданный по ее инициативе первый в мире детский театр. В 1930-х годах ее приглашали ставить спектакли за рубежом. Международное признание Наталия Сац получила в 1931 году, когда срежиссировала в Берлинской государственной опере «Фальстафа» Джузеппе Верди, став первой в мире женщиной, поставившей оперу. Осенью 1937 года по обвинению в контрреволюционной деятельности арестовали ее мужа Израиля Вейцера, народного комиссара внутренней торговли СССР. Наталия Сац, «член семьи изменника родины», провела в лагерях пять лет — ее освободили в конце 1942 года.
Делом всей жизни Сац стал музыкальный театр для детей. К работе в нем она привлекала ведущих композиторов и драматургов. По ее инициативе на сцене театра поставили «Морозко» Михаила Красева, «Волка и семерых козлят» Мариана Коваля, «Трех толстяков» Владимира Рубина и симфоническую сказку «Петя и волк» Сергея Прокофьева. Наталия Сац основала шесть детских театров и написала несколько книг: «Театр для детей» (совместно с Сергеем Розановым), «Дети приходят в театр» и мемуары «Новеллы моей жизни», в которых запечатлела многих своих современников — от Эйнштейна и Паустовского до Стравинского и Алексея Толстого.
1О знакомстве с Эйнштейном

«Поднимаю глаза: пожилые мужчина и женщина. Она — невысокого роста, в темном платье с белым воротничком, приветливой улыбкой, он —
Где я видела эти черные, одна выше, другая ниже, словно в пляске, брови, большие карие смеющиеся и такие лучистые глаза, мягкий подбородок, высокий лоб, черно-седые волосы, которым, видимо, очень весело и свободно на этой голове? Галстук набок, обжитой пиджак…
<…>
— Позвольте вас познакомить с Ильзе — женой Эйнштейна.
Она протягивает мне приветливую руку, я ей тоже. И вдруг, уже не знаю как, задаю идиотский вопрос:
— А почему… вы пришли с женой Эйнштейна?
— Вероятно, потому, что я тоже Эйнштейн, — отвечает он.
У меня перехватывает дыхание. Ну как я сразу не поняла, кого он мне напоминает?! Самого себя на портретах, которые глядят отовсюду! Люди гордятся, что живут в одну эпоху, в одном городе с этим гением, а я… Он легко читает мои мысли и разражается таким звонким смехом, какой я слышала только в Московском театре для детей и никогда — в чопорном Берлине! Передо мной вот так, запросто, стоит Альберт Эйнштейн!!!»
2О клубничных грядках и поливе с математической точностью

«Но через день ко мне домой позвонил Марьянов Имеется в виду Дмитрий Марьянов, сотрудник торгового представительства. .
— Эйнштейны приглашают вас провести воскресенье у них на даче.
<…>
<…> Когда едешь в новый дом,
После электрички мы снова пошли пешком. Я шла, держась за Диму Марьянова, и не смотрела вокруг.
— Ну вот и пришли, — сказал Дима, остановившись у деревенской калитки — такой же, какая была у нас на даче в Серебряном Бору.
Первое, что я увидела, были грядки клубники, кусты роз, барбариса и картофеля. <…>
<…>
…К калитке подошла фрау Ильзе в серо-белом цветастом фартуке поверх вязаного костюма из мягкой шерсти, очень приветливо протянула мне руку и повела по направлению к дому — он стоял в глубине сада-огорода, деревянный, двухэтажный, простой и уютный, как его хозяйка.
Но до дома я не дошла. Справа, за кустом цветущего жасмина, увидела самого Эйнштейна со шлангом в руке. Засияла его улыбка, а вместе с ней все вокруг.
— Добрый день! Рад, что вы к нам пришли. Не хотите ли порежиссировать рядом со мной на клубничной грядке?
— Ну конечно, с большим удовольствием.
Я перескочила через отделявшие меня от Эйнштейна огуречные грядки и канавки с водой, оказалась рядом с ним около клубники. Великий ученый поливал ее из шланга. Но бурьян? Он совсем не был достоин этой чести, а его выросло немало. Чудесно! Закатала рукава, села на корточки и рьяно принялась за дело. Он работал шлангом с детской радостью, стараясь точно распределить воду между кустиками клубники и не оставляя сухим ни одного побега.
„Поливает с математической точностью“, — подумала я и решила все время быть от него на шаг впереди. Во-первых, чтобы он не поливал сорную траву, во-вторых, чтобы с корточек, снизу вверх, смотреть на него, хотя бы знать, что он рядом. Заговаривать первая, конечно, не смела.
<…>
— Поздравляю, эта грядка приняла воскресный вид; если не возражаете, перейдем на следующую.
— Конечно. С большим удовольствием!
Нашла корзину, сложила туда пучки вырванного сорняка и, видя, что Эйнштейн „ценит мой труд“, еще более энергично взялась за прополку последней грядки. Только… мне хотелось, чтобы он говорил, заучивать его афоризмы, а он хотел молчать. Верно, отдыхал, отдыхал прежде всего от самого себя, своей пульсирующей мысли. Переключил энергию мозга на физическую, окунувшись с головой в милые дачные работы.
Но мысли… они ведь непослушные! Какой огромный у него лоб, сколько жизни в глазах — все видят, все время в движении, может быть, именно сейчас новое открытие зреет под черно-серебряными непослушными волосами?»
3О движущемся по волнам царстве

«„Кап-Аркона“ Cap Arcona — немецкий океанский лайнер класса люкс, на котором Наталия Сац плыла в Аргентину. — морское чудо, гигант, восьмиэтажный корабль! Это — целый дом, нет — маленькое движущееся по волнам царство, отдельный городок.
Внизу — аллея магазинов: огромная витрина новейших автомобилей, цветы, книги, пальто и платья, торты и шоколад, мебель. На верхней палубе четыре теннисных корта. Наши каюты — роскошные: зеркальные шкафы, одна кровать — мягкая, для нормальной погоды, другая — специальная, без матраца, на случай качки. При каюте ванная, душ и т. д. В моей каюте по особому указанию поставлено пианино.
<…>
Но „святая святых“ здесь — ресторан с крахмалом скатертей, нежным звоном хрустальных ваз и стаканов, серебром ножей и вилок, целой армией юношей-официантов в белых одеждах.
Это почти балет: так мгновенно и грациозно появляются они с серебряными подносами в руках. Волосы причесаны гладко, а пробор в волосах каждого словно воспевает немецкую точность. Нам с Леонидом Имеется в виду Леонид Половинкин, композитор, пианист, дирижер, заведующий музыкальной частью Московского театра для детей, основанного Наталией Сац. уже отведен специальный столик. Перед нами отпечатанное в типографии меню. Сколько можно заказывать блюд? Сколько угодно. За них уплачено вместе с билетом.
<…>
Спаржа, крабы, артишоки, суп с
4Об элегантном морже Стравинском

«Стравинский небольшого роста, похож на самого элегантного моржа (но все-таки моржа). Когда Клемперер нас познакомил, гость скорее отдернул, чем протянул руку. Клемперер с интонацией „наивности“ сказал, что очень любит слушать русскую речь, и попросил нас поговорить друг с другом. С ловкостью спортсмена Стравинский моментально оказался в другом углу комнаты — отскочил от меня, как футбольный мяч от ворот противника. Какая там русская речь!
Хорошо, что началось чаепитие, где я могла заняться узорчатыми печеньями и выпала из поля зрения великих, в первую очередь Отто. И зачем он меня сюда пригласил?
Но после чаепития Стравинский сел за рояль и проиграл с начала до конца свой балет „Поцелуй феи“, построенный, как известно, на мелодиях произведений Чайковского.
Слушать и созерцать Стравинского в двух шагах от себя, за клемпереровским роялем — это уже наслаждение. Конечно, выражение лица „дикаря“, как потом назвал меня Отто во время встречи с Игорем Федоровичем Стравинским, сменилось другим, восторженным и покорным.
Кончив играть, Стравинский попросил присутствующих сказать свое мнение о либретто. Именно — о либретто. Непреложная гениальность музыки не подлежала для него сомнению. Клемперер обратился ко мне:
— А что думает Наташа?
— Мне нравится, что здесь ровно столько содержания, сколько дойдет из самого балета, а не из подстрочников к нему, — сказала я.
Стравинский подпрыгнул на диване, посмотрел удивленно на Клемперера и сказал:
— Это очень верно, то, что она сейчас сказала, и очень важно: в балете доза содержания, ведущего развитие действия и не давящего на легкость и грацию формы танца, имеет совершенно особое значение.
Похвала Стравинского доставила, конечно, мне удовольствие, но особенно был рад Клемперер. Он даже сделал жест руками, похожий на тот, что бывает после ловкого трюка в цирке.
Клемперер хотел рассказать Стравинскому о репетициях нашего „Фальстафа“, о том, как мы работаем с артистами, вскрывая глубины образов, но Стравинский удивленно поднял бровь (у него, кажется, был монокль) и сказал:
— Певец должен петь точно то, что написал композитор, — только это,
Ни о чем, кроме своих произведений, ему говорить было не интересно, и скоро его визит был окончен.
Недели через две на пороге комнаты, где мы репетировали „Фальстафа“, появилась огромная фигура Клемперера, отчаянно машущего руками:
— Простите, что перебил, она покорила и его, вы представляете себе? Стравинского!
Оказывается, Игорь Федорович, уезжая в Париж, специально заехал к Клемпереру с просьбой передать мне клавир „Поцелуя феи“ с личной, Стравинского, надписью „Наталии Ильиничне Сац“».
5О встрече с Рахманиновым и двадцати пальцах

«Как-то я была дома совсем одна. Сидела читала. Позвонили. Я открыла дверь. За ней стоял высокий худой мужчина в черном, бритый, строгий.
— Илья Александрович дома? — спросил он у меня хмурым голосом.
— Он скоро придет, — ответила я, почувствовав, что это
Он вошел, снял шляпу, потом кожаные перчатки — каждый палец в отдельности, положил перчатки в шляпу, вытер ноги, хотя на дворе было не мокро, снял и повесил пальто. В его движениях была
Сухой человек в стоячем воротничке мне не улыбнулся, рот у него крепко заперт, с ним не поговоришь. Выбрит так гладко, волос на голове мало, лоб очень высокий. Он
У нашего папы и галстук и все
Так я стояла, не зная, что теперь делать. И вдруг в папиной комнате зазвучал целый оркестр, куда больший, чем тот, который слышала под сценой Художественного театра. Вот так чудо! Не могло же так звучать старое папино пианино! Звуки настойчиво требовали
6О солнечных лучиках в глазах Станиславского
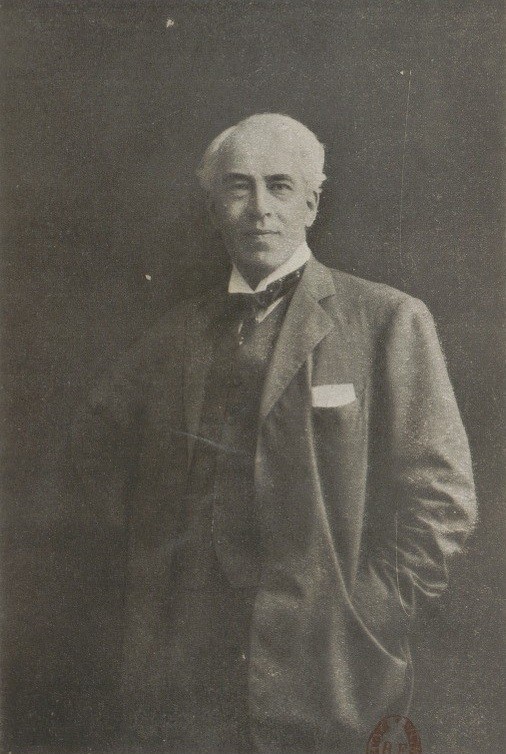
«Раздается звонок. Все устремляются в переднюю и затихают. Входит огромный человек — папа, мама, все взрослые ему по плечо, но движения у него красивые, плавные. Очень мягкое пальто, бархатная шляпа, черные брови — он весь
— Здравствуйте, Илья Александрович, — говорит он красивым властным голосом.
Под пальто у него бархатная куртка. Черная с серебряным отливом. А волос на голове очень много. Они серебряные, на косой пробор и сверкают. Хочется смотреть только на него, на его удивительный рот, большой нос с ноздрями, так красиво вырезанными.
Папа, Москвин Иван Михайлович Москвин (1874–1946) — русский и советский актер, театральный режиссер., Сулержицкий Леопольд Антонович Сулержицкий (1872–1916) — русский театральный режиссер, художник, педагог и общественный деятель, сподвижник Константина Станиславского. проводят нашего гостя в кабинет.
— Кто это? — шепотом спрашиваю я маму.
Мамин голос, сегодня
— Константин Сергеевич Станиславский, величайший артист и режиссер мира, создатель Художественного театра…
Мама неожиданно исчезает в папином кабинете. А мы с Ниной и не думаем ложиться спать: тащим свои соломенные стульчики и устраиваемся в коридоре около закрытой папиной двери. Сердце у меня
Папа часто жалуется, что в его дверях „большущие щели“. А
Папа идет к пианино. Леопольд Антонович и Иван Михайлович читают слова действующих лиц, чтобы было понятно, когда возникает та или иная музыка. Папа играет и сам перелистывает клавир, все смотрят на Станиславского, хотят прочитать его мысли.
— И вот Тильтиль, Митиль, Фея, Пес, Кот, Хлеб, Вода, Сахар выходят на цыпочках через стену дома, потому что не в дверь же выходить героям сказки, и звучит таинственный марш, — говорит Леопольд Антонович.
А папа начинает тихо-тихо в басовых октавах марш и шепотом поет:
Мы длинной вереницей
Пойдем за Синей птицей,
Пойдем за Синей птицей,
Пойдем за Синей птицей…
Звуки марша все разрастаются, растет надежда, что Тильтиль найдет птицу счастья. Делается так хорошо… В глазах Станиславского прыгают солнечные лучики, он встает с дивана, берет в охапку нашего папу…
Но тут Нина падает со своего стула, Константин Сергеевич поворачивает голову, мама взволнованно открывает дверь… и нам бы сильно влетело, если бы не Леопольд Антонович. Он превращает все это в шутку.
— Дружба с детьми в этом доме закадычная. Вот, Константин Сергеевич, два постоянных консультанта Ильи по музыке к „Синей птице“ — его дочери Наташа и Ниночка.
Константин Сергеевич протягивает мне свою огромную руку, а Нинина в ней совсем тонет, „как в океане“».
7О работе с композитором и дирижером Отто Клемперером

«Ранней весной 1931-го я получила официальное приглашение из Кролль-оперы поставить в Берлине „Фальстафа“ Верди совместно с Отто Клемперером.
Это было захватывающе интересно, но… совершенно неожиданно.
В Московском театре для детей я к тому времени уже поставила девять больших пьес, все они были неотрывны от музыки; некоторые мои спектакли критика называла „насквозь музыкальными“, но в театре для взрослых еще не работала, опер никогда не ставила, а тут… прославленная опера в Берлине!
Несколько дней я никому об этом приглашении не говорила, конверт держала под подушкой и спала плохо. Ну как я попрошу разрешение на выезд, когда столько режиссеров, во всех отношениях постарше меня, хотели бы…
Но выезд оформлять не пришлось. Заболел муж. Он был в это время заместителем торгпреда в Берлине, и мне предложили выехать туда немедленно.
Я написала Клемпереру, что благодарю за доверие, но посоветуюсь с ним лично, так как буду в Берлине через несколько дней. Помню, как увидела этого столпа, еще подъезжая к вокзалу, — он встречал меня вместе со своей женой Иоганной. Встречал меня, конечно, и муж — похудевший, побледневший, который казался мне таким уютным и своим рядом с „маститыми“.
На следующий день Клемперер пригласил меня к себе в большую роскошную квартиру. Иоганна была певицей, артисткой, с хорошим лицом, внимательными глазами, которые секундами напоминали о происхождении кошки от тигра. После обеда темпераментный Клемперер, любимым выражением которого было „Темпо, сеньоры, темпо!“ (когда он
Кроме генерал-мюзик-директора, во время нашего разговора были еще трое солидных мужчин, и между мной и Клемперером произошел следующий диалог:
— Справлюсь ли я?
— Я в этом не сомневаюсь.
— Я верно поняла, господин Клемперер, вы будете ставить оперу совместно со мной?
— Безусловно. И это заставит меня во всем вам помогать. Но, убедившись в вашем режиссерском даровании и музыкальности еще в Москве, знаю, помощь эта меня не затруднит и отнимет у меня мало времени. — Он повернулся к трем другим присутствующим и сказал с обычным для него грубоватым юмором: — Госпожа директор — бесстрашная личность».
8О движениях Жизели и безмолвии Улановой

«Когда Жизель танцует Уланова, поэзия поднимает зрителей на другую высоту.
„Она потрясает и очищает наши души“ — эти слова Гейне сказал о поэзии в драмах Шекспира, но вспомнила я, живу ими сейчас, когда танцует Уланова.
Да, если бы Гейне был сегодня в этом зале, он плакал бы слезами счастья, а Станиславский не переставал бы повторять свое „верю“.
Полторы тысячи таких разных людей, что вместил этот зрительный зал, объединены сейчас благоговейной тишиной. Мы верим!
Как хорошо, как просветленно звучит оркестр. Когда Уланова на сцене, так зримо живет музыка, и музыка — она сама…
В памяти сердца навсегда сохранилась сцена, когда уже совсем поверившая в свое счастье Жизель-Уланова узнает, что Альберт помолвлен и скоро станет мужем такой же знатной дамы, как он сам. Чистая, выросшая среди природы девушка впервые в жизни сталкивается с чудовищным обманом. По мнению Альберта, не произошло ничего особенного: он мило пошутил, просто поиграл с забавной крестьяночкой, похожей на полевой цветочек, через который можно перешагнуть, на который можно и наступить.
Но Жизель уже не полевой цветок. Она на наших глазах повзрослела. Не сразу, не до конца понимает она происходящее. Глаза ее делаются все огромней и застывают, устремленные в непонятное. „Как? За что? — говорят ставшие чужими ей руки, окаменелые ноги. — Неужели он обманул ее? Тот, в кого она поверила всем сердцем…“ Разве это может пройти для нее бесследно?!
Как значительна Жизель Улановой в своем горе — сколько воли, сил накоплено в этом еще недавно казавшемся нам так легко живущем существе. Она словно говорит сама с собой, додумывает
Теперь она поняла все до конца. Случилось самое страшное, непоправимое, сейчас он покинет ее навсегда. Не допустить этого злодеяния!
Жизель — вся движение: голова, руки, ноги словно хотят порвать страшную паутину жестокости, коварства. Она сходит с ума…
Сколько выразительных средств в распоряжении драматического актера для передачи со сцены горя! Он может говорить, кричать, плакать. А Уланова воздействует своим безмолвием — и каждому из нас сейчас хочется кричать, плакать, возмущаться тем, что в жизни возможна такая несправедливость.
Занавес медленно закрывается. В руках принца-охотника смертельно раненная птица — Жизель.
В зале тихо, почти никто не аплодирует. Хочется поглубже спрятать только что пережитое, сохранить его навсегда. Особенно молчаливы те, кто посвятил себя искусству, кто знает, как редко поднимается артист до таких вершин.
Ну а дочка еще маленькая. Ее восторги — словно журчащий ручей над моим ухом.
Я была потрясена только что увиденным. Словно пробуждалась от летаргического сна, вдохнув полной грудью жизнь величайшего искусства, такого нужного мне тогда, чтобы до конца захотеть жить».
9Об Алексее Толстом и благоухающей свежести любви

«Алексей Николаевич жил в Царском Селе. Сейчас оно называется Детское Село. Детское — как и наш театр — чудесная примета.
Дом отдельный, большой, двухэтажный. Спрашивают, кто, зачем, довольно приветливо, хотя я свалилась как снег на голову. Посадили подождать в большой комнате с длинным дубовым столом и большими окнами — за ними на деревьях первая зелень. Дом вольготный, но не чванный, доносятся
Но вот сверху по широкой лестнице ко мне спускается хозяин дома — еще не вижу его лица, но хозяйскую поступь чувствую. Да, это он, Алексей Николаевич, которого прежде видела только на фотографиях. Широкоплечий, осанистый, волосы подстрижены „под горшок“, а лоб кажется еще выше, потому что спереди волосы уже от него „отступили“. Широкое лицо, большой нос, большие губы, умные, веселые глаза, а в больших руках… „Золотой ключик“.
Улыбнулся гостеприимно, сел на широкий диван, положил на колени свою книжку, раскинул руки. Откуда он знает, зачем я приехала, и почему взял эту книжку?!
— Значит, сели на поезд и приехали, а потом с вокзала сюда. Мне так о вас и рассказывали московские друзья: Наталия Сац готовит на тебя поход, сопротивление бесполезно. Скоро у меня будет второй завтрак, а у вас его сегодня еще не было?
Сразу угадав, но… разве это сейчас важно?
— Позавтракать я и завтра успею, а вот как бы сделать так, чтобы эта ваша книжка стала пьесой?..
Говорю о театре, огромных его перспективах, которые сейчас нам открылись, о наших артистах, буквально рожденных, чтобы воплотить Буратино, Мальвину, лису Алису, кукол и бабочек. Слова мои порхают по большой комнате, пока не замечаю, что привычка говорить вежливое „нет“ многочисленным просителям не уступает места
— Мне и самому будет интересно посмотреть „Золотой ключик“ на сцене, — шутит Толстой. — Вот только где взять время, чтобы сесть за эту пьесу? — Он перечислил, кому и что обещал сделать в самое ближайшее время, и расхохотался, как юноша, перехитривший экзаменаторов. — Не хочется еще и вас обманывать.
Видя его колебания, стала доказывать, что образы книги так ярки и действенны, что пьеса уже почти готова, но он понял, что кривлю душой, и возразил:
— Инсценировок терпеть не могу. Пьесу надо строить заново, даже если в ней будут действовать все те же лица, что тоже невозможно. У драматургии своя органика: некоторые исчезнут, некоторые добавятся. Природу жанра надо беречь свято.
Тут появился горячий кофе, много вкусного, а главное, та, которой посвящена сказка „Золотой ключик“, — Людмила Ильинична Имеется в виду жена Алексея Толстого. . Она была в голубоватом домашнем платье. До чего красива! Она оглядела комнату, дала мне с улыбкой руку, села за стол, но, когда протянула чашку с кофе Алексею Николаевичу и глаза их встретились, я поняла, что мы, просители его пьес, сейчас далеко на заднем плане. Здесь благоухала всей своей свежестью любовь. Людмила Ильинична глядела на все, но видела только Алексея Николаевича. А он словно чувствовал себя погруженным в морские волны ее глаз, и только культура и светское воспитание заставляли его делать вид, что мои заботы имеют для него
Алексей Николаевич ел вкусно, смеялся заразительно. Он был привольно русский, родной, как русская речь,
10О взвившихся кверху бровях Паустовского, детской радости и матрешке

«Однажды на террасе появляется невысокий, немолодой, худой мужчина. Соломенные кресла уже не раскачиваются, те, что сидят на стульях, приосанились, гулявшие по саду спешат на террасу. Раздалось почтительное: „Здравствуйте, Константин Георгиевич!“ — и на несколько минут тишина стала торжественной.
Паустовский медленными шагами сошел к нам из своего люкса на втором этаже, сел в кресло. После приветствия некоторое время — молчание. Потом говорит он: о речной воде, о рыбалке, о Черном море, о взъерошенных русских эмигрантах, встреченных им в Париже… Внимательно выслушивает вопросы, сам говорит медленно, вдумчиво, повороты мысли интересны, неожиданны, и хочется, чтобы говорил только он. Внешность у него необычная. Высоченный лоб, взвившиеся кверху брови, узкие мудрые глаза, которые словно бы видят насквозь, волевой орлиный нос. А самое сильное впечатление — от сочетания хрупкой, будто хрустнувшей под тяжестью болезни впалой груди, узких плеч — и мужественности во взгляде, в удлиненном овале лица, в низком голосе. И
За время первой встречи я не проронила ни звука. Да ведь и не знает он меня. Хорошо, что хоть увидала его так близко.
И вот после рабочего дня снова потянуло на нижнюю террасу. Может, сегодня он опять к нам спустится? На это надеялись многие. В ожидании говорили о чем придется. Среди завсегдатаев террасы особенно запомнился Роман Ким Роман Николаевич Ким (1899–1967) — писатель, автор популярных шпионских романов, в 1920–40-е годы — сотрудник японского отдела советской разведки. — человек восточного типа с манерами денди. Очень вежлив и заперт на тысячу замков, владеет чуть ли не десятью языками Востока и Запада. Ко мне относится чуть мягче, чем к другим, — пережил то же, что и я. Его сын хорошо играл в теннис, я — плохо. Но площадка рядом с террасой, и можно „поразмяться“ с ракеткой и мячом, бросив играть тотчас, как только появится Константин Георгиевич. Несмотря на болезнь, Паустовский очень много работал у себя в комнате, его жена, Татьяна Алексеевна, следила за режимом его питания и отдыха, но удержать его от лестницы, по которой с бронхиальной астмой, может, и не стоило бы ходить, не могла. Она оставалась в своем люксе — его тянуло к нам. Да и как бы он мог сидеть все время на месте? Сколько он исходил по лесам Подмосковья, по донским степям, где пахнет чабрецом и полынью, с каким восторгом говорил об огромном дыхании и запахе моря в Одессе. Вспоминая о путешествии вокруг Европы на теплоходе „Победа“, он бегло взглянул на меня и рассказал о случае в Неаполе… Он сошел на берег, взяв с собой большую куклу-матрешку. На причале полно ребят. Он идет, яркую матрешку в руках держит — и тут облепили его мальчишки! Он „разломал“ матрешку пополам — выглянула матрешка поменьше. И этой открутил голову — внутри еще матрешка…
— Дети и их радость, ликование! Как иногда нетрудно и как радостно их зажечь.
Помолчали. И вдруг неожиданно Паустовский обратился прямо ко мне:
— А вы, Наталия Ильинична,
— Да… Сейчас Детский музыкальный задумала, уже работаем.
Он одобрительно кивнул мне и протянул руку:
— Ну вот и познакомились лично.
Не стану писать: „Я была потрясена, не спала ночь“. Спала сладко! В сердце влетела веселая птица, и работалось с утра лучше…»
11Об идее создания детского театра

«Трудно сказать, как человеку приходит в голову
<…>
Хочу создавать театр для детей.
Совсем новый. Такого театра еще никогда нигде не было. „Синяя птица“ был лучший, в своем роде единственный детский спектакль большого искусства. Но он так и остался единственным. Художественный театр жил интересами взрослых, а в задуманном театре все должно было быть для детей.
Не отдельные спектакли, а театр — это большая разница. В этом театре дети — не случайные посетители, а полноправные хозяева. Лучшие писатели должны думать о детях, создавать для них новые пьесы, большие художники сцены — посвятить целиком свое творчество маленьким. В театре для детей, конечно, должно быть свое собственное помещение, так же как оно есть у театров для взрослых».
12О «Пете и волке» Сергея Прокофьева

«Я знала ряд произведений Сергея Сергеевича, написанных для детей: „Гадкий утенок“ по Андерсену, „Сказки старой бабушки“ — и, конечно, жаждала привлечь его к творческой работе в Московском театре для детей.
У меня появилась мечта, чтобы он написал для нас.
Брать все лучшее от творческих людей, с которыми встречалась, чтобы росла сокровищница произведений искусства, посвященных детям, было моей самой большой страстью.
Мне загрезилась сказка, да, сказка, — ведь нашей советской действительности Прокофьев тогда еще до конца не ощутил, недавно в Москву из-за границы вернулся, — сказка для симфонического оркестра.
Симфоний, которые сопровождают чтецы, я никогда прежде не слыхала, но это ведь может быть. Когда ребятам говоришь о музыке только во вступительном слове, они потом многое забывают, когда звучит музыка, не ассоциируют ее со сказанным, плохо слушают, а если бы
13О правде без ретуши

«Но в темной комнате, накрывшись темной материей, стоял большой одноглазый фотоаппарат. Это был удивительный аппарат: кого бы он ни снимал, все становились красивыми, все как один, с прямыми носами, прилизанными волосами, узкими губами и черными бровями. Мне было страшно интересно узнать — как же это получается? Придут, бывало, сниматься и старики, и толстые, и подслеповатые, и кривоносые — разные. Разные люди, а получают карточки — и я
Мама, пока мы жили в Киеве, много плакала, а папа, видно, переехал на телеграф: по четыре раза в день мы получали от него телеграммы, но мама не хотела их читать. Потом папа приехал сам, они с мамой помирились и даже попросили маминого дядю их вместе сфотографировать.
Через неделю после того, как мы вернулись в Москву, пришли из Киева карточки. Папа посмотрел на них и давай хохотать:
— Но я же таким приличным и безличным никогда не был. Приказчик из лучшего галантерейного магазина! Молодец фотограф — ретуши не жалеет, всех под одну гребенку!
Мама хотела заступиться за своего дядю — он, мол, добрый, а люди хотят думать, что они красивые. Но папа ответил:
— Красота в правде, в том, что каждый человек — „неповторимое чудо“, что у каждого свой нос, свои глаза, свои губы, своя душа. — Он посмотрел на меня и сказал очень серьезно: — Бойся ретуши, дочка, говори только правду, в людях много противоречий — не бойся их. — Он помолчал и добавил: — И об отце своем, даже если он не всегда бывает таким, как хотел бы, — всегда только правду.
Я помню эти слова, папа, хочу, чтобы люди знали тебя во всей твоей сложности, и знаю, ты не рассердишься на меня за это!»
14О жизни настежь

«31 декабря 1937 года была в больнице сибирских лагерей в деревне Ново-Иваново. Рубленая изба. За окнами сорокаградусный мороз. Белый снег, белая равнина, только белое… Новый год встречала в комнате докторши. Мы даже чокнулись сладким чаем. Главное, что восхитило меня в ее комнате, — книги. На полке стояли пять огромных томов Шекспира в издании Брокгауза и Эфрона! Когда часовая стрелка приблизилась к двенадцати, я обратилась к любимому драматургу с просьбой ответить, что ждет меня в 1938-м, и, раскрыв наугад страницы тяжелой серой с черным корешком книги, прочла ответ Шекспира:
Кто настежь жить привык,
Сидит пусть под замком…
Огорчилась и одновременно поразилась ответом Шекспира. В каком его произведении есть такие строчки? Оказалось, в драме „Тимон Афинский“; я ее совсем не знала…
Да, я жила настежь. Перед глазами мелькнули тысяча сто детей — участников детской самодеятельности на сцене Большого театра, массовый праздник — елка на Манежной площади, „Золотой ключик“ в Центральном детском театре. Я жила настежь не








