Разбор одного шедевра: «Не ждали» Ильи Репина
Кто этот человек, возвратившийся после долгого отсутствия? Где он был? Что висит на стенах комнаты? И почему близкие его не ждали? Рассказываем, как устроена знаменитая картина Ильи Репина

Картина Репина «Не ждали» (1884–1888) замыкает его так называемый «революционный цикл» (или «народовольческую серию») 80-х годов, куда входят также «Арест пропагандиста» (1880–1889, 1892), «Перед исповедью» (1879–1885), «Сходка» (авторское название — «При свете лампы», 1883), «В одиночном заключении» («Тоска», 1884–1885) и отчасти ранняя «Под конвоем. По грязной дороге» (1876). Весь этот цикл явился прямым откликом на экстремальные обстоятельства царствования Александра II, когда демократическая интеллигенция, в той или иной мере фрондирующая и недовольная режимом, жила сведениями о политических процессах и смертных приговорах, обсуждала террористические акты и реакцию власти на них. Собственно, сам царь, чье правление началось с объявления амнистии декабристам и петрашевцам и продолжилось Великими реформами, оказался объектом террористической охоты и — после нескольких неудачных покушений — был убит 1 марта 1881 года.
Цареубийство и казнь народовольцев всколыхнули всех: замкнутый круг насилия перемешал роли жертв и палачей, героев и мучеников. Реальность, менявшаяся на глазах, многими осмыслялась в поле фундаментальных нравственных мифологем. Чем оправдан страдальческий путь? Какова цена поступка и в частности подвига? Чревата ли жертва грядущей победой и всеобщим счастьем, возможно ли прийти к добру через зло? Так вышло, что животрепещущие события сразу демонстрировали свой высокий исторический статус, и в этой истории, творимой здесь и сейчас, естественно было и искать признаки вечного: повторяющегося, воспроизводящего некий исходный архетип или же, напротив, подлежащего экстраполяции в будущее, имеющего вид той модели, что не утрачивает смысла при смене времен. Именно поэтому бытовой элемент в «революционном цикле» Репина не является вполне бытовым — он встроен в иную систему координат. Потому что картины эти не про жизнь, а про ее онтологию: про точки схода собственно жизни с бытием. «Не ждали» — особенно.
Входящий и его прототипы

Кто этот человек в мужицком армяке, откуда и вследствие каких причин он возвращается в семью и отчего его возвращение оказывается сюрпризом для домашних? По общепринятой версии, ссыльный — революционер (возможно, народник), и тогда вроде бы счастливо замкнулся круг жития: жертвенный подвиг, расплата, возврат домой, к родным. Но почему тогда они не ждали? Ведь им — в соответствии с такой примиряющей схемой — полагалось бы как раз ждать? Если освобожденный узник отбыл полный срок наказания, семейство не может не знать, когда этот срок заканчивается; но точно так же трудно представить их неведение в случае амнистии — о ней, как правило, оповещали. Фотография убитого Александра II в гробу висит на стене комнаты, точно указывая на время действия, так что речь, видимо, идет не об амнистии как таковой, а о частичном пересмотре административных дел, предпринятом министром внутренних дел Михаилом Лорис-Меликовым, а затем продолженном по инициативе Александра III. Это не было амнистией в юридическом смысле, однако практика смягчения (после того как стало ясно, что революционное движение идет на убыль) привела к возвращению многих ссыльных, осужденных по административным статьям. Но Репин, как будет сказано далее, писал вовсе не конкретную ситуацию, в которой внезапность появления героя не могла быть объяснена историческими обстоятельствами.
Лицо героя Репин переписывал четыре раза. Обычно широко распространявшийся о своих замыслах и поисках, на сей раз не объяснял даже близким друзьям, чего именно ищет. Выражения мужества? Сочетания героизма с жертвенностью? Судя по эскизам, автор никак не мог определиться как раз с концепцией главного образа. Он чувствовал в выбранном им сюжете привкус вечной проблемы, и это не позволяло ему наградить героя однозначными характеристиками. Напротив, здесь возникало целое поле внебытовых отсылок — блудный сын, возвращающийся под кровлю отчего дома, восстающий из гроба Лазарь, Иисус Христос после Воскресения или же впервые являющийся человечеству; последний мотив — из картины Александра Иванова «Явление Мессии» Название «Явление Мессии» (реже — «Появление Мессии») употреблял художник Александр Иванов. «Явление Христа народу» — более поздний вариант, закрепившийся за картиной после петербургской выставки 1858 года., которая повлияла на Репина непосредственно.
Иванов и Репин: «идущий» и «входящий»

У ивановского Христа никакое, всеобщее лицо — одна внутренняя сосредоточенность и отсутствие эмоций. Вероятно, подсознательно именно к этому стремился и Репин — подтвердить в облике героя то ощущение иного, которое уже выражено в его мерном шаге, так похожем на шаг «являющегося» у Иванова. Подобно Иванову, Репин чуть искажает перспективу и вздыбливает пол, чтобы шаг превратился в нисхождение и пространственный перепад между зонами дома и дороги был ощутим сильнее. Герой еще (и всегда) совершает путь, еще принадлежит тому внешнему, природному пространству, где, видимо, только что прошел дождь (очистительная гроза?) и солнце только обещает появиться, отвечая состоянию людских ожиданий, соответствуя духовно наполненной событийной паузе. Время замедляется у порога, застывает в точке встречного движения фигур и перестает быть жанровым временем; картина обращается в длящийся вопрос, имеющий отношение не к конкретной и нынешней, но к общечеловеческой истории, к ее напряженно-болевому узлу.
Домочадцы героя

Репинский герой, вероятно, отсутствовал несколько лет, о чем косвенно свидетельствует реакция детей на его появление: они, как можно предположить, не помнят своего отца. Впрочем, отца ли? Родственные связи персонажей вызывали у современников разночтения. Дети или, может быть, младшие брат и сестра? Жена, сестра или просто знакомая семейства? Мать или гувернантка? (Экзотическую версию с гувернанткой предлагал издатель и журналист Алексей Суворин.) И по поводу того, как отзывается семья на появление героя, аудитория не сходилась в оценках. Ведь, будучи прирожденным портретистом, Репин обычно и в сюжетных построениях шел от психологически ясных характеристик действующих лиц; он умел форсировать мимическое состояние своих моделей, доводя его до той внятности, которая может быть легко сформулирована, переведена в слова. А здесь живая, импрессионистическая летучесть взглядов и гримас как бы не подытожена, не забрана в формулу законченной портретной концепции — в лицах обозначена ровно та динамика, какая и бывает выражена в непозирующих, захваченных внезапной жизнью лицах. Девочка скорее насторожена, мальчик скорее возбужден, горничная невозмутима, дама у рояля будто грезит наяву — а лица той, на кого смотрит ссыльный, мы не видим. Просвещенные зрители замечали неопределенную тональность рассказа, и им, воспитанным на внятных изобразительных «сообщениях», это казалось просчетом художника; восхищенному критику Владимиру Стасову оставалось только отрицать неопределенность, домысливая повествовательные мотивировки. Между тем некая дребезжащая нота неузнавания в картине есть, и вполне вероятно, что она
Другие варианты картины

В первых — несохранившихся — вариантах композиции, насколько можно судить, все выглядело более однозначно и более дидактично: там присутствовал старик-отец, возвещающий семейству о прибытии сына, и, если верить Стасову, еще один старик — просто для числа и для жанрового шума. Репину вообще было свойственно не только долго работать над картинами Павел Третьяков, постоянный покупатель, нередко забирал их практически из-под руки, желая сохранить непосредственную свежесть., но и возвращаться к ним после длительного перерыва; в случае с «Не ждали» это происходило как обычно. Но существовал и отдельный вариант, с другими героями — небольшого размера (45,8 × 37 см), почти эскиз маслом на деревянной доске (1883, частично переписан в 1898-м): там из ссылки возвращалась молодая девушка — и попадала в исключительно женское общество. Реакции возможных сестер (или не сестер) на ее появление в этом варианте тоже выглядели более нервическими, чем внятными, — испуг, удивление? Но солнце, залившее дачный интерьер, но устойчивость фигуры и ясность взгляда вчерашней узницы уже обещали хорошее продолжение житейской истории: не ждали, почти не узнали, потому что отвыкли, но
На стенах и в комнате
Выраженный в живописном построении холста мотив поступка или даже подвига, который изымает героя из людского сообщества, но ему же и адресован и оттого рассчитан на понимание и, возможно, сочувствие, не мог быть прочтен в полноте современниками, привыкшими, как уже говорилось, к изобразительным рассказам, к не допускающему «незаконных» толкований коду «говорящих деталей». И Репин, живописной интуицией преодолевающий рамки такого подхода, но сам разделяющий его как человек своей эпохи и в качестве гражданина стремящийся к актуальности высказываний, просто не чувствовал себя вправе оставить вопрос картины нерешенным, а зрителя — в неведении. Отсюда — разбросанная по композиции мозаика антуражных «манков», которые в совокупности должны прояснить обстоятельства встречи каторжанина с его семейством, намекнуть на дальнейшее развитие сюжета — на то, чем продолжится и завершится начатая история. Можно сказать, что этот аккомпанемент аксессуаров — успокоительный; ему предстоит хотя бы частично снять напряженную неуверенность центральной партии.

Разностильность дачного интерьера (Репин начинал писать картину на даче в Мартышкино), открытого в сад, карта мира на стене и ноты на рояле — безошибочные признаки интеллигентной семьи, небогатой, но и не бедствующей. Взрослые в трауре: возможно, умер отец ссыльного — тот самый старик, который присутствовал, вполне еще живой, в первом эскизе?

Но главное — своего рода ударный проигрыш висящих в комнате изображений; все — значимые и современной художнику публикой однозначно узнаваемые. Это портреты Шевченко и Некрасова, литография с картины Карла Штейбена «На Голгофе» («Иисус, подводимый палачами к распятию», 1841), фотография убитого Александра II или, быть может, репродукция работы Константина Маковского «Александр II на смертном одре». Портреты литераторов наиболее прямо указывают на демократические традиции дома: и если так, то пауза не вырастет до конфликта и человек «потерянного поколения», перейдя порог, не станет лишним человеком в собственной семье. То же и с «Голгофой»: именно эта картина на рубеже 1870–80-х годов вдруг обрела популярность, присутствие ее гравированного воспроизведения в интерьере сделалось определенным социальным знаком, даже своего рода сигналом. Дело в том, что люди народничества сами воспринимали свою деятельность в духе нового Евангелия, выстраивая экзистенциальные параллели с Евангелием каноническим, с эпизодами Страстей. Жизнь норовила обратиться в житие, житейское — в легендарное и мифологическое; эта психологическая религиозность в общественных умонастроениях отчасти способствовала и реабилитации соответствующей тематики в изобразительном искусстве.

Фигура матери у Репина обнаруживает сходство с фигурами привставших свидетелей чуда у старых мастеров (например, «Христос в Эммаусе» у Караваджо или «Ужин в Эммаусе» у Хендрика Тербрюггена), и это усиливает евангельскую аллюзию и одновременно делает более интенсивным сопряжение смыслов — конкретно-социального и всемирно-исторического. (Легкость такого сопряжения не была особенностью именно репинского художественного мышления — она отвечала духу времени.)
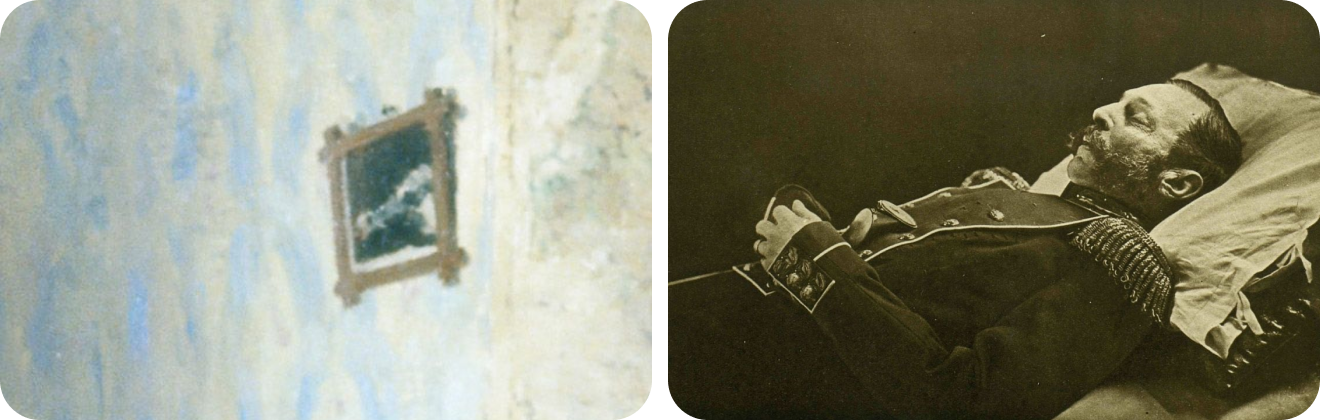
Что же касается фотографии убитого Царя-освободителя, то как раз эта деталь вновь возвращает нас в атмосферу неуверенности. Собственно, речь здесь даже не о неуверенности в исходе картинного вопроса — примут или отвергнут вернувшегося, — но о неуверенности общего свойства, охватившей русское общество после 1 марта 1881 года, ведь нарушение главной заповеди потрясло и тех, кто в целом революционному движению сочувствовал. Герой картины, естественно, не имеет отношения к цареубийству, однако изображение на стене в доме его родных напоминает, что отсвет вины есть и на нем. Все вместе, все одновременно: вина, жертва, подвиг — ничего этого не ждали, траур одежд может быть трактован как печаль обо всех сразу, хотя вряд ли это входило в авторские намерения.
Оценки
Но в том и дело, что автор и сам не был вполне убежден в собственных намерениях — как и в собственном отношении к проблеме. Вероятно, и этим объясняется лихорадочное дописывание и переписывание холста. На двенадцатой передвижнической выставке в 1884 году был представлен один вариант; Третьяков, купивший картину после долгих раздумий и трудных переговоров, приобрел уже другой, даже когда картина висела в Третьяковской галерее, неуемный Репин все-таки переделал лицо героя — без ведома владельца, — а потом переделал снова. И фотография убиенного царя то замазывалась (для снятия излишней публицистичности или же просто для выставочной проходимости?), то опять делалась различимой. Авторским колебаниям вполне отвечали колебания публичных оценок: далеко не все критики и ценители репинского творчества приняли картину, а не приняли как раз оттого, что не поняли пафос высказывания.
Открытый финал

В результате этой невозможности определенного отношения Репин, кажется, единственный раз в своей долговременной творческой практике написал картину с открытым финалом. И сделал это сам того не желая — будучи склонен как раз к финалам ударным (достаточно вспомнить повешенного стрельца за окном в «Царевне Софье», чтобы всем было понятно, отчего негодует героиня), пытаясь убрать неясность посредством подсказок и не вполне в этом намерении преуспев. Но именно поэтому получившееся в результате выходит за рамки передвижнических представлений о современности и жанровый реализм комнатной сцены оказывается откорректирован «ошибкой» перспективы: вечная, вневременная ситуация пребывания на пороге, в длящемся настоящем, которое есть лишь граница между прошлым и будущим, меняет очертания этого настоящего, искривляя натурное пространство. Героя не ждали — но выходит, что это он ждет.








