11 цитат из «Опыта биографии» Феликса Светова
«Опыт биографии» — это автобиографический роман критика, правозащитника и диссидента Феликса Светова. К 95-летию со дня его рождения «Издательство Ивана Лимбаха» выпустило переиздание этой книги. А мы публикуем несколько фрагментов — о судьбе поколения, похоронах литераторов, газетных заголовках и боязни толпы в электричке
1О характере времени и судьбе поколения

«Мы слишком быстро живем: то, что казалось вчера устоявшимся, завершившимся, словно бы давало материал для глубокого анализа, сегодня уже прожито, устарело, ушло, интерес ко вчерашнему звучит чуть ли не отступничеством. В этом характер времени, его нельзя не учитывать, но в этом и опасность, которую тоже нельзя сбрасывать со счета. Мы оставляем „на потом“, для мемуаров, события и факты — опыт чрезвычайно важный, в котором некая разгадка и понимание не только момента, но времени и самих себя. К тому же у нас нет надежд на мемуары, да и нет права дожидаться, пока их пора приспеет.
<…>
Я полагаю, что книгу о себе можно начинать лишь в том случае, если поймешь собственную жизнь не частной, не автобиографией, но судьбой поколения (я отдаю себе отчет в размытости и скомпрометированности понятия „поколение“ — за неимением лучшего), если увидишь в том, что выпало на твою долю, даже не собственную причастность, но прежде всего общность причин — не в обстоятельствах, не во внешних совпадениях, но в их природе. Если услышишь за частным, случайным, но таким дорогим тебе личным топот тысяч ног по тем же дорогам, уловишь в многоголосице словно бы свой голос. Когда тебя захлестнет волна любви к тем, с кем тебе довелось встретиться. Когда во всем разнообразии не связанных между собой встреч, разговоров, случаев и событий неожиданно поймешь, как теперь любят говорить, тенденцию, линию, естественный процесс, шаг истории».
2О газетных заголовках

«Я настоятельно советую выбрать час-другой, отправиться в
3О разрушенном доме

«Мама вернулась поздно от своих сестер, отец уже спал. Она не успела лечь, когда позвонили, и сразу вошли человек пять в форме и комендант нашего дома в качестве понятого. „В чем дело?“ — спросила мама. Был только тридцать шестой год, самое начало, да ей бы, думаю, и через два года не могло прийти в голову, что это может случиться с нами. „Где там ордер на обыск и арест?“ — спросил один у другого, и пока тот искал бумажку, мама повторила громко, чтоб отец услышал и приготовился: „Ордер на обыск и арест?!“
Он услышал. „Что такое? — закричал он. — У меня обыск?!“
Они быстро поняли, что обыск практически невозможен, если они хотят его взять в эту ночь. Кабинет и вся квартира были забиты книгами, стол завален рукописями, определенных инструкций на этот счет у них, видно, не было.
Все делалось только для соблюдения процедуры. „Как вы работаете при таком беспорядке?“ — спросил один из них, сидя за отцовским столом, осторожно перекладывая бумаги, выдвигая ящики стола.
„Мучаюсь“, — сказал отец. Но тот взялся за левый ящик стола, а мама знала, там пачка писем Рязанова из ссылки: старик и оттуда не стеснялся высказывать свои весьма нелестные суждения о происходящем. Мама увидела, как у отца блеснули глаза. „Может, ваш визит — счастливый случай, поможете разобраться, наведем порядок…“ Военный задвинул открытый уже ящик и встал. „Надо кончать, — сказал он, — достаточно“.
На столе лежала подготовленная к печати огромная рукопись второго тома „Марата“, листов, наверно, тридцать пять — сорок. Это была, конечно, главная работа отца, и когда тридцать лет спустя при переиздании я внимательно читал первый том, то понял — он был всего лишь подготовкой, разбегом для тома второго. В общей сложности отец работал над этой книгой лет десять, подолгу сидел в Британском музее и парижских хранилищах. Думаю, там были материалы уникальные, соображения очень ценные, быть может, они еще
„Вот это мне действительно жалко“, — словно самому себе, тихо сказал отец и осторожно, легко положил на рукопись руку.
Они взяли именно ее.
Потом отец попрощался с мамой.
Она смотрела в окно, как он спускается с крыльца. Было уже светло. Под окнами стояла открытая легковая машина красного цвета — такие еще были времена.
Он неожиданно остановился, спустившись с одной ступеньки, и те, что шли сзади, ткнулись в его широкую спину. Отец засунул руки глубоко в карманы пиджака и медленно обвел глазами двор, наши окна и посмотрел в небо. Потом глубоко выдохнул воздух и полез в машину.
Мы жили в Каретном Ряду, в Третьем доме Советов, еще целый год. Но дома уже не существовало. Он был разрушен».
4Об ощущении бессмысленности протеста

«Уже смеркалось, снег был синий, и на вахте зажгли фонари. Мы провожали маму до зоны.
И вот здесь, перед воротами, которые раскрылись и сейчас должны были за мамой закрыться, я вдруг пронзительно, впервые в жизни понял, что ничего нельзя сделать, чтобы это предотвратить, что никто не может ничего сделать. Даже моя сестра, которую я до тех пор
Помнится, я не плакал и не цеплялся за маму. Я просто совершенно отчетливо —
Мама, мне кажется, поняла меня. Она нежно шутила и бодро улыбалась нам в синих сумерках уже оттуда.
Потом мы ушли. Потом был тот же громыхающий, как пустая жестянка, поезд до Потьмы. И наконец — Москва, мои тетки, пионерские песни, от которых звенело в ушах: „Эх, хорошо в стране советской жить!..“»
5О двух измерениях жизни

«Я уже не помню, сколько часов гремел наш состав от Потьмы — маленькой станции на магистрали от Москвы: в Потьме мы с сестрой были засветло, а добрались до нашего лагпункта глубокой ночью.
Может быть, самым тяжелым здесь и была
6Об уничтоженной рукописи
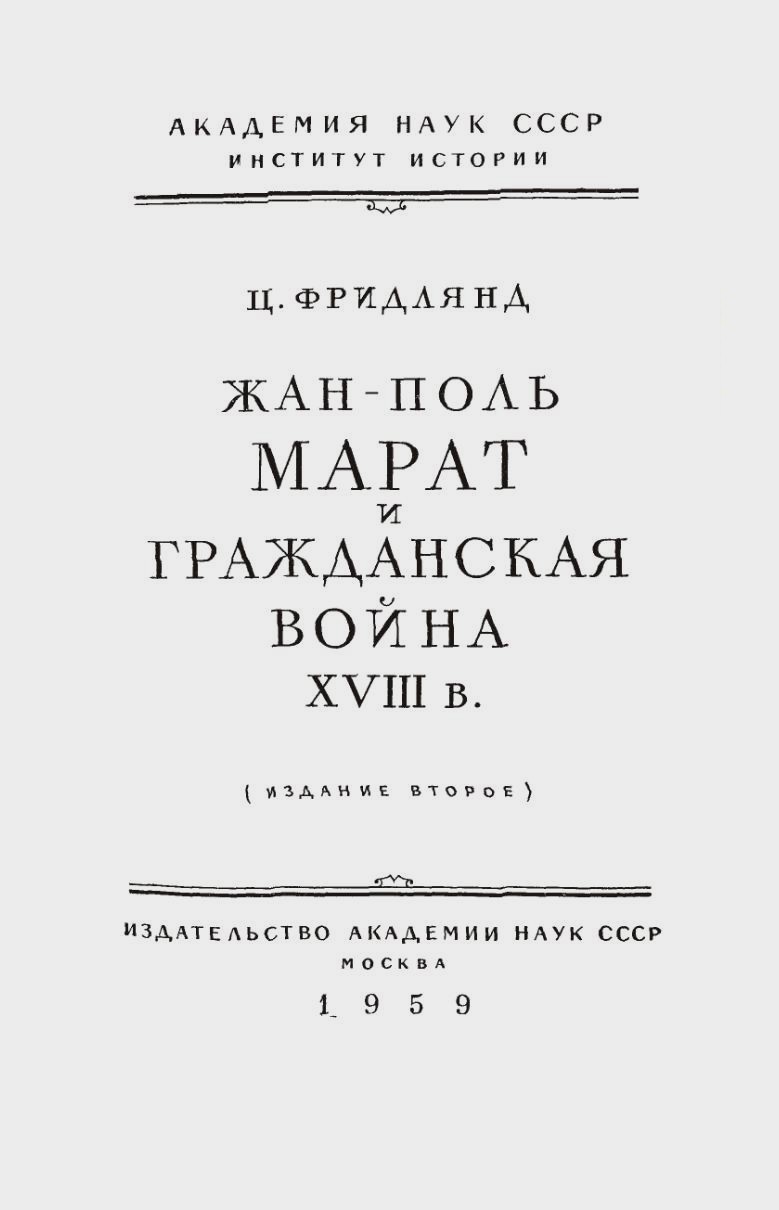
«У мамы
— Представляешь, что он должен был сделать там, на Лубянке, чтобы заставить их вернуть рукопись! — часто говорит мне мама. — А я, старая дура, повезла ее с собой в ссылку!..
Но куда ей было деть огромную рукопись, если боялись взять на хранение даже фотографии отца, его напечатанные книги. Да и кому дать — всех друзей подобрали. Не было рядом человека, который умел бы спрятать, закопать, здесь нужен был мужчина, фантазия чисто художническая.
Булгаков пишет в „Мастере“, что рукописи не горят. Это прекрасно сказано, но скорее как символ, как образ бессмертия подлинного искусства, неумирающей силы слова.
Но была реальность — конкретная жлобская реальность поощряемого произвола, и рукопись, конечно же, была уничтожена — тупо, с бессмысленной злобой».
7О похоронах писателей

«Мне подумалось однажды, что можно было бы написать печальную книгу о похоронах русских литераторов, начав с очерков о XIX веке (Пушкин и др.). Во всяком случае, то, что происходило на моих глазах, Олеша, Пастернак, Заболоцкий, Гроссман, Эренбург, Ахматова, Паустовский, несомненно, пополняет представление о судьбе литературы в нашем отечестве, которое для Запада все еще остается загадкой или анекдотом к воскресным приложениям иллюстрированного журнала. Чем объяснить один и тот же почерк этих похорон, милое сердцу нашего начальства однообразие продуманной церемонии, учитывающей всякую возможную неожиданность? Чего здесь больше — ненависти, злорадства, страха, облегчения? И все это в типично полицейской мелочности, начиная с отсутствия объявлений о часе церемонии до полицейских рогаток, грузовиков, загромождающих проходы, специальных пропусков, согласованного текста речей на панихидах, утверждаемого списка ораторов… Все вместе: и страх, и ненависть, и злорадство, и облегчение — теперь можно напечатать, разрешить юбилей, облагодетельствовать вдову. Все уродство отношений начальства с литературой являет себя в церемонии похорон вполне откровенно, а лицемерие скорби только подчеркивает ее непотребство».
8О карьере

«Мой приятель и ровесник за годы, проведенные мною на Сахалине, успел, казалось бы, не так много: журналистская работа где-то в ТАССе,
„Кругом мерзость и все мерзавцы!“ Что происходит, когда такого рода „трезвое отношение к действительности“ становится мировоззрением? Если проскочить промежуточные, существующие всегда оправдательные звенья, оно сводится к простому: все позволено, нечего наивничать — все попутаны, больше-меньше, разница только количественная. А если так — не все ли равно? Не я, так другой — может, я, как человек порядочный, принесу меньше вреда, а глядишь, и
— Ты лжешь в своих заметках в газете, пишешь то, что хочет редактор, а его натаскивают в обкоме — тоже мне корабль!
Я знал, что это так, что придуманные мною очерки — условная игра в никогда не существовавшую жизнь, „поставленные проблемы“ высосаны из пальца — нужны только для отчета, „спущены“ сверху, что люди, которых я видел и, как мне казалось, знал, живут иначе, думают не об этом и больны другим».
9Об одном политическом спектакле

«Был 1968 год, в Чехословакии начиналась весна, Синявский и Гинзбург отбывали лагерный срок, по рукам в самиздате ходили романы Солженицына и Марченко о том, что сегодня происходит в наших тюрьмах и лагерях, через две улицы — Лубянка. Я уходил со спектакля, продираясь сквозь радостно-возбужденную толпу, слушал шепот: спектакль вот-вот закроют за остроту, прошел мимо автомобилей, купленных смельчаками-актерами за деньги, полученные от государства за их смелость, минус партийные взносы, внесенные ими в свою парткассу. У меня еще горели щеки от только что пережитого унижения, когда меня подняли в финале спектакля: актеры, жалко согнувшись, воровским шепотом, с подмигиванием и переглядыванием пели „Интернационал“, а зал, неловко оборачиваясь и смущаясь, подтягивал — тихо или погромче, или только открывая рот, чтоб соблюсти видимость лояльности.
Потом был тяжкий, ужасно неприятный разговор, как бывает, когда начинаешь с ноты, понятной только тебе и собеседнику, выработанной годами дружбы, когда понятны даже не слова, интонация, аргументы не нужны — все и так ясно, давно решено, но внезапно оказывается, все не только не решено — давно пошло в разные стороны и следует разобраться, от одного ли перекрестка мы
…Я видел перед собой перепуганных семинаристов, обманом и наглостью захвативших в свои руки власть в огромной стране, возомнивших себя ворами в законе. Они жалко, как гимназисты, хихикали, дожидаясь явления пахана, а потом, когда его, раненого, пронесли в соседнюю комнату, оказавшись перед необходимостью решать
10Об антисемитизме

«Меня спросил недавно близкий и дорогой мне товарищ: не бывает ли мне страшно, скажем, в толпе — в электричке. Я ответил отрицательно, сказав, что дело не в моей личной храбрости, но в отношении к этой толпе. Не могу же я бояться, а значит, ненавидеть пьяного мужика в Чебоксарах у гроба дедушки или дурака Ш. — я могу их только жалеть, понимая собственную ответственность, вину за их жизнь.
Мы долго разговаривали, я упирал на свои чувства жалости и любви, из которых, разумеется, никак не может произрасти ненависть и нечто способное нас разделить. А потом, оставшись с собой наедине, поймал себя на неискренности. Я действительно боюсь толпы в электричке, действительно чувствую себя напряженным и собранным — несвободным, потому что вижу себя их глазами, а значит, в каждую минуту готов услышать, а стало быть, вынужден реагировать — всегда.
Может быть, самое трагическое в этой стороне нашей русской жизни — даже не живучесть антисемитизма, вечно тлеющего в
Здесь не должно быть жалости. В нашей русской жизни это может стать началом любого поворота, свидетельством способности на что угодно при известных обстоятельствах, ущербной душевной узости при демонстрируемом размахе и непременной национальной русской широте (хотя, разумеется, возможны ошибки, перехлест в иную сторону, болезненная восприимчивость несущественного, вполне объяснимая, впрочем. Но каким счастьем становится осознание собственной такой ошибки, а стало быть возвращенная любовь и близость!)».
11О свете

«С чувством стыда и удивления я вижу череду дней, в которых пребывал как бы во сне замороженности и сомнамбулизме, живя только внешне, исполняя свои обязанности, проявляясь как муж, отец, товарищ, литератор, гражданин — являя собой образ современника, оставаясь между тем механической куклой, тростью, как сказал бы Киркегор Имеется в виду датский теолог и философ Сёрен Обье Кьеркегор., с мочалой вместо волос на голове, реализуясь в инерции литературно-интеллигентской общественной жизни. Только сердце стучало, начинало щемить, напоминая о себе. Я читал замечательные книги, не понимая предназначения их авторов, прекрасные стихи звенели во мне, их гул завораживал колдовством, а я не в силах был проникнуться их истинным смыслом; я бывал на художественных выставках, в галереях, восхищаясь разноцветным гулом, запоминал сюжеты — не видел света, исходящего с холстов.
Такими я запомнил долгие вечера у себя дома между шумным современным гусарством и нервными, пустыми, в сущности, разговорами о происходящем — и неожиданную тишину за столом. Я еще долго воспринимал ее передышкой между








