Интервью Фредерика Бегбедера с Умберто Эко и Антонио Табукки
В новом выпуске совместного проекта Arzamas и журнала «Иностранная литература» — отрывок из двойного интервью с Умберто Эко и Антонио Табукки, писателем, переводчиком и филологом
Это интервью Фредерик Бегбедер взял у итальянских писателей в марте 2002 года для своей передачи о литературе «Книги и я», которую он вел на канале Paris Première. Полный текст разговора в переводе Марии Аннинской можно прочитать в
Фредерик Бегбедер: Умберто Эко, вы публикуете в издательстве «Грассе» ваш четвертый роман, по-прежнему весьма объемный, который называется «Баудолино». А вы, Антонио Табукки, публикуете у Кристиана Бургуа роман «Становится все позже». И издатель, и переводчик «Баудолино» Жан-Ноэль Скифано утверждают, что ваш роман — цитирую — «это то же самое, что „Имя розы“, но в миру». Я думаю иначе. Но не могли бы вы пояснить, что это значит?

Умберто Эко: Действие обоих романов происходит в одну и ту же эпоху — в Средние века. В первом романе сюжет разворачивается в монастыре, в среде просвещенной. Второй роман скорее плутовской, там события и приключения происходят в крестьянской среде. Это, разумеется, влияет на язык — мне пришлось писать другим языком. Если читатели боятся, что на страницах новой книги их снова ждут монахи, — могу заверить, что нет.
Ф. Б.: Вы знаете, что в настоящее время в мире продано 16 миллионов экземпляров романа «Имя розы», опубликованного в
У. Э.: А у кого
Ф. Б.: Если не ошибаюсь, это Сартр, «Бытие и ничто». Обскакал он вас! Действие «Имени розы» происходит в 1327 году. Это средневековый детектив. Там рассказ ведется от лица секретаря одного монаха. А в новом романе Баудолино сопровождает императора. На этот раз история начинается в 1204 году. Трудно рассказать, в чем там дело!
У. Э.: Да, действие происходит на 60 лет раньше, чем в первом.
Ф. Б.: Все начинается в момент падения Константинополя, и Баудолино спасает от смерти грека по имени Никита Хонеат.
У. Э.: Который реально существовал! Это был великий византийский историк, у которого я позаимствовал массу необыкновенных историй. Невероятный рассказчик! Например, он так мастерски живописует византийские пытки, что я был потрясен.
Ф. Б.: И это именно он рассказывает о жизни Баудолино. Но у Баудолино и Никиты совершенно разные характеры.
У. Э.: Полная смена регистра!
Ф. Б.: Никита — натура поэтическая, эрудит, а Баудолино, как вы сами говорите, — лоботряс непутевый.
У. Э.: Земля и небо!
Ф. Б.: Лоботряс — это старинная литературная традиция. В нем есть
У. Э.: Нет, Санчо Панса — это мудрость, которая уравновешивает безумие. Баудолино же
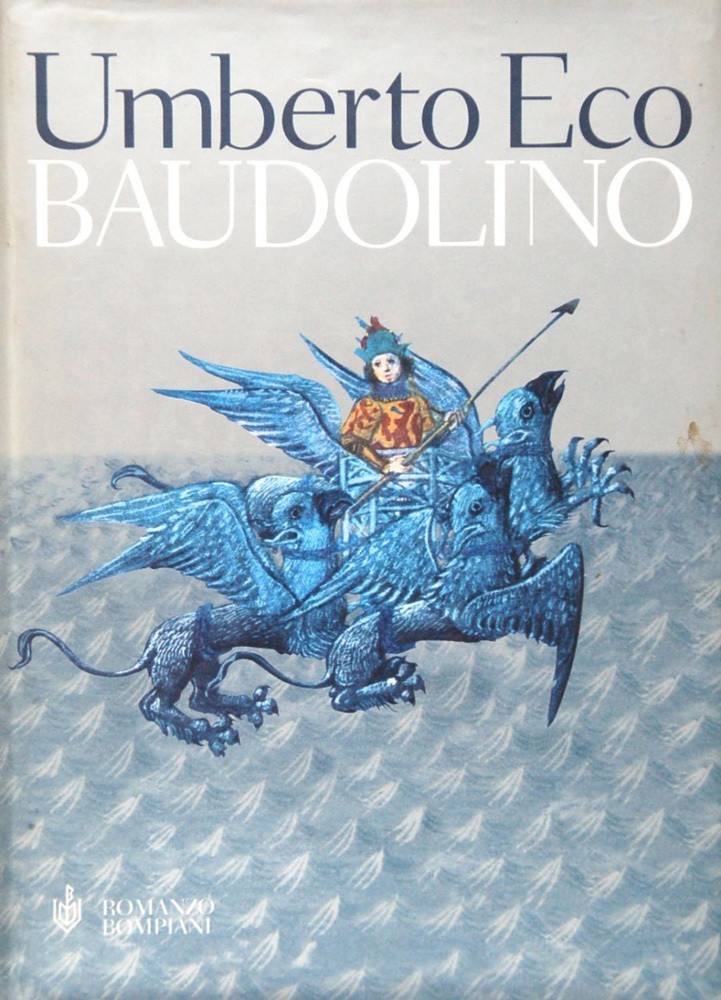
Ф. Б.: Вам это нравится, ведь вы автор «Войны за ложь». Вы любите тайны и греческие мифы. Складывается впечатление, будто вы стремитесь показать, что история, которая нам представляется подлинной, на самом деле придумана сумасбродами.
У. Э.: Часто это всего лишь утопии. Что такое революция? Гигантская утопия! Куда понесло Христофора Колумба? На поиски утопии! Но он так до нее и не добрался, а наткнулся на
Ф. Б.: В вашей книге действительно не вполне ясно, где явь, а где вымысел. Вам нравится играть миражами…
У. Э.: Все, что кажется вымыслом, на самом деле явь! Пытка византийского императора, представляющаяся адским вымыслом, на самом деле правда. В книге есть лишь одна страница лжи, она написана от моего имени. Это последняя страница, где Баудолино продолжает странствие. Это для тех, кто поверил в его рассказы…
Ф. Б.: У вашей книги странное начало: это первые слова, написанные Баудолино на диковинном языке, вами придуманном. Такое впечатление, что Умберто Эко превращается в Толкина.
У. Э.: Я поставил перед собой интересную задачу. Я хотел дать слово мальчику, который впервые в жизни взялся за перо и который родился в моем городе. Надо было воскресить диалект того места и той эпохи. У меня было одно преимущество: на этом старинном народном наречии не сохранилось ни одного письменного документа. Я мог сам сконструировать этот язык.
Ф. Б.: Как вы думаете, можно вас противопоставить Антонио Табукки? В четырех ваших романах, в «Маятнике Фуко» и «Острове накануне» в том числе, вы, в отличие от Табукки, совсем не говорите о современности. При этом в эссе и научных работах вы внимательно исследуете современность, вы очень продвинуты, пользуетесь интернетом. В романах вам не хочется обратиться к современности?
У. Э.: Вы сами ответили на свой вопрос.
Ф. Б.: Согласен. И все же почему в романах — нет? Реалистический или натуралистический роман вас не привлекает?
У. Э.: Я очень ценю величайшего писателя XIX века Алессандро Мандзони. У него есть роман, много чего сообщающий об Италии той эпохи, но действие этого романа происходит на три столетия раньше. Так что о настоящем можно говорить через прошлое. Возьмите Вергилия: рассказывая историю Энея, он говорил не о прошлом, а о современной ему Римской империи. Вот и мой коллега Гомер рассказывал о том, что случилось задолго до его рождения. Такой метод довольно распространен у писателей. Но есть и другие авторы, которые, как мой друг Антонио, лучше чувствуют себя в современности. У каждого своя стезя.
Ф. Б.: Антонио Табукки, вы читали «Баудолино»?
Антонио Табукки: Читал. Я думаю, у нас много общего. Вы подметили, что Умберто Эко пытается сплести или разделить правду и вымысел. Он ищет ответ на свои вопросы в истории. Я же исследую существование — и, более конкретно, жизнь. Контекст меняется, но задачи у литературы остаются прежние. Не надо попадаться в ловушку исторического контекста. В конце концов, литература — это метафора.
Ф. Б.: Умберто Эко, «Баудолино», вероятно, ваш самый личный роман.
У. Э.: Это возврат к истокам, к корням!
Ф. Б.: Ваш герой, который много путешествует и говорит на всех языках, — это отчасти вы сами?
У. Э.: Да нет! Я мало на каких языках говорю.
Ф. Б.: Всего лишь латынь, греческий, немецкий, французский, английский…
У. Э.: Преувеличение. Впрочем, хорошо, что люди так думают!
Ф. Б.: Вы отвечаете на нападки критиков, которые ругают вашу книгу?
У. Э.: Если я написал эссе и
Ф. Б.: Вы индивидуалист, который маскируется под автора для широких слоев!
У. Э.: Моя индивидуальная задача касается исключительно второго уровня прочтения. Но если
Ф. Б.: Наверное, трудно, когда ты экзегет, семиолог и эрудит, обрести изначальную невинность рассказчика и написать историю, притом что ты досконально знаешь все винтики и механизмы романа? Эрудиция вредит непосредственности?
У. Э.: Надо задать тот же вопрос Табукки. Он тоже преподает в университете. На самом деле многие писатели читают книги других авторов. «Плоть опечалена, и книги надоели…» Строчка из стихотворения Стефана Малларме «Brise marine» в переводе Осипа Мандельштама.. Но как только начинаешь рассказывать, мне кажется, вновь обретаешь искомую невинность.
Ф. Б.: «Баудолино» далеко не самый легкий ваш роман.
У. Э.: Это потому, что он написан на просторечии. Там мало ученых бесед. В моем романе речь идет о войне, кухне и мире!
Ф. Б.: Антонио Табукки, должен вам признаться, что, когда я слышу музыку к фильмам Феллини, я думаю об отдельных очень волнительных моментах вашей книги «Становится все позже». Это сборник из 17 писем плюс еще одно, не подписанное и не датированное, написанное неизвестно кем, адресованное женщинам и рассказывающее о воспоминаниях детства. В этом письме речь идет о музыке, фотографии, путешествиях, которые главный герой не смог совершить. Скажите, откуда в вас эта склонность к фрагментарности? От вашего кумира Пессоа? Фернандо Антонио Ногейра Пессоа

А. Т.: Не думаю. Пессоа написал только один роман, который не успел опубликовать, потому что умер в 47 лет. Но у него был четко выстроенный мир. Я живу в другую эпоху, когда все, что у нас осталось, — это фрагменты, обломки. К счастью, Пессоа умер в
Ф. Б.: Это странно. Потому что складывается впечатление — и это, возможно, противопоставляет вас Умберто Эко, — что вам осточертел традиционный, классический роман с завязкой, развитием и концовкой. Вам хочется все поломать?
А. Т.: Да нет, не сказать, чтобы хотелось. Традиционный роман сам ломается, без моего участия. Роман ведь самостоятельный организм, со своей собственной физиологией и эволюцией — или инволюцией, если хотите. Он мутирует, приспосабливается к новой среде. Как растение. Возможно, в атмосфере есть
Ф. Б.: У вас есть свой способ ловить моменты озарения. Вы опираетесь на усилие памяти и в то же время добавляете к нему отдельные, точечные детали. Прустовский метод, по сути.
А. Т.: У Рильке есть стихи про ангелов и марионеток. Для меня, который в жизни, в мире является марионеткой, фигура ангела представляется очень важной, если она может с бедной марионеткой разговаривать. Я человек, далекий от Церкви, я не верю в бессмертие души, но даже самые примитивные творения ищут абсолют. Пусть даже это

Ф. Б.: С Умберто Эко вас сближает ваша эрудиция. В постскриптуме у вас есть следующие весьма любопытные строки: «Если мне не изменяет память, этот роман в форме писем начал рождаться в период осеннего равноденствия 1995 года. В то время я интересовался Садегом Хедаятом Садег Хедаят
А. Т.: Мы писатели старой гвардии. У нас за плечами четыре тысячи лет опыта.
Ф. Б.: Выглядите вы значительно моложе!
А. Т.: Но скинуть этот опыт с плеч мы не можем. «Гильгамеш» начал создаваться за две тысячи лет до Рождества Христова. Мы наследники очень древней культуры. И девственниками нас не назовешь. Я с недоверием отношусь к писателям, которые говорят: «Я никому не подражал, я не испытывал никакого стороннего влияния…» Должен вам признаться, что на меня влияет решительно все. Я подвержен всем мыслимым влияниям!
Ф. Б.: Может, это итальянская особенность?
У. Э.: Нет ничего более лживого, чем невинность!
Ф. Б.: В одном вашем интервью я прочел, что вы советуете писателю, застрявшему на
А. Т.: Да, я всегда к нему прибегаю. Для нас, бедолаг, которые вынуждены жить в повседневности, если вдруг не приходит автобус — значит, ждать бесполезно, надо идти пешком до следующей остановки. Иначе говоря, если ваша книга, ваша история застопорилась, то вы, писатель, должны сменить местоположение. Или, если это метро, ехать другим маршрутом. Надо быть гибким. И литература при этом, заметьте, еще весьма щедра. Она к нам благоволит. Она к нам благоволила много веков подряд, не задавая лишних вопросов, не вставляя палки в колеса. Приняла и стихотворение Неруды про морковку, и историю Гавроша Виктора Гюго. У нее всеприемлющее, щедрое чрево. Она не требует от вас кредитку. Надо ее ценить, любить. Это хранилище памяти.
Ф. Б.: В эссе, озаглавленном «Lector in fabula», вы, Умберто Эко, объясняете, что пишете для идеального читателя, собеседника. А вы, Антонио Табукки, вы пишете для других или для себя? Нет ли опасности, если пишешь урывками, с перерывами, потерять своего читателя?
А. Т.: По правде говоря, я думаю, что писатель пишет главным образом для себя. Его одолевает необъяснимая потребность
Ф. Б. Не хотите ли
А. Т.: Отвечу кратко. Она абсолютно права. Эта книга маскирует мою великую трусость и абсолютную беспомощность перед жизнью. Порой литература выявляет нашу некомпетентность. В самом деле, когда я пишу, я обращаюсь к женской ипостаси, к женскому естеству. Это естество в глубинном смысле слова — не гениталии, не вагина и т. д., а чрево в его физическом, символическом, метафорическом значении, исток всего сущего. Это вопрос, который мужчина в литературе постоянно задает женщине, олицетворяющей собой тайну человечества. Литература — это суррогат, замена, подмена. Может, правильней молчать, оставить в покое литературу и погрузиться в женское лоно. Но я на это уже не способен…








