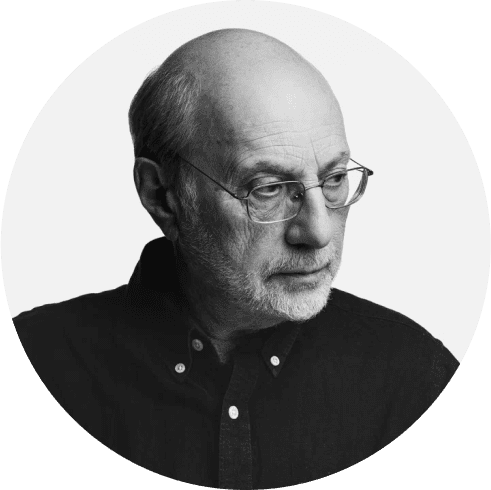Михаил Айзенберг. Стихотворения и другие слова
Третий выпуск проекта «Автор среди нас» — антологии современной поэзии в авторских прочтениях. Его герой, поэт Михаил Айзенберг, читает свои стихи, от ранних до написанных совсем недавно, а еще рассказывает о неподцензурной культурной жизни конца прошлого века, вспоминает московские кружки и друзей, уехавших от советской власти в 1970–80-х годах
Предисловие Андрея Курилкина — о том, что роднит Айзенберга с Тютчевым и Мандельштамом и как его стихи высвобождают скрытые силы языка
Официальная поэтическая биография Михаила Айзенберга насчитывает уже больше 50 лет — его самые старшие опубликованные стихи датируются 1969 годом (Айзенберг родился в 1948-м). Но это не значит, что эти стихи были опубликованы тогда же, когда написаны. Наоборот, примерно половину этого полувекового срока Айзенберг вообще не печатался (за исключением считаных подборок в тамиздате). Его первая напечатанная в России книга увидела свет только в 1993 году и в действительности по счету была седьмой: шесть предыдущих, составленных в 1970–80-е, существовали только в самодельном виде.
Важно понимать, что Айзенберг, как и многие другие поэты
На рубеже 1980–90-х, когда эти новые стихи начинают печататься и звучать со сцены и получают наконец своего сколько-нибудь «широкого» читателя, Айзенберг становится своего рода идеологом новейшей поэзии — автором ее манифестов, осведомленным и преданным цеху критиком (его эссе о поэзии и поэтах собраны в три книги). На рубеже
Однако эта преданность цеху и многочисленные заслуги перед ним не дополняют, как это часто бывает, а лишь оттеняют фигуру Айзенберга-поэта. Удивительно внимательный к своим современникам, в собственных поэтических текстах он совершенно независим от литературного сегодня. Его литературный круг задается скорее личными отношениями, а не литературными связями (в конце
Ближайшие поэтические родственники Айзенберга — это Тютчев и Мандельштам. С Тютчевым его соединяют нацеленная на природу созерцательность, ярко выраженные фенологические интересы. Но природа у Айзенберга — это не метафора внутреннего состояния человека и не часть пантеистического единства, в котором человек сливается с окружающим его миром. Природа у Айзенберга не намекает на существование скрытой от нас изнанки мира — она и есть «другой», метафизический мир, мир внутренних сил и движений, в котором мы, если верить его стихам — а не верить им невозможно, — и существуем в действительности. Родство Айзенберга с Мандельштамом — в той совершенно особой роли, которую в его стихах получает язык: у Айзенберга он оказывается не материалом, средством (как в «обычных» стихах), и не героем, темой (как в каламбурах и других случаях языкового мастерства, подминающего под себя «план содержания»), но самóй говорящей инстанцией. Стихи Айзенберга высвобождают скрытые силы языка — как будто автор отходит в сторону, а язык обретает собственный, отдельный от него голос и делится с нами своим знанием о мире. Он говорит с помощью знакомых слов, но это всегда новое знание — и для нас, и, главное, для самого автора.
Именно поэтому тексты Айзенберга нередко кажутся непонятными, «темными» и именно поэтому обладают подлинным гипнотическим эффектом. Догадки, которые они вызывают, быстро сменяющие друг друга тени значений волнуют больше, чем могло бы волновать удовлетворение от расшифровки изощренного ребуса. Стихи Айзенберга не ребус, который требует усидчивости или изобретательности, но сгустки высвобожденной автором языковой материи, которые свидетельствуют о метафизической природе нашего мира, его исторических обстоятельств и повседневного ландшафта. Свидетельствуют, предъявляют, а не рассказывают или описывают — потому что сами являются частью этого метафизического, «внутреннего» мира, а не его отражением.