Чтение на 15 минут: «Записки переводчика-рецидивиста»
Цыганская судьба отчислений за песню «Мохнатый шмель — на душистый хмель…» и лев, узнанный по когтям. В издательстве «Иллюминатор» вышли воспоминания переводчика Григория Кружкова. Публикуем отрывок о его работе с поэзией Киплинга

Перевод всегда приключение. Вот что произошло со стихотворением Киплинга The Gipsy Trail, дословно «Тропа цыгана». Там была строка, повторяющаяся рефреном: Follow the Romany patteran, то есть «следуй за цыганским патераном». Словарь объясняет это загадочное слово как знак на тропе, оставляемый цыганами для своих сородичей: это может быть
Так вперед! — за цыганской звездой
кочевой —
К синим айсбергам стылых морей,
Где искрятся суда от намерзшего льда
Под сияньем полярных огней.
Так вперед — за цыганской звездой
кочевой —
До ревущих южных широт,
Где свирепая буря, как божья метла,
Океанскую пыль метет…
Очень эффектны, живописны у Киплинга эти четыре строфы, изображающие четыре стороны света: север, юг, запад и восток; в них как бы материализуется выражение «ступай на все четыре стороны». Мне тотчас вспомнились еще два стихотворения, в которых используется тот же поэтический ход.
Во-первых, это древнеирландское стихотворение «Буря» (примерно XI век), в котором есть такие строфы:
От Восхода ветер пал,
волны смял и растрепал;
мчит он, буйный, на Закат,
где валы во тьме кипят,
где огней дневных привал.
От Полунощи второй
пал на море ветер злой;
с гиком гонит он валы
вдаль, где кличут журавли
над полуденной волной.
От Заката ветер пал,
прямо в уши грянул шквал;
мчит он, шумный, на Восход,
где из бездны вод растет
Древо солнца, светоч ал.
От Полудня ветер пал;
остров Скит в волнах пропал;
пена белая летит
до вершины Калад-Нит,
в плащ одев уступы скал.
Во-вторых, это стихи французского поэта Алена Боске (1919–1998):
Квадрат
У квадрата остался единственный Юг —
орел, уставший от ягнят и огня;
единственный Север —
ослепший кристалл,
пингвин, занесенный пургой;
Восток, где пряные
пышноволосые зори
навевают разбойничьи мысли;
и Запад, где высятся
храмы-квадраты,
воздвигнутые в честь квадрата,
и несть ни числа им, ни счета…
Это обращение взгляда на четыре стороны сразу размыкает горизонт, помещая читателя в центр огромного пространства и напоминая об универсуме, в котором происходит всякая человеческая драма, — а это и есть главная функция поэзии. Но кто у кого позаимствовал этот прием?
Приключения с патераном на этом не закончились. Стихотворение «За цыганской звездой» («Мохнатый шмель — на душистый хмель…»), положенное на музыку композитором Андреем Петровым, прозвучало в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» и на

Между прочим, о том, что мой перевод использовали в фильме Рязанова, я не подозревал, пока неожиданно не услышал в кинозале свой текст, превращенный в цыганский романс, и это был шок — слова и музыка у меня никак не совмещались. Ничего, прошло время, я привык к мелодии и к исполнению.
Но и это не последняя глава. Оказалось, что моего «Мохнатого шмеля» исполняют в ресторанах по всей стране, по радио и так далее, и отовсюду идут отчисления в Российское авторское агентство. Отчисления пустячные, но в месяц они давали уже ощутимую сумму, которую я назвал стипендией имени Киплинга. В конце года я решил съездить за накопившимися капиталами в РАО, получил деньги и положил их в задний карман рюкзака. В метро на остановке в вагон влетела цыганка с парой ребятишек. Они
Вывод, который я сделал из всей этой истории, такой: если
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too…
В чем тут трудность для переводчика? В том, что слова «если» в начале строки никак не избежать: оно повторяется девять раз и образует каркас стихотворения. Но в оригинале стихотворный размер — ямб, а
О, если ты покоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг…
Однако хорошо ли это? Киплинг — мужественный, солдатский поэт, у него в стихах никаких пафосных «о» нет и быть не может. Он мастер баллады (его первая книга стихов называлась «Баллады казармы»), а отнюдь не оды.
Лозинский избрал другой путь: он вообще пренебрег словом «если» и перевел речь из условного наклонения в повелительное, озаглавив свой перевод «Заповедь»:
Владей собой среди толпы смятенной…
Я придумал третий путь — заменил ямб анапестом: «Если ты в обезумевшей буйной толпе…» Ведь точность в переводе должна быть не буквальная, но функциональная. А функция анапеста в русском стихе близка к функции ямба, и тот и другой размер употребляется в переводах английских баллад. Например, так:
Двенадцать месяцев в году,
Считай иль не считай.
Но самый радостный в году
Веселый месяц май.
Это ямб. А вот как звучит анапест:
До рассвета поднявшись, коня оседлал
Знаменитый Смальгольмский барон;
И без отдыха гнал, меж утесов и скал,
Он коня, торопясь в Бротерстон «Замок Смальгольм, или Иванов вечер». Перевод Василия Жуковского..
Мне кажется, что это даже правильно: менять иногда английский ямб на русский анапест. Это снимает утомительное для русского слуха однообразие ритма. Ведь ямбом написано 95 процентов всех английских стихов; если так всегда перелагать их на русский язык, можно затосковать. Ну и стоит учесть, что русские слова длиннее, анапест дает строке дышать.
Итак, я привил к киплинговскому «Если» размер вальтер-скоттовской баллады в переводе Жуковского: «До рассвета поднявшись, коня оседлал…» И у меня получилось:
Если ты в обезумевшей, буйной толпе
Можешь выстоять, неколебим,
Не поддаться смятенью — и верить себе,
И простить малодушье другим;
Если выдержать можешь глухую вражду,
Как сраженью, терпенью учась,
Пощадить наглеца и забыть клевету,
Благородством своим не кичась.
<…>
Если прямо, без лести умеешь вести
Разговор с королем и с толпой,
Если дружбу и злобу встречая в пути,
Ты всегда остаешься собой;
Если правишь судьбою своей ты один,
Каждый миг проживая, как век,
Значит, ты — настоящий мужчина, мой сын,
Даже больше того — Человек!
Тут заодно разрешилась еще одна переводческая проблема. Последняя строка у Киплинга звучит так:
And — which is more — you’ll be a Man, my son!
Man означает и мужчину, и человека. Оба этих смысла проявлены в моем переводе, но слово «человек» поставлено выше «мужчины»; что, как мне кажется, и имел в виду автор.
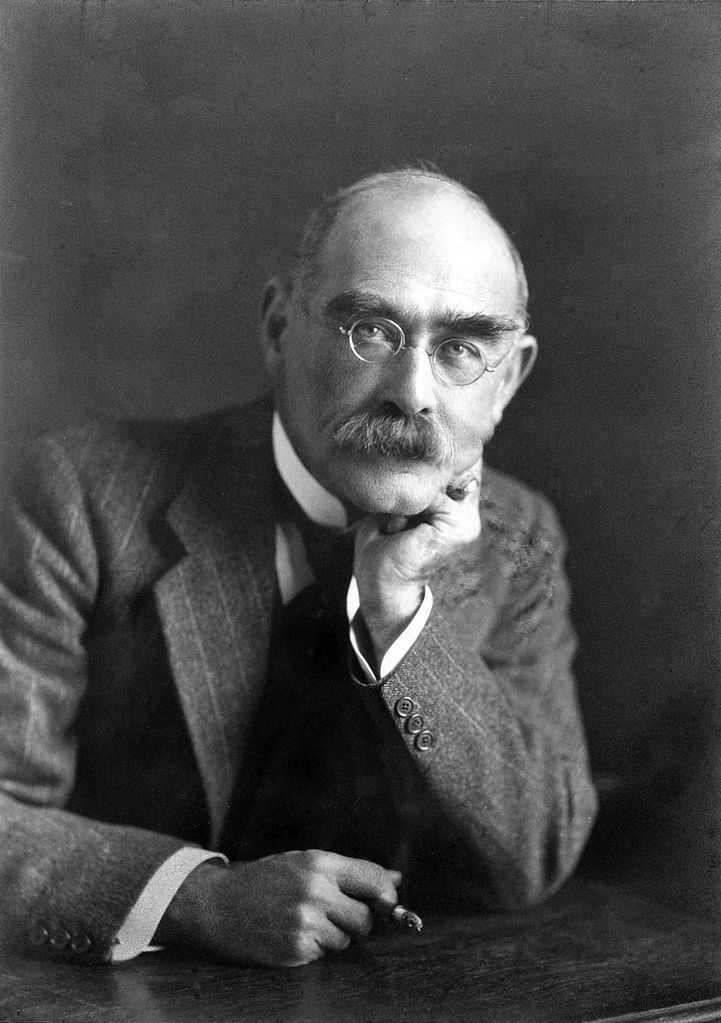
Вот еще один пример из Киплинга, стихотворение The Thousandth Man:
One man in a thousand, Solomon says,
Will stick more close than a brother.
And it’s worth while seeking him half your days
If you find him before the other.
Nine hundred and ninety-nine depend
On what the world sees in you,
But the Thousandth Man will stand your friend
With the whole round world agin you.
Запихнуть в текст «тысячного человека» можно, но «девятьсот девяносто девять» — вряд ли. Интуиция, да и простой расчет подсказывают, что
Сотый
Бывает друг, сказал Соломон,
Который ближе, чем брат.
Но прежде, чем встретится в жизни он,
Ты ошибешься стократ.
Девяносто девять в твоей душе
Узрят лишь собственный грех,
И только сотый рядом с тобой
Станет один против всех.
Ни обольщением, ни мольбой
Друга не обрести.
Девяносто девять пойдут с тобой,
Покуда им по пути,
Покуда им светит слава твоя,
Твоя удача влечет.
И только сотый тебя спасти
Бросится в водоворот.
Но еще более примечательный случай, чем с «Тысячным человеком», ставшим только «Сотым», произошел со стихотворением Киплинга Boots с подзаголовком Infantry Columns.

Представьте себе: британские пехотные батальоны идут по Африке. Идут час за часом, день за днем, а дороге нет конца. Жара, пыль в горле, и только солдатские башмаки, монотонно двигающиеся перед тобой и позади тебя: раз-два, раз-два… И в стихах повторяется тем же монотонным рефреном:
Boots — boots — boots — boots — moving up and down again!
Как это перевести — вот задача. Башмаки, ботинки, бутсы? Никакие слова длиннее одного слога тут не годятся, а односложные — да где же их взять в русском языке…
И вот мы читаем перевод:
День — ночь — день — ночь — мы идем по Африке,
День — ночь — день — ночь — все по той же Африке
(Пыль — пыль — пыль — пыль — от шагающих сапог!)
Отпуска нет на войне!
Почему никто из тех, кто переводил эти стихи после Ады Оношкович-Яцыны (а среди них были такие мастера, как Самуил Маршак), не смог превзойти перевод молодой и никому не известной поэтессы, члена студии Михаила Лозинского, которой в момент опубликования этих переводов было только двадцать пять лет?
Ответ я нашел в дневниках самой Ады Ивановны Оношкович-Яцыны (1896–1935), опубликованных в альманахе «Минувшее». Сохранившиеся тетради рассказывают о литературной жизни Петербурга начала 20-х годов, о переводческой студии, о стихах, друзьях и подругах — и о любви к своему учителю, «мэтру», «мэтрику», «шерфолю» Михаилу Лозинскому. Как память об этой романтической истории остался русский Киплинг. Потому что стихи и любовь шли вместе. Аде Ивановне в голову не приходило скрывать, как «мэтр» помогал ей, редактируя ее переводы. Вот одна фраза из записи от 19 августа 1921 года:
«Я успела поспать, пока он поправлял моего Киплинга, ходили гулять, я читала ему стихи… Нет слов, чтоб благодарить пославшего нам это счастье» А. И. Оношкович-Яцына. Дневник 1919–1927 // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 13. М., СПб., 1993..
Что такое «поправлять», кажется, ясно. Мастер такого класса, как Лозинский, «поправляющий» перевод своей ученицы, делает главную часть работы — ту, что дает ей жизнь на многие десятилетия. А каким великим мастером был Михаил Лозинский, переводчик «Божественной комедии» Данте, это всем понятно. Не он ли и разрубил гордиев узел, заменив «башмаки» на «пыль»? У меня почти нет сомнений. Ex ungue leonem — «по когтям узнают льва».







